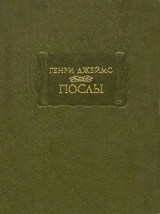
Текст книги "Послы"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 37 страниц)
– Ах, дорогая моя леди, – не замедлил Стрезер с ответом, который, – чему он и сам удивился – оказался у него наготове, – дорогая моя леди, матушка Чэда сама его навестила. И уже целый месяц не отпускает от себя и держит очень крепко, что он, без сомнения, ох как почувствовал. Он усердно ее развлекал, а она не скупилась на благодарности. Вы предлагаете ему отправиться домой за дополнительной порцией?
Не сразу, но все же она тоже нашлась с ответом.
– Понимаю. Вы этого отнюдь не предлагаете. И не предлагали. А уж вы знаете, что ему нужно.
– И вы знали бы, дорогая, – сказал он мягко, – если увидели бы ее хоть раз.
– Увидела бы миссис Ньюсем?
– Увидели бы Сару… И для меня и для Чэда с ее приездом все разрешилось.
– И разрешилось, – задумчиво проговорила Мария, – таким чрезвычайным образом.
– Все дело в том, видите ли, – сказал он, словно пытаясь оправдаться, – что она – воплощение холодной рассудочности, и поэтому изложила нам свою позицию трезво и холодно, ничего не упустив. Теперь мы знаем, что думает о нас миссис Ньюсем.
Тут Мария, внимательно слушавшая, внезапно его прервала.
– А ведь я так и не сумела – раз уж зашла об этом речь – понять до конца, что вы, лично вы, о ней думаете. Разве вы – будем уж откровенны – не увлечены ею чуть-чуть?
– Такой же вопрос, – не уступая ей в стремительности, сказал Стрезер, – задал мне вчера вечером Чэд. Он спросил, неужели меня не волнует, что я теряю роскошное будущее. Впрочем, – поспешил он добавить, – естественный вопрос.
– Естественный? Только я хочу обратить ваше внимание, – сказала мисс Гостри, – что я такого вопроса вам не задаю. Меня интересует другое: неужели вам безразлично, что вы лишитесь вашего права на миссис Ньюсем как таковую.
– Отнюдь не безразлично, – произнес он очень веско. – Как раз наоборот. Меня с первого момента заботило, какое впечатление мои наблюдения произведут на нее, – подавляло, беспокоило, даже терзало. И хотелось лишь одного, чтобы она увидела то, что я здесь увидел. Я был очень расстроен, разочарован, удручен ее нежеланием это видеть – так же, как она тем, что сочла моим неистовым упрямством.
– Вы хотите сказать, она возмущалась вами, а вы ею?
Стрезер замялся.
– Я, право, не из тех, кто легко возмущается. Но, с другой стороны, я сделал много шагов ей навстречу, она же не сдвинулась и на дюйм.
– Стало быть, сейчас, – сделала свои выводы мисс Гостри, – вы находитесь на стадии взаимных обид.
– Нет… я только вам об этом рассказал. С Сарой я кроток, как ягненок. Ягненок, припертый к стене. Куда же деваться, если вас туда отчаянно толкают.
Она внимательно посмотрела на него.
– Да еще сбивают с ног?
– Пожалуй. У меня такое ощущение, будто я сильно грохнулся об пол – стало быть, меня и вправду сбили с ног.
Она мысленно перебрала его реплики – скорее в надежде в них разобраться, чем логически выстроить.
– Дело в том, мне кажется, что вы обманули ее ожидания…
– Сразу же по приезде? Возможно. Признаюсь, я открыл в себе много неожиданного.
– И конечно, – вставила Мария, – я тут сыграла не последнюю роль.
– В том, что я открыл в себе?..
– Назовем это так, – рассмеялась она, – раз уж вы из деликатности избегаете сказать, что и я тоже. Естественно, – добавила она, – вы ведь и приехали сюда, чтобы наслаждаться неожиданным – более или менее.
– Естественно! – Он оценил намек.
– Но все неожиданное досталось вам, – продолжала анализировать она, – а ей —ничего.
Он снова остановился перед мисс Гостри: кажется, она попала в самую точку.
– В этом ее беда – она не признает никаких неожиданностей. Позиция, которая ее полностью описывает и представляет; к тому же соответствует уже сказанному – она, как я назвал это, идеальное воплощение холодной рассудочности. Она считает, что все заранее расчислила и для меня, и для себя. Программа составлена, и в ней нет свободного места, никаких полей для корректив. Миссис Ньюсем заполнена до отказа, предельно плотно упакована, а если вам желательно еще что-то вместить или заменить, изъяв и внеся…
– Придется всю ее саму переворошить?
– А это приведет к тому, – сказал Стрезер, – что придется от нее – в нравственном и интеллектуальном смысле – освобождаться.
– Что вы, по всей очевидности, – не удержалась Мария, – в сущности, уже сделали.
Ее собеседник только вскинул голову:
– Я не сумел тронуть ее сердце. Ее ничто не трогает. Сейчас я увидел это, как никогда прежде; она – цельная натура и по-своему совершенна, – продолжал он, – а из этого следует, что любое изменение воспринимается ею как нечто себе во вред. Во всяком случае, – закончил он, – Сара предъявила мне миссис Ньюсем, как таковую, – так вы изволили выразиться? – со всем ее нравственным и интеллектуальным комплексом или наоборот, которому я должен сказать «да» или «нет».
Это откровение заставило мисс Гостри еще глубже задуматься.
– Заставлять насильно принимать целый нравственно-интеллектуальный комплекс или набор! Ну знаете!
– В сущности, в Вулете я его принимал, – сказал он. – Правда, там – дома – я не совсем понимал это.
– В таких случаях редко кто способен, – поддержала его мисс Гостри, – охватить весь объем, как вы, наверное, сказали бы, подобного набора. Но мало-помалу он вырисовывается, все время маяча перед вами, пока наконец вы не видите его целиком.
– Я вижу его целиком, – как-то рассеянно отозвался он, меж тем как глаза его словно были прикованы к гигантскому айсбергу в ледяных синих водах северного моря. – И он прекрасен! – вдруг, как-то не к месту, воскликнул он.
Но мисс Гостри, уже привыкшая к его скачкам, крепко держалась нити разговора.
– Да уж! Что может быть прекраснее, – когда тщишься забрать в свои руки других, – чем отсутствие воображения!
Это сразу повернуло его мысли в иное русло.
– Совершенно верно! То же самое я вчера вечером сказал Чэду. То есть сказал, что у него начисто отсутствует воображение.
– Стало быть, нечто общее у него со своей матушкой есть, – проговорила Мария.
– Общее то, что он умеет «забирать в руки» других, как вы выразились. И все же забирать в руки других, – добавил он: эта тема была ему явно интересна, – можно и при богатом воображении.
– Вы говорите о мадам де Вионе? – высказала догадку мисс Гостри.
– О, у нее бездна воображения.
– Не спорю… и с давних пор. Впрочем, есть разные способы забирать в свои руки других.
– Без сомнения… У вас, например!..
И он в самом благодушном тоне хотел было продолжать, но она не дала:
– Положим, я этим не занимаюсь, так что нет смысла устанавливать, богатое ли у меня воображение. А вот у вас его чудовищно много. Больше, чем у кого бы то ни было.
Это его поразило.
– Чэд то же самое мне заявил.
– Вот видите… Хотя не ему на это жаловаться.
– А он и не жалуется, – возразил Стрезер.
– Еще бы! Вот уж чего недоставало! А в какой связи возник этот вопрос? – поинтересовалась Мария.
– Он спросил меня, что это мне дает.
Последовала пауза.
– Ну, поскольку я спросила вас о том же, я уже получила ответ. Вы обладаете сокровищами!
Но его мысли уже ушли в сторону, и он заговорил о другом:
– Все же миссис Ньюсем не лишена воображения. Вот вообразила же она – чего никак нельзя забывать! – то есть тогда воображала и, очевидно, воображает и сейчас – всякие ужасы, которые мне надлежало здесь обнаружить. Я и был законтрактован, по ее мнению – совершенно непоколебимому, – их обнаружить. И то, что я их не обнаружил, не сумел или, как ей видится, не захотел, является в ее глазах постыдным нарушением контракта. Этого она не в состоянии вынести. Отсюда и разочарование.
– Вы имеете в виду, что вам надлежало найти ужасным самого Чэда.
– Нет, женщину.
– Ужасную?
– Такую, какой миссис Ньюсем себе ее упорно воображала.
Стрезер замолчал, словно любые слова, которые он мог употребить, ничего не добавили бы к этой картине. Его собеседница тоже молчала, размышляя.
– Она вообразила вздор – что, впрочем, ничего не меняет.
– Вздор? О! – только и произнес Стрезер.
– Она вообразила пошлость. И это свидетельство низких мыслей.
Он, однако, не стал судить так строго:
– Всего лишь неосведомленности.
– Непоколебимость плюс неосведомленность – что может быть хуже?
После такого вопроса Стрезер мог бы воздержаться от дальнейших обсуждений, но он предпочел не придавать ему значения.
– Сара уже обо всем осведомлена – сейчас, но она по-прежнему придерживается версии ужасов.
– О да. Она ведь тоже из непоколебимых, на чем иногда очень удобно сыграть. Если в данном случае невозможно отрицать, что Мари прелестна, можно, по крайней мере, отрицать, что она хороший человек.
– Я, напротив, утверждаю, что ее общество хорошо для Чэда.
– Однако не утверждаете, – она, видимо, добивалась тут полной ясности, – что оно хорошо для вас.
Но он продолжал, оставив ее слова без внимания:
– И к этому выводу я хотел бы, чтобы они сами пришли, увидели собственными глазами: ничего, кроме хорошего, в дружбе с ней для него нет.
– И теперь, когда они увидели, они все равно упорствуют, утверждая, что ничего хорошего в ней вообще нет.
– Увы, по их мнению, – вдруг признался Стрезер, – ее общество дурно даже для меня. Но они упорствуют, потому что закоснели в своих представлениях, что для нас обоих хорошо, а что плохо.
– Вам, для начала, – Мария, с готовностью принимая в нем участие, ограничилась одним вопросом, – хорошо бы изгнать из вашей жизни и, по возможности, из вашей памяти ужасного коварного трутня, на которого мне придется, как ни неприятно, все же им намекнуть, и, что даже важнее, избавиться от более явного, а потому чуть менее страшного зла – от некой особы, чьим союзником вы тут заделались. Правда, последнее сравнительно просто. В конце концов, вам ничего не стоит в крайнем случае отказаться от такого ничтожного существа, как я.
– В конце концов, мне ничего не стоит в крайнем случае отказаться от такого ничтожного существа, как вы. – Ирония была столь очевидна, что не требовала усилий. – В конце концов, мне ничего не стоит в крайнем случае забыть это существо.
– И прекрасно. Будем считать это выполнимым. Но мистеру Ньюсему придется забыть нечто более ценное. Как он с этим справится?
– Да, тяжкое дело. Именно к этому я должен был его склонить, именно тут мне предлагалось обработать его и оказать ему помощь.
Она выслушала его молча и приняла, ничего не смягчая, – возможно, потому, что ничего нового он ей не открыл, и она мысленно соединила все факты, не показывая, какими нитями их связала.
– А вы помните наши беседы в Честере и Лондоне о том, как я стану вас направлять?
Она упомянула об этих давно ушедших в прошлое разговорах, словно в названных городах они вели их неделями.
– Вы и сейчас меня направляете.
– Пожалуй. И все же, худшее – вы оставили для него достаточно места – возможно, еще впереди. Вы еще можете рухнуть.
– Да, вполне. Но вы не отступитесь…
Он замялся, она молчала.
– Не отступлюсь от вас?..
– Пока я смогу выдержать.
Теперь она, в свой черед, уклонилась в сторону.
– Мистер Ньюсем и мадам де Вионе скорее всего, как мы уже говорили, уедут за город. Сколько, вы полагаете, вам удастся выдержать без них?
Стрезер ответил вопросом на вопрос:
– Вы хотите сказать – уедут, чтобы избавиться от меня?
Ее ответ прозвучал напряженно:
– Не сочтите за грубость, если я скажу, мне кажется, они не прочь побыть без вас.
Он вновь бросил на нее жесткий взгляд, словно в мыслях у него промелькнуло что-то сильно его задевшее, он даже побледнел. Но заставил себя улыбнуться.
– Вы хотите сказать, после того что они со мной сделали?
– После того, что Мари с вами сделала.
Он только рассмеялся в ответ; он уже владел собой.
– Но она еще ничего не сделала.
XXX
Несколько дней спустя он сел в поезд на станции – и до станции, выбранной наугад; стояли редкие, что бы там ни происходило, дни, и он решил отправиться в путь, повинуясь побуждению – весьма наивному – целиком посвятить один из них французскому ландшафту с его неповторимо прохладной зеленью, в который до сих пор заглядывал лишь через продолговатое оконце картинной рамы. Сельская Франция оставалась для него по большей части областью воображения – фоном для художественного вымысла, питательной средой живописи, питомником литературы; по сути, столь же далекой, как Греция, и, по сути, почти столь же малодоступной. Романтическое настроение могло сложиться у Стрезера из элементов весьма легковесных, и даже после всего, через что, как ему казалось, он недавно «прошел», он был способен испытывать волнение от возможности увидеть где-то что-то, напоминавшее маленькое полотно Ламбине, которое много лет назад покорило его в бостонской лавке и, нелепо, навсегда запало в память. Пейзаж этот, насколько ему помнилось, предлагался по баснословно низкой, если верить знатокам, для кисти Ламбине цене – цене, услышав которую наш друг особенно ясно осознал себя бедняком, будучи вынужден признать, что даже на таких условиях покупка остается для него неисполнимой мечтой. От мечты он все же отказался не сразу и еще целый час прикидывал и перебирал в уме возможность ее осуществления. Это была единственная безумная попытка в его жизни купить произведение искусства. Попытка, скажем прямо, весьма скромная, зато память о ней, без всяких на то оснований, но в силу каких-то случайных ассоциаций, была сладостной. Пейзаж Ламбине остался с ним навсегда как материальный предмет, невозможность приобретения которого он всю свою жизнь особенно остро ощущал, – то единственное творение, ради которого он был готов переступить через свою природную застенчивость. Он понимал: доведись ему увидеть этот пейзаж снова, он, пожалуй, испытал бы удар, даже шок, и у него ни разу не возникло желания повернуть вспять колесо времени, чтобы снова взглянуть на пейзаж Ламбине, каким тот предстал перед ним тогда под падающим сверху светом в темно-бордовом храме искусств на Тремонт-стрит. Однако совсем другое дело увидеть запечатленный памятью сплав разложенным на составные части, содействовать восстановлению всего пережитого в тот далекий час – пыльный день в Бостоне, задний фасад Фитчбергского вокзала, темно-бордовое святилище, изумрудное видение, смехотворно дешевая цена, тополя, ивы, камыши, река, серебрящееся солнечное небо, темная стена леса, закрывавшая горизонт.
Выбирая поезд, Стрезер ставил лишь одно условие – чтобы тот, отправляясь banlieue, [98]98
Здесь: за городскую черту (фр.).
[Закрыть]почаще останавливался, а в вопросе, где сойти, целиком положился на благожелательный день, который сам должен был ему это подсказать. В своей идее предстоящего похода он исходил из представления, что можно выйти в любом месте – не меньше, чем в часе езды от Парижа, – там, где он уловит намек на желанную ноту. Она, эта нота, прозвучала, чему содействовали погода, воздух, свет, краски и собственное расположение духа, примерно к исходу восьмидесяти минут; поезд остановился как раз там, где надо, и наш друг вышел из вагона с безмятежностью и уверенностью, как если бы прибыл на заранее условленную встречу. Не будем забывать, что в своем солидном возрасте он умел извлекать удовольствие из ничтожно малого, и, кстати, заметим, что и вправду шел на свидание – свидание с поблекшими бостонскими восторгами. Впрочем, не успел он сделать несколько шагов, как убедился, что тут будет чем их поддержать. Продолговатая золоченая рама раздвинулась вширь; тополя и ивы, камыши и река – река, названия которой он не знал, да и не хотел знать, – выстроились в превосходную композицию; серебристо-бирюзовое небо сияло как полированное; деревня слева была белая, церковь справа пепельно-серая; короче, все было на месте – именно то, что он хотел увидеть: это была Тремонт-стрит, это была Франция, это был Ламбине. И более того, сам он свободно разгуливал посреди этого пейзажа. Он затянул прогулку в полное свое удовольствие на целый час, двинувшись в сторону тенистого, лесистого горизонта, и так погрузился в свои впечатления и состояние праздности, что, уйдя в них с головой, чуть было не достиг темно-бордовой бостонской стены. Любопытно, без сомнения, что ему не потребовалось дополнительного времени, чтобы ощутить блаженный вкус праздности; но, по правде сказать, он уже привыкал к ней несколько дней – с тех пор, как уехали Пококи. А теперь шагал и шагал, словно утверждаясь в мысли, что ему почти нечего делать; ему и впрямь нечего было делать, разве только повернуть к ближайшему холму, на склоне которого он мог растянуться и слушать, как шелестят тополя, и откуда – проводя так день, день, исполненный к тому же приятного сознания наличия книги в кармане, – открывался достаточно широкий обзор, чтобы выбрать подходящую харчевню, где можно было позволить себе риск поужинать. Поезд на Париж проходил в девять двадцать, и наш друг уже видел себя в конце дня в небольшой зале с посыпанным песком полом; сидя за накрытым грубой белой скатертью столиком, он вкушал что-то жареное и вкусное, запиваемое настоящим виноградным вином. После чего уже в сумерках он мог, по желанию, проделать обратный путь на станцию либо пешком, либо нанять местную carriole [99]99
повозку (фр.).
[Закрыть]и болтать с возницей – возницей в непременно чистой крахмальной рубахе, с вязаным колпаком на голове и необыкновенным даром общительности – который, короче говоря, будет всю дорогу разглагольствовать о том, что думает французский народ, напоминая нашему путешественнику, как и весь эпизод, что-то из Мопассана. Стрезер уже слышал, как – впервые в воздухе Франции – его губы издают содержательные звуки, не вызывая в нем страха перед слушателем. Он все время боялся Чэда, и Марии, и мадам де Вионе, а больше всех Уэймарша, в присутствии которого, когда они вместе куда-нибудь выезжали, он так или иначе платился за несовершенство либо своего вокабуляра, либо произношения. Платился тем, что после каждой фразы ловил на себе взгляд Уэймарша.
Таковы были вольные образы, которыми принялась играть его фантазия, как только он свернул к склону холма, словно и вправду дружески приглашавшего под свои тополя, – склону, проведя на котором несколько наполненных шепотом листвы часов, наш друг окончательно убедился, какой удачной была его идея поехать за город. Он наслаждался сознанием успеха, сознанием гармонии вещей; все шло согласно его плану. Но более всего, пока он лежал на спине, утопая в душистой траве, его радовала мысль, что Сара и вправду уехала, а напряжение, владевшее им, и вправду улеглось; мир и покой, растворенные в этой мысли, были, возможно, обманчивы, но, так или иначе, все это время царили в его душе. И даже на полчаса навеяли сон; надвинув на глаза канотье – купленное только позавчера в память о соломенной шляпе Уэймарша, – он вновь погрузился в Ламбине. Кажется, он только сейчас обнаружил, что устал – устал не от ходьбы, а от внутренней работы, которая, он знал, продолжалась целых три месяца без перерыва. И вот результат – они уехали, и он рухнул; более того, он знал, куда рухнул, глубже падать было некуда. Но сознание того, что он обнаружил, достигнув конца своего падения, одарило его блаженным покоем, утешило и доставило радость. Вот об этом он и говорил мисс Гостри, объясняя, почему хотел бы остаться на лето в поредевшем Париже – Париже то ослепительном, то сумрачном, с его словно сбросившими часть своего веса колоннами и карнизами, с прохладной тенью под трепещущими от ветерка тентами во всю ширину авеню. Сейчас он вернулся мыслью к тому, как на следующий день, изложив все это мисс Гостри, он – в доказательство обретенной свободы – отправился ближе к вечеру навестить мадам де Вионе. А спустя день отправился снова, и результатом этих двух визитов, следствием нескольких часов, проведенных в ее обществе, явилось чувство, будто они видятся много и часто. Дерзкое намерение видеть ее часто, особенно утвердившееся в нем с того момента, когда он узнал, в чем его несправедливо обвиняют в Вулете, носило скорее умозрительный характер, и один из вопросов, над которым он сейчас размышлял, лежа под тополями, был – откуда в нем эта необычная робость, заставляющая его все время остерегаться. Да, теперь он несомненно от нее избавился, от этой своей необычайной робости. Чем же она стала, если за эту неделю так с него и не стерлась?
Его поразило, насколько объяснение было, по сути, просто: если он все еще осторожничал, на это была причина. Он и вправду боялся, как бы не погрешить против порядочности: если уж существовала опасность увлечься такой женщиной, наилучшим способом уберечь себя от нее было ждать, пока не обретешь на это право. В свете событий последних дней опасность увлечься мадам де Вионе чрезвычайно возросла – но, к счастью, и право на это тоже не вызывало сомнений. Нашему другу казалось, что с каждым следующим шагом он все больше в нем утверждался. И что могло сослужить ему тут лучшую службу, спрашивал он себя, как не то, что он сразу же заявил: он предпочитает, коль скоро ей все равно, не говорить ни о чем тягостном. Никогда в жизни он, произнеся эти слова, не приносил в жертву столько высоких материй; никогда еще, так адресуясь к мадам де Вионе, не мостил себе путь для легкомысленной беседы. Только позднее у него всплыло в памяти, что, искусно манипулируя лишь приятным, он тем самым изъял из их беседы почти все, о чем они прежде говорили; только позднее ему пришло на ум, что с этим новым тоном из их разговоров исчезло имя самого Чэда. Но больше всего сейчас на холме он размышлял о том, с какой очаровательной легкостью она перешла на новый тон. Лежа на спине, он мысленно перебирал все тона, какие, надо думать, были ей доступны и как, в любых обстоятельствах, она всегда, без всяких сомнений, берет правильный тон. Тогда ему хотелось, чтобы она почувствовала: он не преследует никаких целей и ждет от нее того же, и она дала понять, что чувствует, чего он хочет, а он – что благодарен ей за это, и разговор их происходил во всех отношениях так, словно он был у нее в первый раз. Были и другие, но пустые встречи: право, знай они, сколько между ними общего, они обошлись бы без многих сравнительно банальных тем. Обходились же они без них сейчас, без непременных учтивостей, даже без бесконечных «ах, ничего, ничего» – удивительно, как много умели они сказать друг другу, не обмолвясь и словом о том, что между ними происходило. Они могли говорить хотя бы о таких вопросах, как отличие Виктора Гюго от английских поэтов – Виктора Гюго, которого с кем только не сравнишь, и английских поэтов, которых наш друг, как ни странно, пусть очень избирательно и в старомодном духе, но хорошо знал. Тем не менее это служило его цели: он как бы говорил ей: «Любите меня, уж если зашла об этом речь, не за то, что открыто и не очень ловко, как принято говорить, я „делаю“ для вас, любите меня за что-нибудь другое, – за что угодно – по вашему выбору». И еще: «Я не хочу, чтобы вы были для меня просто дамой, с которой я познакомился благодаря моим несуразным отношениям с Чэдом – в высшей степени, Бог мой, несуразным! Будьте для меня, пожалуйста, такой, какой – а при вашем такте и уме вы всегда это поймете – мне в данный момент приятно вас видеть!» Такое пожелание выполнить нелегко; но если она и не выполняла его, то умела сделать другое, и время, которое они проводили вместе, текло незаметно, легко и быстро, претворяясь для него, растворяясь, в иллюзию счастливой праздничности. Однако, с другой стороны, он признавал, что, вероятно, не без причины, находясь в промежуточном, в подвешенном состоянии, опасался подстерегавшей его опасности согрешить против порядочности.
Весь остаток этого беззаботного дня он провел на фоне той же картины – так, по крайней мере, ему казалось, и, более чем когда-либо, находился под ее чарами, когда предвечерний час – так около шести – застал его дружески беседующим с дородной женщиной в белом чепце, с басовитым голосом, стоящей у дверей auberge [100]100
харчевни (фр.).
[Закрыть]самой большой в округе деревни – деревни, открывшейся его взору скоплением белого и синего, оправленного в медяную зелень, с рекой, текущей не то вверху, не то внизу – где именно, невозможно было определить, но несомненно где-то за окружавшим харчевню садом. Многое произошло с нашим другом за этот благодатный день: стряхнув с себя сонливость, он побродил у подножия холма; пришел в восторг – почти в экстаз – от еще одной старинной островерхой церквушки, аспидно-серой снаружи и наново выбеленной и убранной бумажными цветами внутри; заблудился и вновь вышел на дорогу; побеседовал с местными селянами, которые, ему на удивление, оказались людьми куда более сведущими, чем он ожидал; заговорил, преодолев страх, вполне бегло по-французски, опорожнил bock жидковатого пива, светлого, парижского, в са£ё ближайшей, но не самой большой деревни, и все это, не выходя за пределы продолговатой золоченой рамы. Рама сама раздавалась и вширь и вдаль настолько, насколько было угодно его душе – правда, ему просто везло. Наконец он вернулся на равнину, поближе к станциям и поездам и, направившись в сторону того места, откуда начал прогулку, очутился таким образом перед хозяйкой «Cheval Blanc», [101]101
«Белой Лошади» (фр.).
[Закрыть]которая встретила его с говорливым радушием, звучавшим словно постукивание сабо по булыжной мостовой, и нашла с ним общий язык на почве cotelette de veau à l'oseille [102]102
телячьей котлеты под щавелевым соусом (фр.).
[Закрыть]и последующих хлопот по его отбытию. Он отмерил добрый десяток миль, но не чувствовал усталости, лишь удовольствие, и, хотя весь день провел в одиночестве, ни разу даже не вспомнил об остальных, так погружен он был в свои переживания, в свою драму. Ее, эту драму, можно было считать уже миновавшей, достигшей апогея, и все же она, лишь представился случай, снова заявила о себе. И стоило ему наконец преодолеть ее, как она тут же напомнила о себе, и он чувствовал, что, как ни странно, все продолжается.
Потому что весь день он был во власти пленительной картины – картины, которая более, чем что-либо иное, служила сценой и подмостками, на которых даже шелест ив и оттенки неба были насыщены воздухом его драмы. Драма эта, ее персонажи – что только сейчас открылось ему – заполняли все пространство вокруг него, особенно удачным казалось, что они появились именно здесь, в предоставленной им обстановке, с какой-то неизбежностью. Словно эта обстановка делала их появление не только неизбежным, но чуть ли не естественным и неотъемлемым, а потому тут, по крайней мере, было легче и приятнее с ними ладить. Ни в одном другом месте Стрезер не чувствовал такого разительного контраста с обстановкой Вулета, как ощутил сейчас, заканчивая, к обоюдному их удовольствию, переговоры с хозяйкой «Cheval Blanc». Бедная и простая, скудная и примитивная обстановка ее харчевни была в высшей степени тем, что на его языке называлось «это настоящее», даже больше, чем старинные высокие покои мадам де Вионе, по которым разгуливал призрак Империи. За этим «настоящим» стояло еще очень многое из того ряда, с которым ему приходилось осваиваться; и было, разумеется, странно, но так оно было, что именно здесь оно получило полное выражение. Все его наблюдения, все до единого, нашли здесь свое место; каждое дуновение прохладного вечера вписывалось строкой в этот текст. Текст же этот говорил о том, что в подобных уголках все происходит так, как происходит, и тот, кто избрал их для своих прогулок, должен отдавать себе отчет, с чем будет иметь дело. А пока наш друг, во всяком случае, с удовольствием любовался – в том, что касалось деревни, – скоплением извилистого белого и синего, оправленного в медяную зелень, а заодно и глухим торцом, окрашенным в невесть какой цвет. Все это было частью испытываемого им удовольствия, словно подтверждая, насколько невинны его забавы; так же как его вполне удовлетворило, когда чуть позже и картина и рама истаяли вместе с подробным описанием хозяйкой тех яств, какими она могла утолить аппетит своего посетителя. Короче, он почувствовал уверенность, а это было главное – то, что ему хотелось почувствовать. Его даже нисколько не огорчило, когда хозяйка заявила, что сгол, по правде говоря, был накрыт для двух парижан, которые, в отличие от месье, прибыли по реке в собственной лодке и с полчаса назад попросили ее приготовить им ужин, какой сумеет, а сами отправились дальше полюбоваться окрестностями. Так что пока месье, если он не против, может пройти в сад – такой, какой уж есть, – куда она, с его разрешения, подаст ему – там стоят и столики и скамейки – в преддверии ужина кружку «горького». И туда же придет доложить о возможности нанять до станции экипаж; во всяком случае, чем-чем, a agrément [103]103
удовольствием (фр.).
[Закрыть]по части реки он будет обеспечен.
Следует, не медля, упомянуть, что в течение следующих двадцати минут месье получал agrément от многого другого, в особенности от почти нависшей над водой в конце сада небольшой простенькой беседки, чей заслуженный вид свидетельствовал о том, как много и с каким удовольствием ее посещали. Это была даже не беседка, а скорее чуть возвышавшийся над землей помост со скамейками и столиком, огражденный перильцами и снабженный навесом; отсюда открывался широкий обзор сизовато-синего потока, который, сделав невдалеке крутой поворот, сначала исчезал из виду, чтобы потом уже на значительном расстоянии появиться вновь. Было ясно, что это шаткое сооружение пользовалось большим спросом для воскресных и прочих пирушек. Стрезер расположился в нем и, хотя был уже изрядно голоден, находился в приятнейшем расположении духа. Уверенность в себе, которую он вдруг обрел, лишь укреплялась журчанием воды, подернутой рябью рекой, шелестом камышей на другом берегу, прохладой, навеваемой парой лодок, привязанных к грубо сколоченным мосткам. На той стороне – немного выше – зеленели луга под подернутым дымкой жемчужным небом, которое прорезали купы подстриженных деревьев, казавшиеся плоскими, как шпалеры, и, хотя остальная часть деревни раскинулась окрест, везде – куда ни глянь – было так пусто, что искушение усесться в одну из лодок рождалось само собой. По такой реке она поплыла бы даже прежде, чем гребец взялся за весла, легкие взмахи которых лишь способствовали бы полноте впечатления. Эта мысль так захватила нашего друга, что он даже поднялся на ноги, но от резкого движения вдруг почувствовал, как сильно устал, и прислонился к стояку, продолжая любоваться рекой. И тут он увидел нечто, что приковало его внимание.








