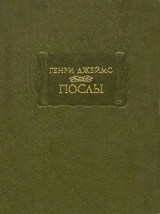
Текст книги "Послы"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц)
Генри Джеймс
Послы [1]1
Первое упоминание о «Послах» содержится в записной книжке Г. Джеймса за 1895 г., однако замысел романа приобрел отчетливые очертания лишь пять лет спустя. В письме своему постоянному американскому адресату, прозаику и критику Уильяму Дину Хоуэллсу (9 августа 1900 г.), Джеймс сообщает, что примерно год назад составил и показал будущему издателю (он был связан с нью-йоркской издательской фирмой «Харперз») подробный – около ста страниц – план книги, обладающей интересом «человеческим, драматическим, международным», но был вынужден временно отложить осуществление этого плана «по внешним причинам, связанным с экономическими обстоятельствами».
Покупка загородного дома (при сохранении лондонской квартиры в фешенебельном районе Девир-Гарденз) заставила Джеймса думать о заработке, и он увлекся мыслью написать повесть или небольшой роман, построив действие как серию эпизодов, воссоздающих беззаконную страсть и тайные свидания в старинном поместье. Издатели требовали, чтобы в этой истории непременно присутствовал еще и мистический элемент, что оказалось для Джеймса неисполнимым. В новом подробном плане, представленном издательству «Харперз» в сентябре 1900 г., нашли отражение некоторые мотивы замысла, оставшегося неосуществленным, но фактически эта версия уже представляла собой изложение фабулы «Послов».
Роман был закончен Джеймсом летом 1901 г.; остаются невыясненными причины, в силу которых готовая рукопись пролежала без движения до января 1903 г., когда началась ее журнальная публикация в «Норт америкен ревью» («Крылья голубки», над которыми Джеймс работал, уже закончив «Послов», увидели свет раньше). Сокращения, сделанные автором для журнального варианта, коснулись эпизодов, связанных с предысторией Чэда Ньюсема: были сняты главы 19, 28, 35 и часть главы 5, – почти весь этот материал восстановлен в отдельном английском (издательство «Метьюен»), а затем американском («Харперз») изданиях, появившихся осенью того же года.
Существенная авторская правка «Послов» была сделана для тома, вышедшего в составе нью-йоркского собрания сочинений в 1909 г. (издательство «Скрибнерз»). Было написано предисловие к роману (см. Дополнения); разбивка на двенадцать частей (книг) дополнялась нумерацией глав по частям, а не сплошной нумерацией, как было в первом книжном издании (для удобства читателя этот принцип сохранен и в нашем издании). Том с «Послами» был украшен репродукциями литографий известного в те годы художника Э. Л. Коберна «Вблизи Нотр-Дам» и «Люксембургский сад».
Среди многочисленных критических работ, посвященных роману Джеймса «Послы», особого внимания заслуживает книга Кортни Джонсона «Генри Джеймс и эволюция сознания» (Johnson Courtney Jr. Henry James and The Evolution of Consciousness. A Study of «The Ambassadors». Michigan State University Press, 1987).
Перевод романа «Послы» осуществлен по изданию: James Henry. The Ambassadors. N. Y., The New American Library of World Literature, 1960. (Здесь и далее, за исключением перевода иностранных слов, примечания А. М. Зверева).
[Закрыть]
Часть 1
I
Первый вопрос, который, прибыв в гостиницу, задал Стрезер, был: тут ли его друг; но услышав, что раньше вечера Уэймарш, видимо, не появится, он не слишком огорчился. Стрезеру показали телеграмму с оплаченным ответом, там оговаривалось как непременное условие, что номер «не должен быть шумным», а, значит, их уговор о встрече в Честере, а не в Ливерпуле, оставался в силе. Необъяснимое убеждение, подчиняясь которому Стрезер не выразил твердого желания увидеть друга на причале и отложил радость свидания с ним на несколько часов, теперь проявилось в том, что необходимость ждать его не вызвала и тени досады. В худшем случае они вместе пообедают, и при всем уважении к старине Уэймаршу – да, кстати сказать, и к себе самому – не приходилось опасаться, что им недостанет времени друг для друга. Убеждение, о котором я упомянул, родилось у Стрезера, как только он ступил на берег, и было чисто инстинктивным – плодом глубоко затаенного ощущения, что, как ни радостно после стольких лет разлуки увидеть лицо друга с борта швартующегося парохода, лицо это, договорись они о встрече еще в порту, стало бы для Стрезера первым «знаком» Европы, и в итоге пострадало бы дело, ради которого он сюда прибыл. Помимо прочего, Стрезером владело опасение, как бы в конце концов только к этому «знаку» не свелось его впечатление от Европы.
А покамест со вчерашнего дня благодаря верному решению знаком пребывания в Европе было чувство полной свободы, какой он уже давно не испытывал, острый вкус перемены и, сверх того, сознание, будто в данный момент ему ни с кем и ни с чем не нужно считаться, а это вселяло надежду – при всей неразумности опрометчивых надежд, – что его предприятию будет сопутствовать умеренный успех. На пароходе он легко – в той мере, в какой это слово подходило к нему, – общался с пассажирами, большая часть которых сразу по прибытии окунулась в поток, устремлявшийся от причала в Лондон; многие приглашали его поселиться в одной с ними гостинице и даже взывали к его помощи по части «осмотра» красот Ливерпуля, но он ускользнул как от тех, так и от других; не назначил ни единой встречи, не продолжил ни единого знакомства; равнодушно созерцал, как ликовали почитавшие себя счастливчиками те, кого, в отличие от него, «встречали», – и даже более, сам, один, ни с кем не свидевшись и не простившись, незаметно исчез, решив посвятить вторую половину дня непосредственно зримому и ощутимому. Этот день и вечер на берегах Мерсея [2]2
Мерсей – река на западе Великобритании, впадает в Ирландское море. На берегах реки расположены Ливерпуль и Манчестер.
[Закрыть]оказались сильной дозой Европы, но, какой бы она ни была, Стрезер принял ее в неразбавленном виде. Мысль о том, что Уэймарш, возможно, уже в Честере, несколько его тяготила, но он успокаивал себя тем, что, «заявись» он в гостиницу слишком рано, ему вряд ли довелось бы использовать ожидание с такой приятностью; он вел себя как человек, который, обнаружив в кармане больше монет, нежели обыкновенно, позволяет себе, прежде чем начать тратить, поиграть ими и всласть позвякать. И то, что он приготовился в разговоре с Уэймаршем напустить туману о часе прибытия парохода, и то, что, от души желая свидания с приятелем, он от души наслаждался досугом, откладывавшим эту встречу, – оба факта, как нам представляется, служили явными признаками того, что отношение Стрезера к взятому на себя поручению было отнюдь не однозначным. Беднягу обременяла одна особенность – раздвоенность сознания. Его рвение умерялось непредвзятостью, равнодушие разбивалось о любопытство.
После того как молодая особа в стеклянной клетке протянула ему бледно-розовый листок бумаги с именем его друга, которое она произнесла вслух, Стрезер повернулся и оказался лицом к лицу с дамой, находившейся в вестибюле. Она встретила его взгляд так, словно боролась с желанием заговорить с ним; ее черты – отнюдь не самые юные и не самые правильные, но выразительные и приятные – вдруг всплыли у него в памяти из чего-то недавно виденного. Секунду-другую они стояли друг против друга; Стрезер вспомнил: он заметил эту женщину вчера в ливерпульском отеле, она – тоже в вестибюле – на ходу разговаривала с супружеской четой, прибывшей с ним на одном пароходе. Между ним и ею ничего не произошло, и он затруднился бы сказать, что в ее лице задержало тогда его внимание, и не мог назвать причину, почему сейчас узнал ее. Она, без сомнения, тоже узнала его – и это представлялось еще более загадочным. Тем не менее дама вступила с ним в разговор, начав с того, что, случайно услышав вопрос и ответ на него, хотела бы, с его разрешения, спросить, не о мистере ли Уэймарше из Милроза, в штате Коннектикут, мистере Уэймарше, американском юристе, он только что справлялся.
– Да-да, – отозвался он, – о моем прославленном друге. Он должен был приехать сюда из Молверна, чтобы встретиться со мной, и я боялся, что он уже здесь. Но он будет позднее, и у меня отлегло от сердца: я не заставил его ждать. Вы знакомы с ним? – закончил Стрезер.
Только произнеся последнюю фразу, он осознал, с какой готовностью вступил с нею в разговор; ее ответ, да и тон ответа, равно как и выражение лица, на котором читалось нечто большее, чем очевидно присущее этому лицу беспокойство, словно о чем-то его уведомляли.
– Я встречалась с вашим другом в Милрозе, – сказала она, – где много лет назад иногда гостила. Там жили мои друзья – кстати, это и его друзья, – и я бывала у него в доме. Впрочем, не поручусь, – добавила она, – что он меня узнает. Но мне доставило бы радость повидать его. Возможно, так оно само собой и получится – ведь я остановилась в этой гостинице.
Она замолчала, а наш приятель, вникавший в каждое ее слово, подумал, что беседа их чересчур затянулась. Тут они даже слегка улыбнулись друг другу, и Стрезер сказал, что мистера Уэймарша, конечно, легко можно будет повидать. Дама, однако, истолковала его слова по-своему – она чересчур далеко зашла, и со свойственной ей во всем откровенностью воскликнула:
– О, ему это ни к чему!
Но тут же выразила надежду, что Стрезер знаком с Манстерами – Манстеры были той четой, с которой он видел ее в Ливерпуле.
Нет, он как раз их почти не знал – шапочное знакомство, не дававшее пищи для разговора. Они словно оказались вдвоем за накрытым для пиршества столом, а ее ссылка на приятельские отношения с Манстерами скорее лишила их блюда, чем поставила перед ними новое. Тем не менее они не собирались вставать со своих мест, а потому их обоюдное желание продолжать беседу придавало им вид людей, которые приняли друг друга и сошлись, невзирая на формальное отсутствие необходимых приготовлений, по сути уже проделанных. Они прошлись по вестибюлю, и спутница Стрезера сказала, что при гостинице разбит сад. Меж тем Стрезер уже успел мысленно уличить себя в странной непоследовательности: избежав любых сближений на пароходе и постаравшись смягчить удар от свидания с Уэймаршем, он теперь шел на поводу у случайной встречной, забыв о своем принципе обособленности и осторожности. Он проследовал за нею в сад, вместо того чтобы подняться в номер, а десять минут спустя уже уславливался о новой встрече, как только приведет себя в порядок. Ему не терпелось осмотреть город, и они договорились осмотреть его вместе. Все это выглядело так, словно она была хозяйкой, принимавшей гостя. Впрочем, знакомство с Честером некоторым образом давало ей право на такую роль, и Стрезер не без сожаления посмотрел на девицу в стеклянной клетке, которая, кажется, сочла себя ущемленной.
Когда четверть часа спустя Стрезер сошел вниз, взгляду его «хозяйки» – надо думать, благожелательному – представилась сухощавая, несколько нескладная фигура мужчины среднего роста, скажем прямо, более чем средних лет – лет пятидесяти пяти, – отличительными чертами которого на первый взгляд были оливковый оттенок смуглого лица, густые темные усы типично американского образца, пышно растущие и низко свисавшие, шапка пока еще обильных, но и обильно пронизанных сединой волос и нос, крупный, сильно выступавший, но совершенно правильный и, если позволено так выразиться, безупречной лепки, которая смягчала его суровый вид. Неизменная пара окуляров, посаженная на этот славный хребет, и две глубокие, словно резцом нанесенные складки, тянувшиеся параллельно усам от ноздрей к подбородку, довершали убранство лица, каким – что отметил бы внимательный наблюдатель – оно запечатлевалось в глазах ожидавшей Стрезера дамы. Она, эта дама, ждала его в саду, сменив лишь перчатки на свежую, мягкую, эластично обтекавшую руку пару, и глядела ему навстречу, пока он шел к ней по бархатной лужайке, освещенной неяркими лучами английского солнца, с выражением ненавязчивой готовности, которое ему, не столь уж тщательно потрудившемуся над своим туалетом, казалось для данного случая образцовым. Она, эта леди, явно обладала совершенным чувством приличия, богатым даром соразмерности и сообразности, которые ему было не под силу проанализировать, но которые поразили его, и он тотчас отметил их как качества, всецело для него новые. Остановившись на полпути, он принялся, словно в поисках чего-то забытого, шарить в легком, перекинутом через руку пальто; на самом деле он просто инстинктивно пытался выиграть время. Стрезера вдруг охватило чрезвычайно странное чувство: будто его безудержно влекло в некую чуждую среду, сущность которой не имела ничего общего с сущностью атмосферы, где он обитал в прошлом, будто для него все сейчас начнется в полном смысле с самого начала. Практически уже началось, когда он стоял наверху перед зеркалом, которое каким-то удивительным образом повторяло окна его сумрачного номера, – началось с пристального осмотра деталей своей наружности, какому он уже долгие годы не имел охоты их подвергать. Рассматривая себя, он заключил, что детали эти далеки от совершенства, но утешился мыслью, что дело это поправимое и, наверное, легко решится там, куда он направлялся. Направлялся же он в Лондон, и пока шляпа и галстук могли подождать. Но одно он схватил мгновенно, точно мяч, пущенный умелой рукой, – и не менее ловко: манеры своей новой знакомой, отличавшие умение видеть и делать выбор, обличавшие человека с теми почти неопределимыми качествами и свойствами, которые все вкупе, в представлении Стрезера, означали вырванное у прихотливой судьбы превосходство. Свое впечатление от этой дамы – без преувеличения и восторженности, а столь же просто, как она, когда впервые заговорила с ним, побудив ответить, – он выразил бы словами: «О, она принадлежит к более утонченной цивилизации…» Но вопрос – если «более утонченная», то «чем какая» – не вытекал для него из этого определения, как требовалось по логике при более глубоком осознании такого сравнения.
Как бы там ни было, но общение с соотечественницей, принадлежавшей к более утонченной цивилизации, – соотечественницей, говорившей с привычными интонациями и американским соединительным «р», без тени таинственности, не считая знакомства со страдающим несварением желудка милягой Уэймаршем, – сулило, по всей видимости, немалое удовольствие. И мгновение, когда он, остановившись, шарил в карманах пальто, было, по сути, мгновением зарождающегося доверия – паузой, благодаря которой ее глаза могли разглядеть все в нем, а его – в ней. Она показалась ему чуть ли не вызывающе молодой – впечатление, которое могло сложиться при взгляде на женщину тридцати пяти лет, легко несущую их бремя. Она, как и он, не отличалась, однако, гладкостью кожи и округлостью форм, хотя Стрезеру, пожалуй, не пришло бы на ум, что сторонний наблюдатель, переведя взгляд с него на нее, отметил бы в них много общего. Стороннему наблюдателю вряд ли показалось бы лишенным вероятия, что эти двое с их легкой смугловатостью и худощавостью, увы, далеко не писаные красавцы, да к тому же в очках, оба с непропорционально крупным носом и головой, чуть реже у одного, чуть гуще у другой пронизанной серебром, вполне могли оказаться братом и сестрой. Но и в этом Случае оставалось место для контраста; такая сестра должна была испытывать крайнюю отчужденность в отношении подобного брата, такой брат – крайнее удивление в отношении подобной сестры. Однако, напротив, и тени удивления не мелькнуло в глазах новой знакомки Стрезера, когда, разглаживая свои и без того туго натянутые перчатки, она дарила ему столь ценимые им мгновения. Ее глаза низали его откровенно и прямо, меря с головы до ног, словно знали, что он такое, как будто он представлял собой человеческий материал, с которым им уже приходилось иметь дело. Обладательница их и впрямь, не стану скрывать, владела в уме доброй сотней типов и разновидностей, наборной кассой с полным комплектом, куда, исходя из своего богатого опыта, легкой рукой – словно типографщик литеры – помещала ближних. Тут она, не в пример Стрезеру, была великолепно экипирована, и это проводило между ними черту, которую он, если бы полностью ее осознал, не осмелился бы перешагнуть. Но поскольку у него мелькали лишь смутные подозрения на этот счет, он, лишь мгновенно вздрогнув в душе, предпочитал пребывать в блаженном спокойствии. Правда, он более или менее представлял себе степень ее осведомленности. Он представлял себе, что она знает много такого, чего не знает он, и, хотя это признание было уступкой женщинам, на которую он, как правило, шел с трудом, сейчас Стрезер согласился с ней охотно и добродушно, словно это помогало сбросить груз. Глаза его за вечными стеклами смотрели спокойно, будто их там и вовсе не было, а их отсутствие ничего не меняло в его лице, выражение которого – как и в немалой степени печать живого ума – черпалось в основном из какого-то иного источника. Секунду спустя он присоединился к своей путеводительнице, и тут же почувствовал, что она еще больше выиграла от паузы, выставившей его на обозрение. Теперь она знала о нем даже вещи сугубо личные, о которых он ни словом еще не обмолвился, да и вряд ли когда обмолвится. Что греха таить, он уже многое ей поведал – но ничего о главном. Чего-то главного она о нем не знала.
Чтобы попасть на улицу, им предстояло вновь миновать вестибюль, и, проходя по нему, она вдруг ошеломила Стрезера вопросом:
– А вы поинтересовались, кто я такая?
Он невольно остановился.
– А вы – кто я? – спросил он, улыбнувшись.
– Как же! Разумеется… Сразу, как вы вышли, я тотчас подошла к портье и спросила. Не хотите последовать моему примеру?
– Выяснять у этой девицы, кто вы? – удивился он. – После того как она со своего возвышения видела, каким образом завязалось наше знакомство?
Теперь его спутница в свою очередь улыбнулась, заметив тень испуга, омрачившую ему легкое настроение.
– Тем паче, по-моему, тем паче. Или вы боитесь скомпрометировать меня? – Ах, ее видели с джентльменом, которому пришлось справляться, кто она такая! – Уверяю вас, мне это решительно безразлично. Кстати, вот моя визитная карточка, – продолжала она. – А поскольку мне нужно вновь обратиться к портье, за то время, на которое я вас покину, вы успеете изучить ее.
И, вручив Стрезеру маленький картонный билет, который вынула из записной книжки, она отошла, а он тотчас вынул такой же, намереваясь отдать ей взамен, как только она вернется. Посередине билетика не значилось ничего, кроме имени: «Мария Гостри», а ниже, в углу, номер дома и название улицы – скорее всего в Париже, и никаких иных данных, разве только то, что карточка носила чужеземный отпечаток. Стрезер опустил ее в карман жилета, а свою продолжал держать на виду, и пока он стоял, прислонясь к дверному косяку и обозревая открывающуюся взору площадь перед отелем, ему вдруг пришла мысль, вызвавшая улыбку. Не забавно ли, что он поместил Марию Гостри, кем бы она ни была – а он понятия не имел, кем она была, – в такое сохранное место. Но им почему-то владело убеждение, что непременно надо сохранить этот маленький знак внимания, который он только что спрятал. И, смотря перед собой невидящим, медлительным взглядом, он мысленно озирал возможные последствия своего поступка и задавал себе вопрос, должно ли квалифицировать его как измену. Слов нет, он поступил поспешно, пожалуй, даже опрометчиво, и у него не было сомнений в том, какое выражение приняло бы лицо известной особы, если бы она это видела, но если то, что он сейчас сделал, «дурно» – что ж, в таком случае ему вообще противопоказано было сюда приезжать. Вот к какому заключению пришел – еще не свидевшись с Уэймаршем – бедный Стрезер. Он полагал, что знает, где предел, но вот не прошло и полутора суток, а он уже его преступил! Но тут вернулась Мария Гостри, прервав размышления нашего героя о безупречности и даже нравственности своего поведения, и бросив весело и решительно: «Ну, пойдемте!», повела его в мир. Вот оно! – думалось ему, когда он шел с нею рядом, неся пальто перекинутым через правую руку, а зонтик под мышкой левой, между указательным и большим пальцами которой неловко торчала его визитная карточка – вот оно! Сейчас, думалось ему, состоится его подлинное, не в пример прежним, приобщение к Европе. Не к «ливерпульской» Европе, нет – и даже не к той, какая открылась ему на отвратительных, но притягательных, незабываемых улицах, где он слонялся вчера вечером, а к какой-то иной, которую его спутница, в доступной ей степени, представляла. Она еще не успела дать никаких пояснений, как вдруг – они шли рядом уже несколько минут, и он, поймав на себе два-три ее косых взгляда, подумал, не означают ли они, что ему следует надеть перчатки, – она, чуть ли не выговаривая ему, с задорным вызовом спросила:
– Почему вы не уберете карточку? Разумеется, я понимаю, как она вам дорога! Но все же… Впрочем, если она доставляет столько неудобств, ее с удовольствием примут назад. На эти карточки уходит целое состояние!
Только сейчас Стрезер понял, что, глядя, как он вышагивает, зажав в руке приготовленный для нее дар, будто скользя к неведомым безднам, не зная, к каким, она решила, что он все еще держит в руке ее визитную карточку. Он тут же, словно оправдываясь, протянул ей свою визитку, и она, взяв ее и увидев, что это, остановилась и, все еще держа карточку перед глазами, как бы извиняясь, сказала:
– Мне нравится ваше имя.
– Да? – отозвался он. – Боюсь, вы вряд ли его когда-нибудь слышали.
Правда, он не был в этом так уж уверен: у него были основания предполагать, что такое вполне могло произойти. Впрочем, не стоило закрывать глаза на очевидное: мисс Гостри перечитывала его имя как человек, которому оно попалось на глаза впервые.
– Мистер Луи Ламбер Стрезер! – произнесла она в полный голос, словно речь шла о ком-то другом. И тут же вновь подтвердила, что имя ей нравится. – В особенности – Луи Ламбер. [3]3
Луи Ламбер – участник описываемого в «Человеческой комедии» («Отец Горио», «Утраченные иллюзии») молодого сообщества, образовавшегося в пансионе Воке, философ, неудачник в житейских делах; один из наиболее выразительных персонажей в галерее образов, созданных Бальзаком; главное действующее лицо одноименного романа.
[Закрыть]Так называется один из романов Бальзака.
– Да, мне это известно! – воскликнул Стрезер.
– Кстати, очень плохой роман.
– Мне и это известно, – улыбнулся Стрезер, добавив, словно говоря о чем-то неуместном: – Я из Вулета, есть такой город в штате Массачусетс.
Она засмеялась – то ли неуместности его сообщения, то ли по иной причине. Бальзак описал много городов, но о городе Вулете из штата Массачусетс он не писал.
– Вы объявили об этом так, – сказала она, – будто хотите доложить о себе самое худшее.
– О, мне кажется, – возразил он, – вы и так уже во всем разобрались. Я, насколько могу судить, и выгляжу, и изъясняюсь, и, как у нас там говорят, «веду себя» соответственно. Вулет лезет из всех моих пор, и вы, разумеется, с первого взгляда это определили.
– Вы говорите самое худшее?
– Да. То есть откуда я. По крайней мере, я вас предупредил, и, случись что не так, не извольте говорить, будто я не был с вами откровенен.
– Вот оно что… – Мисс Гостри с явным интересом отнеслась к такой постановке вопроса. – А что, собственно, по-вашему, может случиться?
Стрезер не чувствовал смущения, хотя обычно бывало наоборот – и все же он упорно отводил глаза в сторону, избегая встречного взгляда, – манера, к которой он нередко прибегал в разговоре, при том что слова его производили чаще всего совсем иное впечатление.
– Ну, я могу показаться вам чересчур закоснелым.
Они снова двинулись в путь, и мисс Гостри, уже на ходу, сказала, что ей как раз больше всего по душе самые «закоснелые» соотечественники. Какие только милые пустячки – пустячки, так много для него значившие, – не расцветали в теплой атмосфере их прогулки. Однако значение этой прогулки для последующих, весьма отдаленных событий так близко нас касается, что мы не смеем позволить себе множить примеры, хотя некоторые из них нам, по правде говоря, жаль терять. Стрезер и его путеводительница шли по крепостному валу – каменному поясу, давно лопнувшему под натиском разбухшего города, но все еще державшемуся стараниями его жителей, – валу, который тянулся узкой кривой между двумя парапетами, стертыми за долгое время мирными поколениями, и то и дело обрывающимися где из-за давно снесенных ворот, где из-за перекинутых через пролом мостков, с подъемами и спусками, со ступенями вверх и вниз, с неожиданными поворотами и неожиданными переходами, с выбоинами, в которых мелькала то улица с ее повседневной жизнью, то кирпичная полоска под стрехой щипцовой крыши, с широким обзором, открывавшим взгляду кафедральный собор и прибрежные поля, скученность английского города и ухоженность английского сельского ландшафта. Все это доставляло Стрезеру несказанное наслаждение, но не менее неотвязно вставали в памяти, мешаясь с тем, что он видел перед собой, картины былого.
Он уже однажды – в далекие времена, когда ему было двадцать пять, – проходил этим маршрутом, но воспоминания не портили впечатления: напротив, новые ощущения обогащали прежние и превращали в значительные события, и эту вновь обретенную радость стоило разделить с другом. Уэймарш – вот с кем ему следовало ее разделить, а, стало быть, он лишил приятеля того, что принадлежало тому по праву. Стрезер стал поглядывать на часы, и, когда достал их в пятый раз, мисс Гостри не выдержала:
– Вам кажется, вы делаете что-то не так?
Вопрос ударил по больному месту, Стрезер залился краской и издал смущенный смешок.
– Помилуйте, я получаю огромное удовольствие. Неужели я так забылся…
– По-моему, вы не получаете никакого удовольствия. Во всяком случае, меньше, чем могли бы.
– Как вам сказать… – глубокомысленно протянул Стрезер, словно соглашаясь. – Для меня такая честь…
– Какая там честь! Дело не во мне. Дело в вас. Вы просто не умеете… Типичная картина.
– Видите ли, – рассмеялся он, – это Вулет не умеет. Это для Вулета – типичная картина.
– Вы не умеете получать удовольствие, – пояснила мисс Гостри. – Вот что я имею в виду.
– Именно. Только мы в Вулете вовсе не уверены, что человек создан для удовольствий. Иначе человек был бы доволен. А ведь у него, бедняги, даже нет никого, кто указал бы ему к этому путь. В отличие от меня. У меня как раз есть.
Они беседовали, остановившись в лучах полуденного солнца, – как не раз останавливались, чтобы острее проникнуть чувством в то, что открывалось взору, и Стрезер прислонился к выступающей стороне старого каменного желоба, спускавшегося по крошечному бастиону. Прислонясь спиной к этой опоре, он стоял, любуясь кафедральной башней, которая оттуда была особенно хорошо видна – высокая красно-бурая громада с неизменным и непременным шпилем и готическим орнаментом, обновленная и отреставрированная, тем не менее казавшаяся прекрасной его долгие годы запечатанным глазам, и с первыми весенними ласточками, снующими окрест.
Мисс Гостри поместилась рядом; у нее был вид человека, понимающего толк в вещах, – вид, на который, по мнению Стрезера, она несомненно имела право.
– Да, и в самом деле есть, – подтвердила она, добавив: – И дай Бог, чтобы вы позволили мне указать вам путь.
– О, я начинаю бояться вас!
Она посмотрела ему в глаза – сквозь свои очки и сквозь его – лукаво-неопределенным взглядом:
– Нет, вы меня не боитесь! Слава Богу, нисколько не боитесь! Иначе мы вряд ли так быстро нашли бы друг друга. По-моему, – произнесла она не без удовлетворения, – вы доверяете мне.
– Конечно, доверяю! Но именно этого я и боюсь. Лучше бы наоборот. А так не пройдет и двадцати минут, и я уже окажусь у вас в руках. Смею предположить, – добавил Стрезер, – в вашей практике это не первый случай. А вот со мной такое происходит впервые.
– Просто вы распознали меня, – отвечала она со всей присущей ей добротой, – а это так замечательно и так редко бывает. Вы видите, кто я. – И когда он, однако, покачав головой, добродушно отказался претендовать на подобную прозорливость, сочла нужным пуститься в объяснения. – Если вы и дальше будете таким, каким были вначале, вам самому все станет ясно. Судьба оказалась сильнее меня, и я поддалась ей. Я, если угодно, гид – приобщаю к Европе. Вот так-то. Жду приезжающих – помогаю сделать первый шаг. Подхватываю и устраиваю – я своего рода «агент» высшего разряда. Сотоварищ – в самом широком смысле слова. И как вам уже говорила – сопровождаю путешественников. Я не выбирала себе этого занятия – так получилось само собой. Такая уж выпала мне судьба, а от судьбы не уйдешь. Не стоит нам, грешным, хвалиться этим, но я и впрямь чего только не знаю. Знаю все лавки и все цены. Знаю и кое-что похуже. Я несу на себе тяжкое бремя нашей национальной совести или, иными словами, так как это одно и то же, нашу американскую нацию. Потому что из кого же состоит наша нация, как не из мужчин и женщин, забота о которых сваливается на мои плечи. И знаете, я беру на себя эту ношу вовсе не ради выгоды. Не ради денег – как это делают многие другие.
Стрезеру оставалось только слушать, удивляться и ждать случая, когда он сможет вставить слово.
– И все же, при всей вашей привязанности к многим подопечным, вряд ли вы занимаетесь ими только из любви. – И, помолчав, Стрезер добавил: – Чем же мы вас вознаграждаем?
Теперь она в свою очередь задумалась, но в конце концов воскликнула: «Ничем!» – и предложила ему двинуться дальше. Они продолжили путь, но не прошло и нескольких минут, как Стрезер, сосредоточенно размышляя о том, что она сказала, снова достал часы – машинально, бессознательно, словно завороженный ее необычным, скептическим складом ума. Он взглянул на циферблат, не видя его, и ничего не ответил на очередное замечание своей спутницы.
– Да вы просто дрожите перед ним! – бросила она.
Он улыбнулся жалкой улыбкой, от которой ему самому стало не по себе.
– Вот видите! Потому-то я вас и боюсь.
– Потому что я способна на прозрения? Так они вам только на пользу. Я ведь только что сказала, – добавила она, – вам кажется, вы делаете что-то не так.
Он прислонился к парапету.
– Что ж, помогите мне выкарабкаться из беды.
– Помочь? – Она буквально просияла от радости, услышав его призыв. – Помочь не дожидаться его? Не встречаться с ним?
– О нет, напротив, – сказал Стрезер уже совсем серьезно. – Мне необходимо его дождаться. И я очень хочу встретиться с ним. Помогите мне побороть в себе страх. Вы только что нащупали мое слабое место. Я всегда живу с ощущением страха в душе, но иногда он целиком овладевает мной. Вот как сейчас. Я все время думаю о чем-то еще – о чем-то еще, я имею в виду, кроме того, что меня непосредственно занимает. Вот и сейчас, например, мои мысли заняты не только вами.
Она слушала его с подкупающей серьезностью:
– Вам нужно избавиться от страха.
– Совершенно согласен. Вот и сделайте так, чтобы я избавился от него навсегда.
– Вы и впрямь, – она все еще колебалась, – и впрямь поручаете мне это дело? А вы сумеете пересилить себя?
– Если бы суметь! – вздохнул Стрезер. – В том-то и беда, что не умею. Нет, я этого не умею.
Однако ее было не так-то легко обескуражить.
– Но вы, по крайней мере, хотите этого?
– О, всей душой!
– Тогда, если вы постараетесь… – И мисс Гостри с ходу принялась за это, как она выразилась, дело. – Доверьтесь мне! – воскликнула она, и в знак согласия он, как добрый старый дядюшка, желающий быть «приятным» опекающей его молодой особе, для начала взял ее под руку. И если позднее, в виду гостиницы, он все же убрал руку, то, право, лишь потому, что после беседы о том о сем счел, что различие в возрасте или, по крайней мере, опыте – с каковыми они, по правде говоря, обращались достаточно вольно, – требует перемены позы. Во всяком случае, решение подойти к дверям гостиницы держась на расстоянии друг от друга следовало признать удачным. Молодая особа, которую они оставили в стеклянной клетке, наблюдала за их приближением, словно специально поджидая, когда они появятся на пороге. Рядом с ней стоял господин, которого, судя по его позе, их появление интересовало ничуть не менее, и при виде его Стрезер тотчас впал в то состояние легкого остолбенения, которое нам уже не раз приходилось отмечать. Он предоставил мисс Гостри произнести своим приятным, задорным, как ему показалось, голосом: «Мистер Уэймарш» – имя того, кому предстояло вынести и кто непременно – это более чем когда-либо прежде почувствовал Стрезер, обратив в его сторону короткий приветный взгляд, – не будь здесь мисс Гостри, вынес бы ему осудительный приговор. Впрочем, по мрачному виду Уэймарша было и так заметно, – что друг его осуждает.








