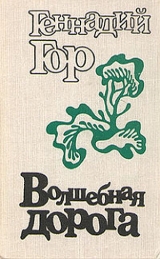
Текст книги "Волшебная дорога (сборник)"
Автор книги: Геннадий Гор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 45 страниц)
23
В те годы в Ленинграде мостовая была еще торцовой. На Васильевском острове кое-где между торцов зеленела робкая нежная травка, не один раз попадавшая в лирические стихи.
Впрочем, в стихи просилось все: и не раз воспетый сфинкс, стоявший напротив Академии художеств, и синенькое выцветшее небо (которое поэты почему-то называли «ситцевым»), и извозчики, лениво поджидавшие седокаиногда честного бухгалтера с парусиновым портфелем, слегка подвыпившего мастера с Трубочного или с завода имени Козицкого, а иногда растратчика, кидавшегося червонцами, я только очень редко налетчика, поспешно вскакивавшего в гоголевской конструкции бричку на старинных рессорах и с кожаным верхом и зловещим шепотом предупреждавшего:
– Ну-ка, гони веселей. А не то сразу попадешь в рай!
Растратчики и налетчики умели шутить, чувствуя, что из-под ног уходит почва и нэп доживает последние дни.
Тихо было на Васильевском острове, пожалуй, еще тише, чем на Петроградской стороне, и сфинкс на набережной, погруженной в гранитную тишину, мог общаться со столетиями, не мешая редким прохожим.
Академия художеств – это особый мир, и окна и двери выглядели так же, как во времена Пушкина и Гоголя, хотя из этих дверей теперь выходил уже не элегантновеличественный Брюллов, а скромные Петров-Водкин и Карев.
Знаменитый художник М., которого отнюдь не для того, чтобы снизить, мы называли василеостровским Тицианом, нисколько не походил на Петрова-Водкина, а тем более на скромного Карева, хотя тоже преподавал в величественном здании, похожем на застывшую, одевшуюся в камень классическую поэму, из которой время изъяло ее консервативный дух.
Василеостровский Тициан довольно часто сидел на скамейке в Соловьевском саду в величественно-созерцательной позе и о чем-то думал. С ним рядом обычно сидела Офелия, полная, но еще очень красивая дама, – дама, но не с собачкой, а с очень большим раскормленным кудрявым псом.
Пес бегал возле кленов и дубов, обнюхивал кору. В отличие от своего величавого хозяина, обитавшего в среде оптически красочных впечатлений, пес жил в мире запахов, своим сверхчутким носом отделяя один запах от другого, а то соединяя их в музыку ароматов, пронизывающих все его жизнерадостное и бесконечно наивное существо, еще не отделившееся от природы, от зеленых ветвей, корней трав, облаков и от Невы, медленно тянувшей свое замутненное бытие к взморью, где дымили английские и немецкие пароходы.
Наивный пес любил, но чуточку презирал своего величественного хозяина, который обычно стоял перед мольбертом возле холста, натянутого на пахнущий свежим деревом подрамник, и лениво водил кистью. Слишком живым и нетерпеливым глазам пса ни о чем не говорили эти мертвые краски, совсем не похожие на яркое солнце, на небо и на синюю воду. Если бы он, пес, умел передавать мир, он бы передал его сущность с помощью запйхов, куда более сильных, чем зрительные образы, с помощью запахов, пронизывающих все его звериное существо до самых костей.
Сам величественный хозяин тоже состоял из запахов. В этих запахах и скрывалось нечто неповторимое, отчетливо самобытное, отличавшее его от всех других людей, встреченных на улице, в доме или заходивших в их просторную квартиру. Но вот хозяйка ничем не пахла. И пес долго не мог привыкнуть к ней, внюхиваясь, ища ее особенность и не находя ее. Он долго-долго не мог привыкнуть к ней, пугался ее и всеми чувствами постигал парадоксальность ее призрачного пребывания, словно за этой бесплотной плотью скрывалось ничто, да, ничто (пусть извинят меня читатели за это философское понятие, которое я употребляю, не зная, чем его заменить). Присутствуя, она отсутствовала и, отсутствуя, присутствовала. Может быть, для того чтобы обмануть бдительность пса, она стала душиться дорогими духами из красивого флакона, стоявшего на туалетном столике из карельской березы. Но от этого она, в сущности, не менялась, хотя и делалась чем-то похожей на флакон с духами.
Постепенно и неохотно пес все же привык (если невольное примирение с загадочным и непонятным можно назвать привычкой) к ней и уже не обнюхивал ее, не искал нужных запахов, чтобы составить из них ее личность. А что такое личность, пес чувствовал куда сильнее знатоков и специалистов-искусствоведов, нередко посещавших эту гостеприимную квартиру и любивших рассуждать о том, что такое портрет – это удивительное постижение индивидуального и неповторимо-особенного.
Не так давно хозяин задумал написать своего пса, с попыткой проникнуть в личность своей собаки (нисколько не сомневаясь, как не сомневаемся и мы, что у собаки тоже есть личное начало, а не только родовое, в отличие от других, менее очеловеченных животных), и поэтому заставил пса лежать неподвижно на специально выбранном декоративно-восточном ковре, не меняя позы.
Пес понимал свою роль. Ведь он видел десятки натурщиц, тоже томившихся в одной и той же позе или менявших ее по приказанию хозяина. Пес лежал тихо и терпеливо, может желая постичь, как под волшебной кистью хозяина произойдетраздвоениеего существа и его живой мохнатой плоти. Одна часть останется с ним, и, кажется, без заметного ущерба для него, а другая окажется на холсте как в зеркале, но не временно, а навсегда.
Пес видел, как раздевались и одевались натурщицы, равнодушно посматривая на своих двойников, пребывавших на подрамнике. Иногда эти натурщицы откровенно зевали, конечно, без всякого умысла, вовсе не желая обидеть художника.
Пес не совсем разделял их равнодушие, хотя и понимал, и сочувствовал им. Нелегко стоять, лежать или сидеть в одной и той же позе без одежды и, подрагивая от холода, ждать, когда забывший обо всем художник наконец положит на место свою палитру, а заодно уберет и пахнущую красками кисть.
Пес был терпеливее самых опытных профессиональных натурщиц. Он лежал не меняя позы. Но ему не надо было преображаться, снимать с себя сначала шубу, потом платье, чулки и бюстгальтер, чтобы показаться на свет божий в чем мать родила. Он со своей мохнатой одеждой был в более полном и интимном единстве, чем люди, не исключая даже самого хозяина, который, несмотря на свой весьма почтенный возраст, тратил много времени на туалет, вечно роняя на пол выскальзывающие из пальцев запонки и с трудом застегивая накрахмаленный жесткий ворот белоснежной сорочки.
И вот пес лежал на ковре, а хозяин бросал жадные и нетерпеливые взгляды то на него, то на холст.
Художник был возбужден. С ним за последние годы случалось это не часто. Отложив кисть, он подолгу смотрел на своего пса и о чем-то думал, а потом снова начинал лихорадочно бросать краски на холст. Может, он хотел перенести на холст не только лохматую голову собаки, ее преданные, живые, тонувшие в курчавой шерсти глаза, ее ноги и хвост, но и свою любовь к собаке. Может, кроме своего пса, хозяин никого не любил? А хозяйку?
Кто знает? Может, хозяин уже почувствовал загадочность ее странного существа, которое только всем казалось, а на самом деле отсутствовало. У нее было нечто общее с изображениями людей на картинах, пес это давно заметил. От изображений пахло охрой, кармином, белилами, лазурью и деревом. От нее дорогими тонкими духами, хранящимися в крепко закупоренных флаконах на туалетном столике. Она тоже, как изображения людей на картинах хозяина, была по эту и по ту сторону одновременно, досягаемая для глаз, но ускользающая от чувств, словно играющая с ними в прятки.
С помощью красок и кисти хозяину не удавалось передать полную реальность натурщиц, деревьев, лугов, полян, дорог, улиц и пивных киосков, симфонию запахов, самую суть мира. Создавая картины, хозяин всегда спешил, словно боясь, что непредвиденное помешает ему закончить их к намеченному сроку. Но, может, то, что ему не удавалось раньше, удастся теперь, когда он писал своего любимого пса, писал долго, не торопясь, не назначая себе сроков, отдавая работе самые лучшие, самые солнечные часы своего дня.
А дни, как нарочно, были солнечными, редкими для вечно хмурого и дождливого Ленинграда. Солнечные дни, проходившие без деятельного участия пса, исполнявшего на этот раз роль натурщика и служившего хозяину не так, как призваны служить собаки, охраняющие квартиру от воров и пугающие сердитым лаем тех, кто не заслуживает ничего, кроме лая.
Работа подвигалась медленно, и пес устал от долгого лежания на ковре, пропуская веселые солнечные дни и с нетерпением ожидая прогулки по бульвару Большого проспекта или по Тучковой набережной, где от Невы пахло свежестью, смолой от дровяных барж и где качалась вода, разбуженная плывущим катером или моторной лодкой.
Хозяин теперь уже редко выходил прогуливать своего пса. Он заметно одряхлел. С псом ходила хозяйка. Внешне она походила на всех красивых и нарядно одетых женщин, встречаемых на улицах или сидящих на бульварах. Но только внешне. В ней чего-то не хватало, и было странно, что люди не замечали этого. Впрочем, многое ли способны заметить люди? Ведь они почти не чувствуют запахов. А мир без запахов-это все равно что дерево без листьев или фонарный столб без фонаря.
Хозяин все еще продолжал работать, изображая пса. Он был недоволен фоном и по многу раз переписывал его. Хозяина не удовлетворяли глаза, и он долго бился, пока не сумел передать сходство глаз на холсте с теми, которые глядели с истинно собачьей добротой, глубоко спрятанные в густой лохматой шерсти, чуточку попахивавшей псиной.
Наконец картина была готова, и хозяин, сняв ее с мольберта, небрежно поставил на пол мастерской, прислонив к стене, поставил и ушел к себе в кабинет – полежать, почитать газету, полистать иллюстрированный журнал.
Пес подошел к своему изображению и понюхал. Пахло красками и подрамником, больше ничем. И может, желая помочь своему хозяину, пес поднял ногу и пустил тонкую желтую струю на свое изображение. Изображение ожило. Оно пахло псом, передавало всю реальность собаки, самую собачью суть.
Вошел хозяин, увидел, страшно рассердился и – чего никогда не случалось – больно пнул пса старческой, но еще тяжелой и сильной ногой. Затем он нагнулся и стал обтирать холст тряпкой, но запах, к счастью, не исчез, хотя и стал значительно менее острым.
Изображение потеряло часть своей земной и подлинной реальности, но только часть. Затем картина исчезла. Ее купил коллекционер, человек с большим и острым некрасивым носом и постоянно мигающими мелкими глазками, от которого пахло лекарствами, словно он был провизором или фармацевтом.
А пес не любил аптек и запаха лекарств, хотя и понимал, что они нужны.
Теперь запах лекарств стал все чаще и чаще раздражать собачье обоняние. Человек частенько болел. Но, борясь с болезнями и старческой немощью, продолжал работать.
Он уже не изображал женоподобные дебелые березы и слишком натуральные ели, не набрасывал на холст восходы и закаты, стараясь передать заодно и беспокойное течение лесных рек, и безмятежное спокойствие озер, чуточку подслащенных, лишь самую малость, так, чтобы не слишком бросалось в глаза опытным знатокам и придирчивым искусствоведам, но очень бы нравилось неискушенной публике, всякий раз принимавшей за истинную красоту то, что было далеко от настоящей, не подрумяненной истины.
Он не писал больше одетых и раздетых натурщиц, по-видимому потеряв интерес к налитой жизненным соком женской плоти, еще недавно преломляемой им через дрожь двусмысленной таинственности вдруг воскресавшего в нем гимназиста, прилипшего к замочной скважине, чтобы увидеть раздевающуюся горничную или дебелую повариху, пугаясь этой своей внезапной страсти и презирая за нее себя.
А ведь эта скверная и стыдная дрожь, усилием воли едва скрытая от натурщиц, и помогала нередко ему изобразить плоть, да так, что она могла пожилого и солидного зрителя тоже превратить в гимназиста. Нет, теперь не проявлялся больше в нем ни жалкий гимназист, ни еще более ничтожный мастер академического склада, глядящий на живую природу холодными глазами закройщика и обдумывающий, как бы поаккуратнее выкроить кусок природы и понаряднее посадить в багетовую раму, так чтобы рама походила на окно, которое заберет с собой какой-нибудь меховщик с Андреевского рынка, популярный адвокат – мастер юридических тонкостей и ловушек – или бывший нэпман, пристроившийся к какой-нибудь псевдокооперативной коммерческой артели.
Только теперь в нем пробудился настоящий мастер и художник. Он ставил мольберт рядом с зеркалом и подолгу смотрел на свое отражение, вдруг с ужасом поняв и почувствовав, что его пребывание и здесь, в квартире, и вообще на Земле подходит к концу.
Нет, сейчас он не думал о богатых коллекционерах, о празднично-шумных вернисажах, об антикварных магазинах и иллюстрированных журналах, а только о том, что приближается смерть и вскоре унесет его из этого удивительного и непостижимого мира.
Все останется на месте: сфинкс, трамваи и громкоголосые кондукторши, извозчики, дворники и профессора, натурщицы и синенькое небо, дожди и сонная газетчица в киоске на углу, а его не будет. Глупо все это, подло, но с собой это не заберешь и никак не словчить, чтобы остаться, задержаться, хотя бы задержаться на год или на два.
Теперь он часто, очень часто раскрывал альбом репродукций с картин Рембрандта, привезенный им еще в 1912 году из Мюнхена, и долго вглядывался в автопортреты человечнейшего из художников, всматривался в это чудо умения слить всего себя со своим изображением, так необыкновенно слить, чтобы остаться на холсте, живя там жизнью меняющегося мгновения, отожествляя себя с этим трагическим мгновением и раскрывая смысл самого непостижимого из того, что существует на свете, – единства человеческого лица с горечью переживания и с радостью убегающей секунды, которую вечно спешит сменить следующая.
Сколько этих секунд, минут, часов, дней, недель, месяцев, лет было даровано ему – художнику М. – его судьбой, его отменным здоровьем, а на что он их потратил? На создание бесконечного множества посредственных, ложно-красивых и псевдозначительных картин, почти всегда имевших шумный успех, прессу и потакавших легко поддающемуся самообману и иллюзии тщеславию художника.
Сейчас он просил у судьбы одного – хотя бы двух или трех лет, чтобы успеть закончить задуманные им работы.
Превозмогая боль и слабость, он закончил один свой автопортрет, принялся за другой. Впервые за все длинные годы своего художества он пытался слить себя и свои сокровенные чувства со своим изображением, наконец-то убрать огромную дистанцию, которая всегда существовала в его работе между вещами и их подобиями.
Превратиться в подобие без остатка, отдать подобию все силы, всю вдруг возникшую в нем страсть и превратить подобие в душу, наконец-то найденную им после стольких лет самодовольного равнодушия, наконец-то открытую им, почувствованную и понятую до самых основ. Это была не бог весть какая глубокая и правдивая душа, но она все же существовала.
Искусство должно быть духовным или вовсе не быть!
Но так ли это? И какой-то невидимый скептик, растворившись в теплом воздухе мастерской, спрашивал с чисто мефистофельским ехидным задором:
– Ну а Рубенс со своими мясистыми Венерами, а Ренуар со своими слишком плотски наглядными красавицами, а Илья Машков с виртуозно полированными натюрмортами? Разве они подлежат изгнанию и отмене?
Он и раньше задавал себе и другим этот вопрос (он сам, а не мысленный собеседник-искуситель), задавал молодым и бестактным людям, не скрывавшим своей ухмылки на вернисажах и даже в его мастерской и недвусмысленно намекавшим ему на отсутствие всякой духовности в его пейзажах и особенно «ню» (словно так уж много было на свете художников, умевших одухотворять этот по своей сути и назначению плотский, земной, греховный и чувственный жанр!).
Но давным-давно кончились вернисажи, дискуссии, встречи с любителями и знатоками живописи, по крайней мере для него. Он не выходил из дому, работал, а после изнурительного труда лежал с полузакрытыми глазами, и все его прошлое мелькало в его сознании как тень.
Последние работы ему удались, по-настоящему удались. Это чувствовал даже пес. Если раньше на лицах ценителей-знатоков и художников, приходивших в мастерскую художника М. и осматривавших его картины, – если раньше на этих лицах лежало наигранное, фальшивое и лицемерное выражение, то теперь их лица становились напряженно-серьезными, удивленными, даже растерянными. И не они разговаривали с картинами, а картины говорили с ними. И было больше правдивого молчания, чем лишних льстивых слов, не всегда обманывавших даже самого М., привыкшего к лести и любившего ее.
Велика сила такого молчания, и ее обаянию поддался и пес. Теперь ему казалось, когда он смотрел на изображения художника, что он чувствовал и запахи своего хозяина, эти неповторимые запахи, которые слились с холстом и стали сутью изображенного.
И пес от удовольствия вилял хвостом. Он был рад за своего хозяина, хотя чему, собственно, было радоваться? Все чаще появлялись люди в белых халатах, иногда и по ночам, приезжая на большой крытой машине, которая издавала тревожные гудки.
Люди в белых халатах втыкали в тело хозяина длинную иглу с жидкостью или подносили к его губам резиновую подушку со свежим воздухом, который больной пил жадными глотками.
Видя эту резиновую подушку, наполненную острым и чистым зимним воздухом, который проходил мимо рта больного и струился возле кровати, пес испытывал тоску и всем своим существом, всей дрожью своего большого лохматого тела чувствовал, что жизнь хозяина понемножку уходит, как этот воздух из резиновой подушки.
И вот когда хозяина унесли, унесли навсегда, пес завыл. Хозяина уже не было, но бередили обоняние пса еще оставшиеся и уцелевшие его запахи, и это было непереносимо знать, что запахи только напоминают о том, кого здесь, в квартире, нет и никогда уже не будет.
Пес выл, и казалось – выл не он, жалобно выла сама природа – реки, облака, деревья и лесные дороги, все, что осталось здесь, но потеряло для пса всякий смысл, потому что исчез тот, кого пес любил всей своей собачьей, бесконечно искренней и преданной сутью.
24
Горевала ли, отчаивалась ли Офелия, похоронив своего величавого и знаменитого мужа, своего милого, доброго Тициана с Васильевского острова? Кто об этом мог знать? Богини редко плачут, даже если эти богини вырублены не из мрамора, а из материала, секрет которого нам неизвестен.
У нее не было времени предаваться мукам отчаяния. У нее просто не было ни одной свободной минутки.
Она проявила бурную неутомимую деятельность сначала на похоронах, а затем и на поминках, где присутствовали почти все знаменитости города и куда прибыл даже британский консул в нарядном «роллс-ройсе», большой знаток и любитель русской живописи, а еще больше русской водки.
Но настоящие заботы и хлопоты появились неделю или две спустя, когда даже пес и тот затих и, кажется, чуточку успокоился, поняв, что своим жалобным воем он не вернет того, кто уже лежит в земле под свежим холмиком, закрытый живыми и металлическими цветами.
Пес затих и успокоился, один в огромной квартире, подолгу ожидая нелюбимую, а главное, непонятную и загадочную хозяйку, очень напоминавшую мраморную статую, стоявшую в кабинете хозяина, – статую, вопреки всякой логике, и человеческой и собачьей, надевшую на себя платье, чулки, модную шляпку и вдруг наполнившуюся энергией.
Офелия с утра до вечера бегала по учреждениям. Сравнительно быстро она добилась, чтобы на стене дома повесили мраморную доску. На этой доске были высечены золотом имя художника и цифры, указывающие годы, которые он здесь прожил. А прожил он здесь Мафусаилов век, пережив многих полководцев, царей, вдов и сирот и события из разных эпох, крепко связанные вместе его продолжительной жизнью.
Да, доска уже висела, привлекая взгляды прохожих, не знающих, чему больше завидовать – славе или долголетию. Но вот хлопоты ее о квартире-музее василеостровского Тициана или почти Тициана пока не увенчались успехом.
У всех этих секретарш и машинисток, охранявших дзери, за которые необходимо проникнуть, было такое же чутье, как у осиротевшего пса. Они сразу догадывались, что Офелия больше казалась, чем существовала, и сомневались, был ли ее покойный муж Тицианом (даже василеостровским), а если и был, то это нужно подтвердить, и не словами, а бумагами со многими печатями.
Да и действительно, был ли он великим или только казался, кто за это может поручиться? Время? Но времени прошло слишком мало, чтобы установить его подлинную величину и определить, имеет ли он право на музей-квартиру.
Пусть сначала пройдет хотя бы десяток лет, и тогда время скажет – достиг или не достиг он величия. А если и не достиг, тоже не надо огорчаться. Ведь он подавал большие надежды, но в силу разных объективных и субъективных причин не смог их оправдать.
Об этом Офелии говорили иногда ясно, а чаще туманно и перед дверями и за дверями, когда ей удавалось туда проникнуть.
Все ссылались на авторитет времени, не подозревая даже, что просительница сама была частью времени и могла им распоряжаться не хуже какой-нибудь бывшей Мнемозины. Но это был особый случай, требовались подписи и печати, и обратный ход времени ничем не смог бы ей помочь, потому что кто поверит бумажке или документу, доставленному из будущего? Да и сама просительница даже не намекала на такую странную возможность.
В конце концов Офелия поняла, что задачу она себе поставила не по силам. От всех этих забот и хлопот она похудела. И сколько нужно было иметь выдержки и хладнокровия, чтобы доказывать по телефону кому-то невидимому, но хорошо слышимому, что ее муж был великим. И не видя даже выражения лица, выслушивать отказ, иногда вежливый и сочувственный, а иногда и насмешливый, полный чисто мужского иронического яда.
Слава ли покойного мужа больше заботила ее или судьба квартиры? Но это был тот случай, когда одно от другого трудно отделить.
Ей посоветовали добрые люди обратиться к одной пробивной личности, к критику и искусствоведу Артуру Семеновичу Мудрому, который как раз в эти дни подыскивал себе удобное и не слишком хлопотливое место директора небольшого музея.
Злые языки говорили, что Мудрый хотя и не любит и даже втайне презирает искусство, но тем не менее почему-то выбрал себе профессию искусствоведа, казавшуюся ему очень интеллигентной, даже светской, а главное, оставлявшей много досуга, который он очень ценил.
Мудрый взялся за дело, заранее выговорив у Офелии Аполлоновны право стать директором будущего музеяквартиры и распоряжаться экспозицией и запасником, полагаясь только на его, Артура Мудрого, вкус и его компетенцию, без вмешательства родственников и посторонних лиц.
Просмотрев все заявления и просьбы, составленные Офелией Аполлоновной, Мудрый заявил:
– Забудьте это слово «почти»! Из-за этого «почти» вы и получали повсюду отказы. М. был великим художником. Это версия чисто официальная. Говоря же неофициально, он им не был. Но если говорить доверительно, я не уверен, что великим был даже Леонардо или Рафаэль. По-настоящему великими художниками были те, имена которых человечество никогда не узнает. Люди палеолита, расписывающие стены пещер. Они не называли себя художниками и не знали этого пошлого слова – «искусство».
Офелия заплакала. Она плакала от обиды, от бессилия, от унижения. Она хотела прогнать Мудрого, но вместо того, чтобы выгнать его из квартиры, выгнать немедленно, она вытерла слезы шелковым платком, пахнущим дорогими и тонкими духами, и улыбнулась совсем по-детски, как улыбнулась бы греческая богиня, превратившаяся в живую милую девушку. В конце концов, нельзя обижаться на человека, который отказал в величии не только покойному художнику М., но и самому Леонардо, оставляя право на него безымянным живописцам верхнего палеолита.
– Скажите, – спросила она, – это ваше искреннее убеждение?
– Это моя концепция, – ответил важно Мудрый, – за которую я борюсь уже много лет. На эту тему я пишу философско-эстетическое исследование.
Офелия улыбнулась. Мудрый снял котелок. Во всем Ленинграде, если не считать городского раввина, голландского консула, величавого нищего, проживавшего возле Казанского собора, и трех восьмидесятилетних старичков-денди конца прошлого века, ежедневно ходивших в вегетарианскую столовую на проспекте 25 Октября (бывшем и будущем Невском проспекте) есть шарлотку с яблоками и сбитые сливки, если не считать всех перечисленных нами лиц, Мудрый один носил котелок.
Он снял свой котелок, а потом снова его надел, поклонился и вышел.
Дома он сменил котелок на серую рабочую кепку и, знобливо согнувшись, побежал в культпросвет.
Он бежал не с пустыми руками и не с униженно-просительной улыбкой на поспешно и неискусно выбритом лице. Лицо его выражало уверенность и твердость, а в руках у него была бумажка, подписанная всеми крупными художниками и известными искусствоведами города, подтверждавшая, что знаменитый художник М. внес большой вклад в мировую художественную культуру и этот вклад не должен быть разбазарен по разным местам, а обязан храниться хоть и не в большом, но специальном музее.
Тот, кто умеет добиваться, тот добьется.
Об открытии музея-квартиры уже извещало множество расклеенных по всему городу афиш и небольшая статья в «Красной газете».
Мудрый привез из Москвы утвержденную смету, «выбив» (его собственное выражение) две платные должности – директора и экскурсовода – для себя и выхлопотав штатную должность машинистки для Офелии Аполлоповны, которая по совместительству будет заменять и счетовода.
Все лучшие работы М. он сразу же спрятал в запасник, оставив в экспозиции только слегка подслащенные пейзажи в огромных рамах и полусалонные «ню» – раздетые дебелые тела гаванских венер, в меру идеализированных, похожих одновременно на святых и наивных Гретхен (ведь М. учился в Мюнхене) и на циничных девиц, разгуливающих по Лиговке и выдающих себя за безработных.
О мудрости Мудрого, о его предусмотрительном практицизме еще догадывались не многие.
Что это был за человек?
На этот вопрос не сумела бы толком ответить ни Офелия Аполлоновна, ни пес, да вряд ли и сам Артур Семенович Мудрый, надевавший то нелепый, бросающийся всем в глаза котелок, то помятую серую кепку и хотя нашедший себе место в административно-хозяйственном смысле этого слова, но не находивший его в духовном.
Как выяснилось, он страдал бессонницей. В свободные часы (этих часов набиралось довольно много) писал философский труд, работу, которую он отнюдь не рассчитывал печатать в ближайшие годы, а намерен был хранить в своем письменном столе, пока не наступит ее черед.
Забегая вперед на много недель и даже месяцев, мы позволим себе раскрыть тайну этой еще не завершенной рукописи, потому что это сделал сам автор, прочитав несколько глав Офелии Аполлоновне.
Это было духовно тонкое и оригинальное сочинение, отнюдь не похожее на самого Мудрого и удивившее Офелию своей неожиданной искренностью и даже страстностью, – сочинение, пытавшееся понять и проследить происхождение мышления, явно связанное с возникновением языковых знаков, приведшим человека к могуществу и в то же время к явной утрате органической связи с природой, – утрате все увеличивающейся и увеличивающейся и принимавшей, по мнению автора, трагический оборот.
В работе, собственно, и шла речь о приобретениях и утратах и о том, что одно без другого невозможно в нашем мире, заставляющем человека платить за все.
Мудрый читал, а Офелия слушала и тщетно пыталась соединить несоединимое: этого пробивного, вульгарного человечка с помятой физиономией и его духовно изящную, почти музыкально-прозрачную мысль. И было странно и загадочно, необъяснимо, что этот ловкач и мелкий деляга (почти жулик), беззастенчивый и нахальный в сутолоке жизни, оставаясь один на один с самим собой в тишине кабинета, превращался в тонкого, необычайно искреннего мыслителя, пытавшегося проследить эволюцию духовного становления человечества и понять спорные стороны этого развития.
Но мы забежали вперед. А сначала все выглядело довольно обыденно и просто. Мудрый суетился, Мудрый бегал по учреждениям, Мудрый стоял возле пейзажей и «ню» и объяснял домашним хозяйкам или фабричным работницам, что хотел передать художник М., когда ловил восходы и закаты или заставлял раздеваться своих дебелых натурщиц и пренебрегать правилами лицемерного мещанского приличия.
Пес, синтезируя и анализируя запахи нового хозяина квартиры, хотя и пытался постичь его личность, по со своими выводами не спешил и все принюхивался, псе примерялся, не решаясь мысленно сказать ни «да», ни «нет».
Однажды к музею-квартире подъехал старенький автомобиль и из него вышел нарком А. В. Луначарский.
Мудрый встретил его, провел, показал и экспозицию и запасник. А потом между наркомом и директором крошечного музейчика возник спор, и касался он не экспозиции и даже не живописи художника М., а проблемы несколько отвлеченной и философской – самой сущности музея, этой типичной для нашего времени формы пропаганды и хранения художественных ценностей.
Уходя из музея-квартиры, нарком сказал:
– Спорные мысли вы высказываете, товарищ Мудрый, но интересные. Я посоветовал бы вам написать об этом статью.
– Пока я соберусь, Анатолий Васильевич, – усмехнулся Мудрый, – мысли уже утеряют свою спорность. Просто невозможно угнаться за временем, так все спешит.
– До свиданья. Я тоже спешу, – сказал нарком.
Музей-квартира художника My была открыта только по средам и воскресеньям. Тогда в квартире появлялось много незнакомых людей, бесцеремонно ходивших из комнаты в комнату и рассматривавших столы, стулья, шкафы, вазы и другие предметы, которые были интересны и значительны тем, что пробыли рядом со знаменитым художником М. много лет, служа его повседневным надобностям привычкам, вкусам и прихотям.
И Офелии казалось иногда, что от того, что обычные и обыденные еще недавно живые вещи их домашнего быта превратились в экспонаты музея, кстати занумерованные и заприходованные в специальной ведомости, они стали чужими, полувраждебными, мертвыми, и только один пес был живым. Он не был заприходован и занумерован.
В нерабочие и внеслужебные дни к Офелии Аполлоновне приходили иногда гости, приятели и близкие знакомые покойного М. – художники и искусствоведы со своими женами, по большей части тоже искусствоведкамй и художницами.
Искусствоведки и художницы не блистали ни красотой, ни изяществом. И Офелия, глядя на них, думала, что их преданные мужья слишком уж большую жертву приносили любимому ими искусству.
Все они, сидя за чайным столом, дружно бранили Мудрого, но, браня его, всякий раз почему-то понижали голос почти до шепота и оглядывались, словно Мудрый был где-то рядом и, затаясь за стенкой или шкафом, тайно подслушивал, что о нем говорят.








