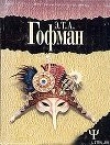Текст книги "Майорат Михоровский"
Автор книги: Гелена Мнишек
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
XXXIV
Осенью в Глембовичи вновь прикатила пани Корнелия Михоровская. Она осыпала майората упреками, ставя ему в вину то, что он сделал Богдана экономом:
– Вот уж никогда не думала, что вы способны так с ним поступить, кузен. Такой нежный мальчик, такой болезненный – и обязан теперь тяжело работать?
Майорат пытался объяснить ей, что Богдан не простой эконом, что он доволен своей работой, судя по его письмам. Но пани Корнелия ничего не желала слушать:
– Разве это занятие для Михоровского?! Боже, если бы это видел мой покойный муж! – вздохнула она. – О, если бы он был жив!
Майорат взорвался:
– Если бы он был жив, Богдан не пришел бы в столь жалкое состояние! Теперь он вынужден работать, потому что жить ему не на что. Он слишком горд, чтобы жить у меня прихлебателем, – и не могу поставить ему этого в упрек! Простите, пани Корнелия, не вы ли сами обвиняли его, что он тратит мои деньги? Совершенно нас не понимаю. Сначала вы отказались от него, а теперь недовольны, когда он зарабатывает на жизнь?
Пани Михоровская смутилась – она сама плохо представляла себе, что хотела услышать от майората и зачем приехала. Тут же принялась прощаться. Майорат сказал напоследок:
– Богдан еще станет человеком. Но, чтобы достичь этого, он должен держаться избранного пути.
Вскоре он решил сам навестить Богдана. Но сначала наехал в Слодковцы. Пани Идалию он там не встретил, – она, проведя лето с отцом и дочерью, вновь уехала за границу, где ее ждали дорогие друзья Барские. Среди аристократов кружил даже слушок, что барон собирается замуж за Барского.
Услышав это, Вальдемар лишь молча пожал плеча Пан Мачей печально кивнул. А Люция сказала: – Что ж, все возможно.
Она смотрела на Вальдемара с немой мольбой словно ища у него утешения в своем сиротстве. Вальдемар старался быть с ней ласковым, и Люция была счастлива.
На этот раз, когда Вальдемар приехал, пан Мач спал, а Люция рисовала в саду. Они уселись в тени апельсинового дерева. Вальдемар курил сигару, Люция растирала краски на палитре. Косы ее были откину за спину, поверх платья она надела большой фартук из черного сатина, как у маляров.
Вальдемар взглянул на ее изящный профиль и мят спросил:
– Люция, почему ты стала одеваться так, словно носишь траур?
Она помолчала, потом ответила:
– Такой уж у меня вкус. К тому же…
– Продолжай.
– К тому же… Что на душе, то и снаружи…
– Значит, ты постоянно пребываешь в печали? Она удивленно, с укором взглянула на него:
– Постоянно…
– Но почему?
– Вальди, ты смеешься надо мной? – спросила она сухо.
Он погасил сигару:
– Ничуть. Мне просто начинает казаться, что Слодковцы вредно на тебя влияют. Тебе нужно уехать.
Люция испуганно уставилась на него:
– Куда?
– Куда угодно. Лишь бы уехать отсюда. Все заботы о дедушке я возьму на себя, а ты с бабушкой Подгорецкой отправляйся в Париж. Ты ведь ее любишь, правда? Она уезжает в Париж на всю зиму и очень хотела бы, чтобы ты поехала с ней.
– Я не поеду, – решительно сказала Люция.
– Даже если тебя попросит дедушка?
– Все равно. Дедушка уже хотел отправить меня за границу с мамой. Год назад. Но я не поехала.
– А если я тебя попрошу?
Люция побледнела, часто-часто заморгала, но все же не смогла остановить навернувшиеся на глаза слезы, и они повисли на длинных ресницах.
Вальдемар склонился к ней, нежно обнял за плечи, притянул к себе. Шепотом повторил:
– А если я тебя попрошу?
– Хочешь от меня избавиться? – всхлипнула Люция, и слезы упали на палитру.
– Ну что ты, Люция! У меня и в мыслях такого не было. Ты мне веришь?
Она внимательно взглянула на него:
– Верю… Вальдемар тихо сказал:
– Значит, поедешь?
– Поеду…
Палитра с громким стуком упала на землю. Люция сидела, напряженно выпрямившись, понурив голову.
Невысказанная радость охватила Вальдемара. Он притянул Люцию ближе, привлек ее головку к себе на плечо и коснулся губами заплаканных глаз. Неземной восторг отхватил Люцию, она словно грезила наяву. Когда горячие губы Вальдемара коснулись ее губ, она готова была от блаженства погрузиться в беспамятство.
Ничего не осталось вокруг, ничего больше не было – только жаркие губы любимого. Весь мир перестал для нее существовать.
Но вдруг могучая, неведомая сила оторвала Вальдемара от девушки. Он задрожал и, страшно побледнев, поцеловал ей руку, избегая встречаться с ней взглядом.
– Прости… – шепнул он вдруг.
Люция, сияющая, как майское солнце, с детской доверчивостью прильнула к плечу майората, спрятала на его груди светловолосую головку и спросила:
– Вальди, почему ты так хочешь, чтобы я уехала?
Вальдемар нежно погладил ее волосы, прошептал изменившимся лицом:
– Забудь об этом… и останься…
Она обвила руками его шею, шептала, не помня себя от сжигающей ее любви:
– Милый мой, единственный, любимый…
Он поцеловал ее в лоб, но уже иначе – словно в прежние времена. Безумие схлынуло.
Вальдемар ласково отстранил ее и встал, в глазах его светилась неуверенность… и словно бы печаль.
– Прогуляемся? – предложил он, хмуря брови.
Люцня ответила влюбленным взглядом, и они гуляли по парку, с трудом принуждая себя разговаривать о будничных делах.
И каждый знал о мучениях другого.
XXXV
Майорат ехал в Руслоцк. На одной из узловых железнодорожных станций он неожиданно столкнулся с четой Понецких. Встреча эта Вальдемара не обрадовала – он умышленно хотел навестить Богдана в отсутствие хозяев, вообще не встречаться с ними. Князь с княгиней, наоборот, обрадовались ему.
Вальдемар тут же спросил о Богдане. Княгиня вы ступила с жалобой, высказанной словно бы шутливо, но так, чтобы майорат сразу почувствовал в ее голосе иронию и яд:
– Ах, пан Богдан! Он законченный социалист…
– Да что вы? – удивился Михоровский.
– О да! Вы и представления не имеете, какие идеи он распространяет в Руслоцке, какие идеи нам подсовывает… Сущий мужикофил!
– Неужели? – усмехнулся Михоровский. – Вы меня! пугаете, княгиня… Что же он натворил?
Князь снисходительно усмехнулся:
– Ну, ничего страшного, ничего страшного…
Но его супруга разгорячилась:
– Представьте себе, пан майорат, Богдан прямо-таки преследует нас проектами разных нововведений! Какие-то школы, какие-то узкоколейки из леса, чтобы мужики не замучились на работе… Где это слыхано?!
– Да, в самом деле… Где это слыхано… – поддакивал Вальдемар, смеясь про себя, чего ни князь, ни княгиня не замечали.
– Или взять его филантропию! Просто скандал! Он взбаламутил нам слуг!
– Но с администрацией, насколько я знаю, он в хороших отношениях?
– О, как же иначе? Он завоевал их своим либерализмом. Вообразите себе, с некоторыми даже дружит!
Князь, усмехнулся, чуть легкомысленно поддакивал:
– Да, этот юноша ничего не достигнет в жизни… Его так привлекают низшие слои общества… Он магнат по рождению, но, боюсь, в нем нет ничего от магната…
Губы майората кривились в насмешливой улыбке, но он молчал.
Княгиня горячо продолжала сыпать жалобами. Ее глаза, большие, черные, слегка выпуклые, пылали жаждой мести:
– Рассказать вам, что он недавно выкинул? Как-то я собралась в костел с детьми и бонной. Пригласила в экипаж и пана Богдана. Бонна, понятно, должна была сесть рядом с кучером. Но этот чудак, ваш кузен, сам полез на козлы, а старуху вежливо пригласил сесть рядом со мной! Comment vous trouvez ca? (Как вы это находите, фр.)
Майорат от души рассмеялся, представив себе безукоризненно светские манеры Богдана и шокированную княгиню. Забавнее всего, должно быть, выглядела старая бонна, не привыкшая в Руслоцке к столь вежливому обхождению.
– И вы еще смеетесь? – удивилась княгиня.
– Ах, сопляк! – смеялся майорат. – И чем же кончилась эта история?
– Я приказала бонне занять надлежащее ей место, а пану Богдану строго указала на нетактичное поведение. Думаете, на него это подействовало?
– Что, он вновь пытался посадить бонну рядом с вами?
– Нет, вылез из экипажа, поблагодарил меня «за компанию» и поехал в костел на простой бричке, с управляющим.
– Феноменально! – усмехнулся майорат.
– Мало того: он уговаривает нас устроить санаторий над каким-то там красивым оврагом в окрестностях Руслоцка. И знаете для кого? Для неимущих чахоточников, у которых нет денег, чтобы поехать на курорт. Он нарисовал планы, чертежи множества домиков, твердит, что содержать этих… милых гостей мы с мужем обязаны бесплатно, потому что у нас, мол, достаточно денег. Он смеет распоряжаться нашим состоянием!!
– Что вы говорите? Боже, какая дерзость! Я потрясен до глубины души!
Но князь Понецкий наконец почувствовал что-то неестественное в искреннем на первый взгляд тоне Валь демара. И припомнил вдруг, что перед ним – еще одни Михоровский, придерживающийся примерно тех же взглядов, что и Богдан. Украдкой сделал жене знак глазами, она поняла и смутилась, быстро перевела разговор на другую тему. И оба под первым попавшимся предлогом откланялись.
Михоровский вдруг изменил планы: прежде чем ехать в Руслоцк, он завернул в Белочеркассы, в свое имение. Там, бродя по лесам, по залам старинного особняка, он раздумывал о Богдане. Порой он содрогался от гнева я отвращения: его угнетала сама мысль, что Богдану приходится служить у таких людей, как Понецкие. Какое влияние они могут оказать на пытливый молодой ум? Наихудшее! Нет, как бы там ни было, видно, что Богдан их влиянию не поддается… Смело высказывает свои идеи. Вполне возможно, пребывание там лишь укрепит его в убеждениях.
XXXVI
Богдан и Голевич стояли на поле, где копали картофель. Шеренги крестьянок в красных юбках и белых рубашках с засученными рукавами протянулись из конца в конец… Тяпки энергично взлетали вверх и опускались. Над полем висела неумолчная бабья трескотня, и окрики экономов врывались в нее резкой нотой.
Рядом с полем пролегал тракт, а за ним золотились хлеба. Бабье лето уже украсило деревья нежными паутинками. От темного леса веяло осенним покоем, жатва уже началась, и длинные, огромные пирамиды из снопов казались памятниками минувшему лету. Журавли вереницами тянулись на юг, печально покрикивая.
На тракте показался изящный экипаж. Крестьянки с любопытством косились на него, перебрасываясь словечками на местном наречии:
– Ганка, подивись! Эти не тутошние, издалека…
– Я знаю эту упряжку, – удивленно сказал Богдану Голевич. – это Белочеркасские кони! Далековато же ехали… Богдан тоже удивился:
– А вы не ошиблись? До Белочеркасс столько верст…
Запряженное четверкой ландо вдруг поехало медленнее. Голевич зорко присмотрелся:
– Белочеркасские, точно! Это майорат!
Богдан бегом припустил к дороге. И радостно вскрикнул, увидев, как из экипажа вылезает Вальдемар.
Они приветствовали друг друга с искренней теплотой.
– Садись и поехали, – велел майорат.
– Куда?
– В Руслоцк.
– Но Понецкие уехали…
– Я приехал не к ним, а к тебе. Богдан с чувством пожал ему руку:
– Спасибо, дядя. Я и подумать не мог, что ради меня ты проделаешь такой путь… Как только кони выдержали?
– Я ехал с подставами. Богдан, что с тобой? Тебя что-то гнетет?
Богдан печально взглянул на него:
– Прости, я решил, что все обо мне забыли…
В голосе его звучала невероятная тоска. Вальдемар встревожился:
– Письма ты пишешь отнюдь не печальные, но довольным не выглядишь… Что с тобой? Тебе плохо здесь?
Богдан сжал губы. Вальдемар понял, что в нем происходит внутренняя борьба.
Наконец Богдан сказал спокойно, улыбнулся даже:
– Что поделать, дядя, работа есть работа. Миновали деньки золотые…
– Значит, выдержишь?
– До конца договора выдержу. Но когда срок истечет, в Руслоцке ни за что не останусь!
– У меня была твоя мать…
– Наверняка со старыми претензиями? Она и мне писала, упрекала, что пошел работать. Хочет, чтобы вернулся в Черчин и стал там администратором у Виктора. – Богдан ухарски сбил шапку на затылок: – Нет уж, не выйдет!
– Виктора нет в Черчине.
– Ну да?! А где же он?
– Путешествует по свету… как ты когда-то.
– Что? Мотает денежки?
– Я бы сказал, весьма активно. Пьет, играет… – майорат пытливо следил, какое впечатление произведет это известие на Богдана.
Юноша побледнел, показалось даже, что глаза его увлажнились:
– Бедная мама… – прошептал он дрожащими губами. – У нее нас только двое, и оба… непутевые…
Взволнованный Вальдемар обнял его:
– Да разве ты непутевый?
– Это потому, что ты меня спас, дядя… Что же будет с мамой? Теперь мне придется работать побольше, чтобы в случае чего… содержать ее. Виктор опорой ей не послужит, у него нет сердца…
– И совести тоже, – кивнул Вальдемар. – Его ничто и никогда не исправит.
Какое-то время они ехали молча, неожиданно Богдан взял Вальдемара за руку и неуверенно, робко спросил:
– Дядя, а что с Люцией? Могу ли я вас… поздравить?
Вальдемар покраснел, нахмурился:
– А ты… ты бы этого хотел?
Богдан сжал его руку:
– Еще как, дядя! Она достойна быть твоей женой и хозяйкой в Глембовичах. И так любит тебя!
– Ладно, об этом мы поговорим потом… А теперь – о твоей работе и планах на будущее.
XXXVII
В глембовическом замке готовились праздновать Рождество. Пан Мачей приехал вместе с внучкой. По вечерам в огромном зале для приемов толпа детей окружала пышную елку. Это были питомцы приюта и ученики устроенных майоратом школ. Их привозили сюда на нескольких санях. Елка достигала верхушкой высоченного потолка, залитая светом, сверкающая, словно шкатулка с драгоценностями. Люция раздавала подарки. В гладком черном бархатном платье, с единственным украшением – ниткой жемчуга на шее, стройная и гибкая, она казалась жрицей друидов, поклонявшихся некогда деревьям. Копна светлых волос, особенно пышных и золотистых по контрасту с черным бархатом платья, поневоле привлекала взгляд. Вальдемар, неотрывно смотревший на нее, припомнил прозвище, год назад приставшее к ней в Варшаве: весталка…
«Да, в ней и в самом деле есть что-то от весталки, – подумал он. – Ее благородная осанка, красота, серьезность..»
Богдан, приехавший на праздники из Руслоцка, должно быть, увствовал то же самое. Он шепнул майорату:
– Вы знаете, дядя, Люция производит прямо-таки… мистическое впечатление. В ней есть что-то таинственное…
Он внимательно посмотрел на нее, словно врач, потом сказал со странной смесью уверенности и опасений:
– Да, такие женщины бывают либо очень счастливы, либо очень несчастливы. Середина – не для них…
Ощутив неприятный укол в сердце, майорат отошел от него.
Богдан не сводил глаз с Люции. Получившие подарки дети хором пели колядки, потом заиграл замковый оркестр, и начался праздник. За порядком следили мажордом и воспитательницы.
Поздно ночью, перед рождественской мессой, которую должны были служить в замковой часовне, Вальдемар, Люция и Богдан вышли на самый верхний балкон – галерею, выходившую на реку.
Зимняя ночь выдалась теплой и тихой, но пасмурной. Облака укутали небо, грозя новыми снегопадами. Парк спокойно спал под снежным покрывалом. Ели превратились в белоснежные шатры; темные голые клены словно укутались медвежьими шкурами. Пушистый ковер лег на ступенях пристани, белоснежная кайма протянулась по берегам реки – сковывавший ее зеленоватый лед был чисто подметен днем и отсвечивал теперь, как зеркало.
Повсюду сливались в своеобразную гармонию серый и белый цвета. В природе воцарилась белоснежная дремота, безграничная дрема.
Вальдемар с Люцией стояли, опершись на балюстраду, глядя в сторону парка. Казалось, оттуда слышатся звуки старинных мистерий, бесприютные духи скользят меж укутанными снегом деревьями.
Обоим было хорошо, они не хотели прерывать благую тишину ни словом, ни жестом.
Выходя на галерею, Люция накинула на голову светло-голубую газовую вуаль, почти скрывшую теперь ее лицо, – только глаза лучисто сверкали, словно яркие звезды, чей свет пробивался сквозь мглистые облака.
Богдан, чувствуязсебя лишним, тихонько удалился.
А они все стояли в молчании.
Первой заговорила Люция, шепнула тихо-тихо, словно боясь разбудить спящую ночь:
– Вальди… красиво, правда?
– Я люблю парк зимой. И эту галерею.
– Да, ты часто бываешь здесь один…
– Один? Нет. Со мной мысли… и воспоминания… Люция невольно вздрогнула.
– Тебе холодно? – спросил Вальдемар. – Подожди минутку…
Он ушел и вскоре вернулся с меховой шубой, накинул ее на плечи Люции. Люция всем телом прильнула к нему, сияние ее глаз приводило Вальдемара в трепет, тепло девичьего тела сводило с ума. Он едва сдерживался, чтобы не заключить девушку в крепкие объятия. Изо всех сил старался взять себя в руки, но Люция все теснее прижималась к нему:
– Вальди…
Вальдемар содрогнулся: шепот ее казался странным, словно не уста говорили, а вещала ее потаенная сущность, ее сердце.
Майорат понимал, что объяснение неизбежно.
Вот-вот должен был прозвучать приговор.
Вальдемар боялся пошевелиться, вздохнуть.
– Вальди… – повторила девушка.
Но теперь ее шепот уже не казался порождением сна или грезы.
Он звучал ожидающе.
Вальдемар ощутил ярость и отчаяние.
Нет сил, совершенно нет сил… Каждым мигом молчания он вселяет в сердце девушки несбыточные надежды, с каждым мигом молчания становится все более виновным перед ней, все более подлым…
Рассеять иллюзии! Грубо прогнать миражи!
Сказать правду! Но эта правда, словно бичом, ударит по обоим…
Быть откровенным – как солнечный свет.
Быть смелым – как преступление.
Значит, он должен совершить преступление? Убить эту девушку откровенностью, но спасти собственную правду… или пойти на ложь – из благородства загубить ложью свою бессмертную душу?
Ради жалости?
Ради неизмеримого сочувствия к ней, не имеющего ничего общего с любовью?
Ради смутно колыхнувшегося в крови отголоска былого любовного пожара?
Ради унылых телесных радостей?
Нет, никогда!..
Вальдемар страшным усилием воли изгнал из сердца всякие желания, попытался найти отвагу…
Так и не услышав его голоса, Люция чувствовала, как он трепещет. Склонила голову – и пушистые пряди коснулись его щеки.
Вальдемар, холодный, как ледяная статуя, заговорил. Слова тяжело давались ему:
– Люци… я давно вижу… чувствую, что… ты…
Она слушала, затаив дыхание. Слова были тихими, ласковыми, но таили в себе нечто враждебное, зловещее…
Над головами у них что-то тихо щелкнуло, и вспыхнул электрический фонарь.
На галерею в сопровождении лакея вышел граф Трестка.
Вальдемар и Люция быстро отодвинулись друг от друга. Девушка негодовала на нежданную помеху, Вальдемар, наоборот, радовался избавлению.
– Что случилось? – спросил он равнодушно, с отсутствующим видом.
Граф удивился:
– Неужели вас не удивляет столь поздний визит?
Вальдемар опомнился:
– Как, ваша жена? Неужели…
– Да, – оживленно сказал граф. – Мальчик! У нас сын! Но именно потому я не могу волновать жену… мальчик родился утром, а в полдень я получил телеграмму… Вот, читайте.
Вальдемар и Люция склонились над телеграммой.
– Из Парижа, от бабушки. Тяжело больна, – повторил Вальдемар вслух, словно здесь был кто-то еще, не знавший этой печальной новости.
Они вернулись в салон.
– Вот я и приехал к вам… – сказал Трестка. – Рита ничего не знает, она никак не может ехать…
– Тогда поеду я, – сказал майорат.
– Нет, там нужна женская опека и забота. Нашей почтенной Добрыси недостаточно, и нужно… – он умолк, не зная, как примут то, что он имел в виду.
Однако Люция сама сказала решительно:
– Я поеду.
– Да, это было бы лучшим выходом… – облегченно кивнул Трестка. Все трое умолкли. Люция была взволнована, ее щеки пылали.
Она взглянула на Вальдемара, но тот избегал встречаться с ней глазами.
Трестка пожал руку девушки:
– Панна Люция, вы спасаете нас всех! Мы, и Рита, и я, будем вам необычайно благодарны… Княгиню нельзя оставлять одну среди чужих…
Люция раздраженно отняла руку, быстро сказала:
– Уговаривать меня ни к чему. Я выезжаю сегодня же, это мой долг. Она же бабушка… Вальдемара, – добавила она тише.
И пытливо, настойчиво взглянула Вальдемару в глаза, словно ожидая, что он будет протестовать против ее решения или предложит какой-то другой выход.
Но он, поцеловал ей руку, сказал лишь:
– О дедушке не беспокойся. Я заберу его к себе.
XXXVIII
Весной Богдан навсегда покидал Руслоцк. Администрация с грустью расставалась с ним. Богдан сам был взволнован и печален – он сжился с коллегами, полюбил их. Если бы не Понецкие…
Он ненадолго заехал в Глембовичи и, получив от майората рекомендательные письма, поехал осмотреть имения, где хозяйство велось наиболее современным и культурным образом.
Дольше всего он пробыл у Гершторфов – там под руководством старого князя практиковался два месяца. После его отъезда князь Гершторф отправил Вальдемару крайне лестное для Богдана письмо. Там были и такие строки: «В жилах твоего кузена, пан майорат, течет твоя кровь. Когда-нибудь он покажет себя должным образом. Величайшая твоя заслуга в том, что ты сумел выбить из него все, чего он нахватался в Черчине и во время своих бесцельных вояжей». Вальдемар был рад.
Богдан побывал и за пределами страны – в Галиции и Венгрии. Потом осмотрел чешские, познаньские, силезские имения. Какое-то время в качестве вольнослушателя посещал лекции агрономической школы в Таборе, осмотрел несколько опытных станций.
Майорат часто получал от него письма со множеством разнообразнейших проектов, исполненных юношеской горячности. Эти письма были продиктованы порывами души, пробужденной для жизни и свершений. Былое уныние ушло без следа. Печаль и тоска угасли под напором пробудившейся врожденной энергии. Склонность к мечтаниям осталась прежней, но теперь ее удерживал в границах разумного кое-какой жизненный опыт. Богдан был идеалистом, но приобретенная им зрелая рассудительность стала уздой для вольной и буйной фантазии.
Богдан созревал умственно и духовно.
Выше других он неизменно ставил майората, ставшего для него примером и непререкаемым авторитетом. Главным виновником происшедшей с Богданом перемены был майорат. Но была и другая причина, подхлестыва-вавшая амбиции Богдана и побуждавшая его к завоеванию новых вершин: Виктор за короткое время привел Черчин в упадок, и забота о матери вынуждала Богдана как можно быстрее встать на ноги. Так минуло полгода.
Княгиня Подгорецкая выздоровела после тяжелой болезни, но на родину не вернулась, жила пока что в Швейцарии. Люция по собственной охоте оставалась с ней.
Графиня Рита, навестившая их там, рассказывала потом Вальдемару, что Люция словно бы создана для опеки над больными, что княгиня крайне ей благодарна за заботу и полюбила, как собственную внучку.
Когда пан Мачей поинтересовался, скоро ли Люция вернется в Сладковцы, Рита покачала головой, бросив при этом на Вальдемара мимолетный взгляд.
– Не думаю, что она вернется скоро… По крайней мере, так я ее поняла – хотя она, нужно сказать, стала неразговорчивой. Видно, что она тоскует по дому… но уверяет, что княгине без нее пока что не обойтись.
Пан Мачей вздохнул:
– Это мне без нее не обойтись…
– Возможно, знай она об этом, вернулась бы, – сказала Рита не особенно убежденно.
– Да если бы дело было во мне одном… – прошептал старик.
Вальдемар притворился, будто не слышит. Он понимал чувства Люции. После сцены на галерее, ставшей, если говорить честно, ее объяснением в любвиот уехала, уверенная, «по он поспешит следом… или каким-то яругам способом, хотя бы письмом, покончит с мучившей их обоих неуверенностью.
Вамьдсмар только теперь осознал: его нескладные слава унеслись со снегом и пропали меж деревьев спящего парка. Лкщия, не видевшая лица Вальдемара, не поняла подлинного смысла его слов, не поняла, что они ей сулили.
Она по-прежнему питала надежды…
…Прошла зима, весна и лето.
Вальдемар не приехал, не написал.
И Люция в приливе оскорбленной гордости не хотела возвращаться.
Прошло пять лет со дня смерти Стефы Рудецкой.
Прошло пять лет с того времени, когда в сердце Люцни вспыхнула любовь к Вальдемару.
Пять лет надежды, борьбы, страданий, печали. Надежда вспыхивала на миг ярким метеором и тут же гасла во мгле сомнений и неуверенности…
Истина вышла наружу.
И Люция, испив чашу горя до дна, решила принять предложение графа Брохвича.