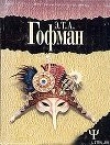Текст книги "Майорат Михоровский"
Автор книги: Гелена Мнишек
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
VI
И вновь майорат руководил тушением пожара. Он прискакал туда в самую трагическую минуту, когда рухнули балки. Коровы, пронзительно мыча, бросались прямо в огонь. Безумие охватило скот. Его прямо-таки человеческие крики разносились по всей околице, эхо множилось, неся жалобное мычанье телят. Коровы рыли ногами землю, вдыхая раздутыми ноздрями гарь пожарища. Глаза их горели яростью. Страх отнял у них всякое соображение, гнал вслепую в пламя. Сгорели коровники, сараи, амбары с зерном. Повсюду вздымалось гудящее пламя, летали облака сажи. Уцелели только конюшни, на них и сосредоточили все усилия, видя, что остального уже не спасти.
Никто из местных крестьян не помогал бороться с огнем. Они кучками стояли в отдалении, задевая шутками пожарных, смеясь над графом Тресткой, бегавшим среди огня и ругавшимся на разных языках. Майорат Михоровский наконец сумел перехватить его и укоризненно сказал:
– Пан граф, не выставляй себя на посмешище. Быдло над тобой уже смеется. Не давай им повода.
Трестка, казалось, совершенно обезумел.
– Я им посмеюсь… воры, злодеи! Я их всех упеку за решетку, на каторгу! Ремни со спины драть! Скоты!
И из его уст хлынул поток весьма выразительных проклятий, часто перемежавшихся иностранными эпитетами, ничуть не менее сильными.
Майорат недовольно покривил губы, продолжая терпеливо успокаивать графа. В конце концов отдал его под опеку пани Риты, но и это немногим помогло. Граф то ругался отчаянно, то ломал руки, восклицая:
– Мои амбары! Коровники!
Потери действительно были огромными. Сгорело десятка два породистых коров – их обугленные туши валялись, словно диковинные кучи угля, распространяя удушливый запах горелого. Страшное зрелище…
Когда пожар потушили, майорат прошел в кабинет графа, чтобы побеседовать с ним и местным управителем. Но от графа не было никакого толку, он лишь повторял печально:
– Мои амбары… мои коровники…
Майорат выяснил подробности – как получилось, что бунт все-таки вспыхнул? Во всех деталях расспросил об условиях содержания рабочих, об оплате их труда. Просмотрел бухгалтерские книги, проверил счета.
Оказалось, что никаких агитаторов не было. Бунт начался из-за невыплаченного жалованья, неурегулированных контрактов и договоров, личных обид.
Майорат просмотрел все записи о тяжбах графа с крестьянами и покачал головой – иные выглядели прямо-таки смешно.
«То ли глупость, то ли безумие» – подумал он, а вслух сказал:
– Единственное, чем я ленюсь заниматься, – это тяжбы.
– Я теперь тоже перестану судиться! – вскричал граф. – Буду всаживать пулю в лоб, и точка! Меньше прохвостов останется!
Присутствовавшая тут же пани Рита поджала губы, майорат промолчал.
Поговорив с ней, через пару часов Вальдемар собрался уезжать. Но не смог этого сделать – несколько десятков бунтовщиков собрались перед главным входом, требуя, чтобы к ним вышел граф. Пани Рита схватила Михоровского за руку:
– Не покидайте нас! Вы же знаете Эдварда… Тут нужны ум и такт, а Эдвард так разъярен… – добавила она, словно пытаясь оправдать мужа.
Майорату пришлось остаться и объяснить графу, как следует говорить с крестьянами. Он долго убеждал его и в конце концов сумел внушить, что стрелять в людей не годится.
Забастовщиков позвали в главный зал. Они вошли, громко стуча сапогами, гордо задрав головы, шумно переговаривались, плевали и сморкались, не щадя блестящего паркета. Камердинер в галунах со страхом смотрел на них в щелочку приоткрытой двери.
Когда все собрались в зале, к ним из соседней комнаты почти силой вытолкнули Трестку. Майорат не показался.
Граф остановился на пороге, остолбенелым взглядом окинул пришедших, и… с носа у него свалилось пенсне. Граф стал протирать его платком, но руки дрожали. Пенсне выскользнуло и вновь повисло на шнурке. Граф лихорадочно, на ощупь попытался его схватить. В толпе послышались тихие смешки и шепотки.
– Проклятье! – выругался Трестка.
Нервно поймал пенсне, надел его на нос, заложил руки за спину, смело шагнул вперед, высоко подняв подбородок, и спросил с надменным выражением лица:
– Ну?
Ответом было молчание.
Он сделал шаг вперед и повторил:
– Ну?
Тишина. Толпа всколыхнулась, шепотки стали громче, шаркнули подошвы… и вдруг в едином порыве люди подались вперед.
Граф резко отшатнулся, не сумев скрыть страх:.
– Ну? Ну? Да что вы, онемели?
Какой-то плечистый мужик сказал пропитым басом:
– Повысьте нам, пан граф, жалованье и натурой больше выдавайте. Мы так промеж себя решили…
Трестка поразился:
– Я вам еще должен платить за то, что вы мне все спалили? Совсем с ума посходили!
– Да не мы одни палили, деревенские тоже… – раздался из толпы одинокий голос. – Не надо было с ними заводиться, те выпасы ихними были от дедов-прадедов…
У Трестки вновь упало пенсне. Он поглубже насадил его на нос и взорвался:
– А лес?! Может, и лес они хотят?
– А как же! И деревья они могут рубить. Исстари так было, нещто вы запретите?
Магнат бросился на них, размахивая кулаком, заорал:
– А вот и запрещу! Посмотрите, запрещу! Я вас научу, как красть! Все в тюрьму пойдете…
И он принялся ругаться на чужих языках. Толпа зашумела. Раздались голоса:
– Вот мужиков в тюрьму и посылайте, хоть всех! А нам увеличьте жалованье и плату натурой!
– Не дам! Ничего не дам! Слышите? И вас в тюрьму упрячу, скоты!
Толпа всколыхнулась, волнение нарастало, люди кричали, перебивая друг друга:
– Если не получим, чего требуем, и остальное сожгем! И на работу ни один не выйдет!
– Времена нынче другие!
– Теперь-то паны приутихнут! Теперь все по-нашему, а что не так – бастуем!
– И не орите, пан граф, никто вас не боится!
– Жалованье побольше, натурой побольше, а работы поменьше, вот и весь сказ!
– Вот тут у нас все записано, почитайте!
Трестка вышел из себя:
– Что? Я? Я буду читать то, что вы там нацарапали? Вон отсюда, прохвосты этакие! Жечь будете? Пугать? Перестреляю, как собак!
– Ну ладно! Драться так драться! – раздались враждебные голоса.
Граф, вне себя от ярости, кричал, топал, хлопал себя по карманам, ища оружие:
– Убью! Перебью, как собак!
Он выглядел крайне комично – дергался, подскакивая на месте, красный от злости, меча уничтожающие взгляды.
Среди собравшихся послышался хохот, посыпались шуточки.
Внезапно в дверях за спиной у графа появился майорат, спокойный, суровый, с грозно нахмуренными бровями.
Вмиг наступила тишина, словно всем заткнули рты. Люди выпрямились, чуть ли не держа руки по швам.
Трестка, не понимая, отчего так странно повела себя разудалая толпа, умолк, удивленный не меньше бунтующих. Потом оглянулся. К нему медленно приближался майорат. Только теперь граф все понял. Внезапно утешившись, он произнес с веселой яростью:
– Ага! Прохвосты! Хамы проклятые! Не ожидали, что здесь майорат? Что, языки проглотили?
Михоровский оттащил его в сторону и шепнул по-французски:
– Уйдите немедленно! Чему я вас учил? Довольно выставлять себя на посмешище!
В его голосе было столько спокойной уверенности, звучал он столь властно, что Трестка смешался и медленно вышел, понурив голову.
Михоровский перевел холодный взор на притихших бунтовщиков и спросил:
– Чего вы хотите?
Они мяли в руках шапки, переступали с ноги на ногу. Самый смелый наконец решился;
– Мы… мы, пан майорат… все вместе стало быть… пришли вот…
– Вижу, что пришли. Что вы хотите?
– Повышения…
– Какого?
– Вот тут написано…
Михоровский взял бумагу, пробежал ее взглядом и сказал:
– Ваши условия невыполнимы. Натурой и деньгами вы получаете столько же, сколько получают у меня, а значит, вполне достаточно. Я своим людям платы не повышаю, значит, и вам не о чем просить. Тем более, что вы этого и не заслуживаете.
Раздались голоса:
– Мы бы за половину этого лучше у вас служили бы…
– Пусть нам пан граф повысит плату и рассчитается по старым долгам, тогда и пойдем работать…
– А нет – так и мы… – выкрикнул кто-то громко, но другие втолкнули его в середину, зажимая рот.
– С каких пор вам не плачено? – спросил майорат.
– Еще с рождественского поста, пане…
– Хорошо. Вам заплатят. Можете идти. А с апреля ищите себе другую работу. Здесь нужны люди поспокойнее…
Майорат повернулся к выглядывавшему в щелочку лакею:
– Проводите их в канцелярию к пану кассиру.
Лакей молча поклонился. Майорат вышел.
Воцарилась тишина. Забастовщики молча переглядывались. Когда лакей распахнул дверь настежь и велел идти за ним, они вышли, тяжко ступая, понурив, головы.
Выплата затянулась надолго. Майорату пришлось посылать в Глембовичи, потому что в Ожаровской кассе денег не хватило.
Пани Рита казалась больной. Трестка то ругался, то потирал руки, громко благодаря майората.
А майорат молчал.
VII
После бунта в Ожарове тень страха накрыла округу. Многие обыватели срочно уехали – но буря не утихла. То, что с апреля все работники Ожарова были уволены, произвело большое впечатление. Народ потерял охоту к бунтам и забастовкам, буйная активность сменилась покорностью. Агитаторы исчезли, а если какой и появлялся, его гнали. из фольварков и деревень. Казалось, покой был обеспечен.
В Слодковцах пан Мачей тешился обществом внучки. Под ее заботливой опекой старик ожил, вкус к жизни вернулся к нему. Лишь письма пани Эльзоновской, необычайно истеричные, полные упреков, печалили его. Пани Идалия настаивала, чтобы дочь вернулась к ней, сердилась на отца за то, что он «удерживает» ее, – но Люция сама не хотела возвращаться. Видя, что мать не переубедишь, Люция перестала отвечать на ее письма. Она заботливо ухаживала за дедушкой, кроме того, взяла на себя опеку над школой и больницей имени Стефании. Порой сама давала уроки детям.
Рано утром, когда пан Мачей еще спал, во дворе появлялась стройная фигурка Люции – она спешила в школу. Приютские дети встречали ее радостными возгласами. Больные улыбались ей, Люция стала добрым ангелом Слодковцов. Она напоминала пану Мачею Стефу Рудецкую – столь же обаятельная и милая, даже напоминавшая Стефу иными жестами. Правда, Стефа была живая, как искорка, и очень веселая. Люция держалась более спокойно и серьезно. Характер ее изменился. Она обрела твердость духа, былое детское упрямство приобрело черты взрослой решимости. Улыбалась она редко, но прямо-таки ослепительно, чаще всего дедушке, детям и больным. Внешность ее изменилась мало, она только лишь повзрослела; детская фигурка стала изящной, девичьей. Свои пышные светло-пепельные волосы Люция заплетала в две толстые косы, иногда укладывая их на затылке на манер короны. Ее кожа, нежная, как лепестки нарцисса, от свежего деревенского воздуха еще более посвежела. Губы ее были полными, серо-голубые глаза лучисто светились из-под темных ресниц и бровей. Хотя частенько ресницы ее были опущены, она смотрела хмуро, исподлобья. Она избегала шумного общества и вообще к посторонним относилась сдержанно и недоверчиво. Слодковцов ей было вполне достаточно, она нигде больше не бывала, только изредка ездила с Вальдемаром в Обронное и Ожары.
Люция поселилась в своей старой комнате рядом с комнаткой Стефы, которую превратила во что-то вроде часовенки или маленького мемориала. Среди самых прекрасных цветов разместились ценные картины и другие произведения искусства, когда-то любимые Стефой.
Среди всего этого великолепия непосвященному было бы странно видеть застеленную покрывалом постель, зеркало и мраморный умывальник с серебряными вазочками. Но непосвященные там не бывали…
Над софой, у окна, в старинной раме висел большой образ Богоматери – копия Сикстинской мадонны Рафаэля.
Над каминной доской разместился огромный портрет Стефании Рудецкой, украшенный дорогой драпировкой, Комната была посвящена памяти невесты майората. Люция часто просиживала там целыми часами, читая или о чем-то думая. Порой ее печальные глаза долго не отрывались от небольшой картины вид Слодковцов, когда-то изображенный Стефой. Картина стояла на мольберте в окружении пальм. Эта была единственная драгоценная память о подруге. Все остальные картины Стефы майорат увез в Глембовичи. Сидя в комнате, Люция вспоминала минувшие времена, веселые беспечальные, словно букеты свежих цветов. Потом пришли другие, погубившие прежнее счастье… Люция возненавидела мир, ощущая прямо-таки брезгливость к людям своего круга. Аристократия, которую она прежде почти обожествляла, измельчала в глазах Люции. И каждый вельможа вызывал теперь ее неприязнь, даже члены семьи – кроме Вальдемара и дедушки. Люция временами даже забывала, что и они аристократы. Постепенно ее отношение к бомонду превратилось в фанатичную ненависть. Пребывание в бельгийском монастыре в какой-то мере сгладило эти чувства, но не изменило. Разве что ненависть переродилась в язвительную иронию. Среди аристократов тех стран, где они с матерью побывали, девушка слыла скрытной и неприступной. Лишь Слодковцы заставили ее чуточку потеплеть – но все равно ни Вальдемар, ни пан Мачей не знали ее потаенных мыслей. Временами она впадала в апатию и переставала замечать окружающих. Пан Мачей сначала считал это тоской по большому миру, потом стал подозревать, что виной всему любовные чувства, быть может, сердечное разочарование. Ему казалось, что именно этим объясняется ее бегство из Ниццы. А ведь она имела там большой успех, окружена была многочисленными поклонницами… И пан Мачей пришел к выводу, что Люция полюбила кого-то вопреки воле и расчетам матери. Однако почтенный старик как ни старался, не мог разговорить Люцию.
Так прошли весна и часть лета.
Пани Идалия оставалась за границей, оскорбленная, злая на дочку. Да и беспорядки на родине ее пугали, так что о возвращении она и не помышляла.
В середине июля в Слодковцы приехал с майоратом Ежи Брохвич. Люция встретила его, плохо скрывая недоброжелательство – и явственно краснея.
Брохвич тоже изменился. Неумолимое время оставило на его лице зримые отпечатки прожитых лет. Давняя разудалость приутихла. Но его чувство юмора, красноречие и словоохотливость остались прежними, не изменившись ничуть.
Пан Мачей приветствовал его чуточку напряженно. Они не виделись со дня похорон Стефы Рудецкой. За границей Брохвич встречался с пани Идалией и Люцией – и пан Мачей, зная об этом, питал теперь определенные подозрения, которые старательно скрывал. Замешательство Люции при встрече с Брохвичем заставило старика задуматься – неужели он отыскал разгадку?
Люция спросила о матери. Брохвич. попытался отделаться общими фразами, но Вальдемар был откровеннее, говоря без церемоний:
– Мама? Твоя мама прекрасно развлекается. Сплошные карнавалы. Усердно ищет новых впечатлений на юге. Землетрясения ей мало. Теперь у нее очередная мания – ведет прямо-таки сенсационное дело, что, надо полагать, безмерно ее развлекает…
– А что за дело? – спросила Люция.
– Развод Занецких, – сказал Вальдемар.
– Но ведь княгиня Мелания неразлучна с мамой?
– Ну да.
– И Барский?
– Конечно. Именно Барский и настаивает, чтобы любимая доченька Мелания развелась с Занецким. Великолепная троица… Единственный, кого мне жаль в этой истории – сам князь Занецкий…
Люция понурила голову, ее губы брезгливо скривились:
– Господи… Как можно? Мама сдружилась с Барскими, с этими…
Вальдемар поспешил сменить тему.
В тот же день Люция написала матери, умоляя ее вернуться в Слодковцы и порвать всякие отношения как с Барским, так и с его дочкой. Но пани Идалия, получив письмо, осталась невозмутима и отношений ни с кем порывать не стала.
VIII
Брохвич много времени проводил в Глембовичах, дружелюбно, но и словно бы с неким недоверием наблюдая за действиями Михоровского и отношениями его с окрестной шляхтой. Он относился к Вальдемару с прежним уважением, его интересовали планируемые майоратом общественные программы, но сам Брохвич не принимал в них участия. Дни напролет он читал, играл, мечтал. Казалось, он находится под действием наркотиков. Что-то удерживало его в плену грез, гася всякую активность.
Майорат, наоборот, был олицетворением жизненной анергии. Общественные дела, внутренняя политика, хозяйство – все это оставалось предметом его неустанного интереса и сферой приложения недюжинных сил. Его острый ум постоянно искал новое поле деятельности – и находил. Глембовичи стали местом, где проводились всевозможные съезды и конференции. Местные аристократы косо поглядывали на «демократические заигрывания майората», но под его влиянием порой были вынуждены участвовать в его программах. А они были довольно широки и всеобъемлющи. Вот только политические сложности и напряженность в стране мешали их осуществлению. Постоянное ожидание неких важных событий, резкие повороты курса в высших сферах управления – все это тормозило работу. Расплодившиеся партии и союзы парализовали филантропическую деятельность.
Сам майорат ни к каким партиям не примыкал, сохраняя, однако, терпимость ко всем. На конференциях он говорил мало, высказывал лишь конкретные суждения, они были хорошо продуманы и оттого почти всегда приносили ему победу. Он не разбрасывался бездумно словами, не вступал в дискуссии с теми, кто пытался с ним спорить, стремился, чтобы каждое его слово было весомым и серьезным. Откровенно он говорил лишь с дедушкой и Люцией. Майорат не только рассказывал им о своих планах, но и открывал перед ними свои глубоко затаенные мысли. Вальдемар изучал людей окружавших его, и, часто удрученный тем, что не открывалось, жаловался Люции и дедушке:
– Будь на свете меньше излишних амбиций, меньше было бы лжи и лицемерия. Если бы люди набрали смелости показать себя миру такими, какие они есть самом деле, они стали бы счастливее. Ничто так не калечит душу, как уверенность, будто для внешне! мира нужно иметь маску, а подлинное лицо сохраняя исключительно для себя самого… Несмотря на изощренейшее, скажем даже, искуснейшее лицемерие, такс притворщик прекрасно знает себе истинную цену, если благородство еще не совсем умерло в нем, с страдает, прекрасно зная, что притворяется. А это ужасно…
Люция энергично встряхнула головой:
– Добавь еще, что такой человек и не подумает исправиться. Если он слаб, убог духом – он верит свою маску. Если подлый – смеется в глубине души в своей личиной, иронизирует – но никогда не снимет. А чаще иронию он обращает не на свою маску и не пороки окружающего мира, а, на тех, кто принимает личину за подлинное лицо…
– А это уже вершина подлости, – закончил Вальдемар..
Старик Михоровский смотрел на них печально, даже испуганно:
– Вот оно, молодое поколение… Люция, неужто ты исполнилась к миру столь злой иронии?
– Я уже много знаю о нем, – ответила она коротко.
Зато Брохвич не размышлял о политике и не пытался подвергать людей глубокому анализу. Он часами просиживал с книгой в руке в глубине парка среди фруктовых деревьев. Но не читал. Ласкал взором деревья с листьями, начавшими уже желтеть.
Спелые, перезрелые сливы, с бархатно-лиловой кожицей в серебристом пушке, свисали с веток тяжелыми гроздьями, падали в траву, лопались, обнажая желтую сочную мякоть. Тугие груши и поблескивающие алые яблоки творили красочную осеннюю мозаику, создавая неуловимую атмосферу сытости, довольства, торжества, жизненных сил земли. Брохвич любил этот сад – здесь; ему было особенно покойно в тихом уединении. Ой; гулял по теплицам, рисовал пышные кисти черного и зеленого винограда, любовался золотистыми ананасами. Бархатистые шары персиков и темно-золотые фонарики смелых абрикосов привлекали его взор, словно прекрасные цветы. Он часами прогуливался под деревьями, наступая невзначай на спелые сливы-венгерки, погруженный в раздумья, с печалью в глазах. И вдруг очнулся от тоски и сомнений. Внезапно принятое твердое решение разбудило его. Он энергичной походкой направился в замок и спросил, где найти майората. Великан Юр сказал тихо, даже благоговейно: – Пан майорат играет…
Брохвич прекрасно знал, что это означает: майорат играет на органе в музыкальном салоне. Ежи любил эти минуты и никогда не решился бы прервать игру Вальдемара. Даже не вошел в салон – сел в боковой комнатке и поневоле заслушался.
Михоровский не часто позволял себе сесть за орган, отдавшись душой воспоминаниям, потому что в такие минуты его охватывало почти мистическое настроение. Все, что дорого его сердцу, боль от пережитой два года назад трагедии – все это вновь становилось явью, небывалой тяжестью угнетая сердце. Он бежал от органа, но порой все же не выдерживал, садился играть – и прошлое словно обступало его в этом зале. Казалось, вот-вот, оглянувшись, он увидит бесшумно подошедшую Стефу, услышит ее голос. И ласкал взглядом ее портрет, пытаясь пробудить к жизни полотно. Портрет висел рядом с органом. Когда майорат играл сонету Бетховена, любимую ими обоими, лицо на портрете словно бы озарялось ясной улыбкой. Стоило ему заиграть печальный марш или ноктюрн Шопена, чело покойной невесты хмурилось. И тогда ужас охватывал Вальдемара – он видел Стефу избранницей смерти, безмолвно лежащей в ручаевском доме среди вороха цветов…
Никто в такие минуты не осмеливался войти. Весь замок погружался в молчание. Чьи-то невидимые пальцы касались струн других музыкальных инструментов в салоне, и со звуками органа сплеталась иная песнь, могучая и печальная, песнь вдохновения, исполненная очарования, боли, муки…
Это сейчас и слышал Брохвич. Не только пальцы Вальдемара нажимали клавиши – играла тоска, постоянно разъедающая его душу, играл ураган безжалостно оборванных рукой смерти чувств, играла печаль, столь жаркая, что и океан, вылитый на этот огонь, не погасил бы его…
«Если так пойдет дальше, смерть Стефы, майорате и этот орган станут чем-то вроде мифа», – подумал: Брохвич.
И не ошибся. Окружающие уже смотрели на замок как на мавзолей. Серые стены, окутанные вечерним сумраком, казались символом несчастья. Прекрасное здание охотно встречало гостей – но приезжали лишь люди дела, связанные с майоратом общими идеям, ничего от прежних забав не осталось, даже эхо, даже память о них растворились без следа. Стихли веселые голоса, больше не встречались пестрые кавалькады. замок стал угрюмой скалой, гнездом последнего птенца орлиного рода – и раненая грудь его кровоточила…
В тот день Брохвич не отважился говорить с Михаровским о своих делах. Лишь назавтра сказал за столом:
– Мне пора уезжать. Хочу сегодня заехать в Слодковцы. Вальди, прошу тебя, поедем со мной…
– Хочешь объясниться с Люцией?!
Брохвич удивленно взглянул на него:
– Ты знаешь?!
– Догадывался. Оба помолчали.
– Объясниться? – повторил Брохвич. – Не знаю. Ничего не знаю…
– Ты никогда не говорил с ней о своих чувствах?
– Никогда.
– Но она знает не хуже меня.
– И?..
– Мне она не доверялась. Трудно отгадать, что она думает…
Брохвич провел ладонью по своим густым светлым, волосам:
– Вальди, ты догадывался, но не мог знать, как я ее люблю. Это возникло словно бы ниоткуда… Девочка превратилась в благоуханный цветок – но что, если он цветет не для меня? Она любит… наверняка любит; только, сдается, не меня…
Майорат пытливо взглянул другу в глаза:
– А кого, ты не догадываешься?
– Кого-то, кто остался в Ницце. Она бежала от него…
– Но кто же это?
– Не знаю. Она стала скрытной. Ты поедешь со мной, Вальди?
– Да… Кто знает, вдруг мы оба ошибаемся?
– Не понимаю.
– Ты ошибаешься, думая, что есть кто-то другой. Мне кажется, что это ты…
– Я?!
– Но я тоже могу ошибаться, и нет никого. Люция и в самом деле скрытна…
Брохвич печально взглянул на маойрата:
– Лучше бы она не любила никого… Что, если нынешнее ее состояние лишь апатия, разочарование в жизни?
– Нет. Люцию угнетает что-то конкретное, – сказал Михоровский очень серьезно.