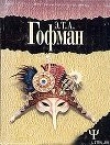Текст книги "Майорат Михоровский"
Автор книги: Гелена Мнишек
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
XXII
После этого случая Богдан зарекся выступать в роли свата. Вернувшись после сумасшедшей скачки, он держал себя с Вольдемаром так, словно между ними ничего не произошло. Вальдемар не мог долго на него сердиться. У Богдана был удивительный талант любую свою выходку представить так, что непонятно было: то ли смеяться над ним, то ли побыстрее все забыть…
Однако там, где речь шла о работе, Богдану никакого снисхождения не делалось. Спрос с него был, как с любого другого практиканта. Но он и здесь ухитрялся показать свой характер. Когда его отправляли на поле надзирать за работающими, он преспокойно утыкался носом в книжку, а то рисовал в альбоме пышнотелых крестьянок, показывая потом свои работы майорату. Когда майорат справедливо замечал, что занятый рисованием с натуры практикант не способен надзирать за рабочими, Богдан отвечал недоумевающе:
– Но я же там стою?! Им этого и довольно. Все равно быть экономом не моя планида…
Фабрики занимали его несколько больше. Он часто уходил в лес поохотиться или престо побродить в мечтательных раздумьях. Он мог проронить слезу над срубленным деревом, но набросившегося на него бродячего пса хладнокровно ударил кинжалом, нанеся смертельный удар. Правда, потом он выбросил кинжал в печь и беспрестанно мыл руки, на которых ему чудилась кровь. Он без колебаний стрелял в любую четвероногую дичь, однако ни за что на свете не убил бы птицу. Любил говаривать, что птицы неизмеримо выше человека – потому что обладают неограниченной свободой. Когда однажды он увидел графиню Риту стреляющей в дикого голубя, перестал целовать ей руку. В гневе он бывал необуздан – но мстительности не знал. За какую-то ничтожную провинность ударил конюха хлыстом со всего размаху, но, услышав его крик, тут же расцеловал его, как брата, отдал ему свое месячное жалованье и подарил золотые часы.
О прекрасной половине рода человеческого он не забывал ни на миг. Идеалы ежедневно менялись, каждую новую возлюбленную – Касю, Марысю, Басю – он воспевал в стихах и рисовал. В своих мимолетных романах с сельскими прелестницами он ухитрялся сохранять столько романтики и шляхетского благородства, что майорат поневоле опускал руки, не решаясь упрекнуть.
Жизнерадостный Богдан оживлял не только Глембовичи, но и всю округу! Когда под конец лета в Глембовичи приехал граф Гербский, он не узнал былого игрока – Богдан словно бы обрел мужественность, выглядел спокойным и уверенным.
– Что случилось с этим повесой? – спросил майората граф Доминик.
– Я из него делаю настоящего Михоровского, – усмехнулся Вальдемар. – Объезжаю, как арабского жеребца.
– Скорее уж укрощаете, как дикого зверя…
– Ну что вы. Просто твердой рукой направляю его на верную дорогу.
– Кем же он, по-вашему, может стать?
– Администратором. У него фантастические способности к математике, он энергичен, умен. Основательно придется еще поработать…
Гербский с сомнением покачал головой:
– Выйдет ни то ни се. Ни пан, ни толковый служащий. Чтобы быть паном, у него нет денег, а работа он не сотворен…
– Человек как раз и сотворен для работы, – сухо сказал майорат. – Нужно лишь привить ему охоту ней. Выучив его, я найду ему работу у чужих людей. Поневоле придется зарабатывать на хлеб.
– Гм… Сомневаюсь, что Глембовичи сделают него работящего человека. Очень уж здесь комфортно. Здешняя роскошь никак не способствует тому, чтобы выбить из него великопанские замашки.
Вальдемар быстро сменил тему. Он знал одно – дюбыми усилиями он постарается сделать Богдана полезнымчленом общества. Эта задача – единственное, что заполняет пустоту его нынешнего существования.
«Нет, он будет человеком!» – восклицал про себя майорат.
XXIII
Как-то вечером, вернувшись из Слодковцов, Вальдемар обнаружил у себя на столе письмо Богдана, состоявшее из одной-единственной строчки:. – «Не ищите меня, я вернусь».
Вальдемар вызвал лакея:
– Давно уехал молодой барин?
– Часа два назад. Велел оседлать Рамзеса… «Снова на этом звере», – подумал майорат, но вслух ничего не сказал.
Наступила ясная, лунная осенняя ночь.
От влажной земли поднимались бело-серые клубы тумана, покрывая мокрую траву, сверкавшую от густой росы, ползли над полями, стелились над пригорками, сгущались над бочагами, озаренные лунным сиянием, словно опаловый дым кадильниц в часовне из хрусталя и серебра.
Темная чащоба зарылась в туман, словно кудлатый медведь в пелену снежной бури. Туман окутывал стволы, полз по ветвям, поглощал раскидистые кроны, дыша странной печалью сотканных из лунного света видений Легких, как дыхание. Печаль эта плыла над полями, проникая в сердце Богдана.
Богдан вздрогнул. Конь под ним дернулся, почувствовав неуверенность седока. Белый заяц вдруг выскочил из-под самых копыт, пролетел снежным комочком и исчез в тумане. Норовистый конь вскинулся и понес.
Богдан был скверным наездником. Чувствуя, что вот-вот упадет, он обхватил руками шею араба, а тот летел, словно дух туманных полей, то исчезая в клубах сизой мглы, то выныривая под лунное сияние.
Понемногу Богдан оправился от испуга, ему даже понравилась бешеная скачка в таинственной ночи. Он ощупью нашел поводья и теперь направлял коня в густые полосы тумана, жадно вдыхая влажную сырость, упиваясь свободой и зыбкими миражами.
Впереди вдруг возник ров, до краев полный темной водой с висевшими над ней клочьями тумана. Рамзес прыгнул, легко преодолев преграду. Но Богдан не удержался в седле. Он, вскрикнув, полетел на землю. Услышав удаляющийся стук копыт испуганного коня, тут же вскочил на ноги, но Рамзес был уже далеко.
Богдан остался один в белом мареве тумана. Болела левая рука, в голове слегка шумело, но он, в общем, не пострадал, наоборот – ощущал какую-то приподнятость. Он обрел то, чего так жаждал: тишину и одиночество.
И медленно пошел берегом канала, направляясь туда, – где едва слышно шумел темный бор.
Богдан не думал ни об убежавшем коне, ни о том, что оказался в неизвестных ему местах и не знает дороги; Только один вопрос звучал в ушах: – Неужели пора? Выдержу ли я? Богдан мысленным взором увидел понурую даль своей жизни, лишенную горизонтов, замкнутую в круг обязанностей. Печаль охватила его, словно жажда, которую человек не в силах утолить, но не может изгнать из сознания. Тревога о будущем вползала в душу Богдана, пробуждая там безотчетный страх. Он знал, что потерян для мира, в котором жил, дошел до предела, его прежние идеалы повергнуты во прах. Никогда еще он не осознавал этого так ясно, как теперь. Жизнь выбила его из седла столь же безжалостно, как только что Рамзес, предоставив самому себе, и рассчитывать отныне предстояло лишь на собственные силы. Он потерял опору – но обрел опеку. Майорат приютил бездомного бродягу, но Глембовичи были лишь порогом к новой жизни. И окружающую роскошь вскоре предстояло покинуть ради тяжкой работы ради куска хлеба.
Нужно забыть о прошлом, отринуть былую шляхскую спесь, идти в широкий мир, явиться людям не в качестве Михоровского-аристократа у родовитого пана, магната и богача, а Михоровского, работающего за деньги, Михоровского-подчиненного, всецело зависящего от нанимателей. Нужно забыть обо всем, что так любил – о путешествиях и легко тратившихся деньгах, о блеске и роскоши, о вечном фейерверке беззаботной жизни! Нужно забыть о прежних мечтах и фантазиях, потому что нет прозаического фундамента для них – денег. Он потерял все, что имел, считая деньги вещью низкой, недостойной раздумий благородного человека, он свято полагал, что деньги выполняют лишь роль лакея, послушно отворяющего двери в сияющий мир роскоши и богатства, а потому следует пользоваться ими, но искренне презирать… Боже, какими пустыми и ничтожными казались теперь Богдану эти мысли!
Деньги отомстили наконец. Мертвый дракон – золото – скалит клыки и дико хохочет. И хохот этот доносится отовсюду: куда ни повернись, в мозг врывается зловещий рев:
– Работа, работа, работа! Только работа и осталась – тяжелая, унылая, неизбежная… Золото ускользнуло из холеных ладоней и мстит теперь…
Первый укол боли Богдан почувствовал в казино, когда крупье смел своей лопаточкой его последние деньги. Словно невидимая рука нанесла сильный удар в грудь – но в тот миг Богдан еще не понял, что произошло, и отделался веселыми шутками.
Лишь теперь он в полной мере оценил трагизм происшедшего.
И будущее лежит перед ним, как на ладони. Но Богдан не поддастся несчастьям, не опустит руки. В прихлебателях майората жить не будет. Возьмет жизнь за рога и будет бороться до последнего.
Возможно, он и победит гидру грядущей нужды и к нему придет достаток – или когти гидры станут хотя бы не столь острыми и мучительными. Как бы там ни было, придется научиться во многом отказывать себе Богдан шагал в клубах редеющего тумана, привыкая к грядущей неизбежности.
Он вошел в лес. Шум невидимых во мраке вершин казался громким дыханием неизбежности, овладевшей его душой, печальным прощанием с навсегда покинутой роскошью, отдаленным, но грозным гулом всемогущего золота, столь презираемого раньше Богданом…
Михоровский, чью одежду увлажнили туманы и роса, озябший телом и душой, споткнулся о корень и растянулся на земле. Но не встал – всем телом прильнул к толстому ковру влажного мха, обнял ствол дерева и заплакал. Из груди вырвались незнакомые прежде звуки – плач по утраченному навсегда блеску великосветской жизни, плач по роскоши и беззаботности бытия…
Рыданья юноши сливались с шумом ночного леса, но звучали в нем диссонансом. Белесые туманы, уползая с полей под натиском лунного света, плыли в лес, стелились меж деревьев, словно пуховым занавесом укутывая содрогавшегося в рыданиях Богдана.
…Часа в два ночи в кабинет майората на цыпочках вошел Юр. Лицо у него было встревоженным.
– Что там? – спросил майорат. Ловчий шепотом доложил:
– Рамзес прибежал один, взмыленный; весь в грязи.
Последовала долгая пауза.
– С какой стороны он прискакал?
– Неизвестно. Его обнаружили у двери в конюшню.
– Хорошо, иди.
Майорат бодрствовал до утра. Порой он вскакивал, словно собираясь броситься на помощь, и тут же садился:
– Куда идти? Где его искать? Где он может быть?
Вальдемар был бессилен что-либо предпринять.
XXIV
Давно уже рассвело.
Богдан Михоровский, выбравшись из леса, шагал полями, по колено утопая в высокой росной траве, шагал туда, где гигантским валом белела стена тумана – мгла, изгнанная рассветом, собралась над рекой, словно ища спасения у темной воды. Взошло золотое солнце, озаряя окрестности, всей мощью своего светлого сияния обрушилось на туман, взрыхлило его кудрявый шелк, но сразу победить смогло. В солнечных лучах туман выглядел еще горделивее, пышными, прекрасными волнами вздымался; небу, и клубы его напоминали неисчислимые стаи лебедей. Богдан застыл, очарованный этой картиной, пошел возле реки, любуясь причудливыми фигурам которые создавал туман. Богдан был весел и уверен в себе Ночные бредовые видения, тревоги и печали исчезли, как мгла над полями, изгнанная восходом солнца. Богдан ощутил волю к жизни, страсть к схватке с препятствиями. Пессимизм и апатия улетучили вновь родилась надежда, радостные мечты переполняли душу Богдана. Он напомнил себе, что был и остается Михоровским, родовитым паном, он может погибнуть борьбе с суровой жизнью, но бедность и нужда одолеть его не могут, ибо лишены на это права. Он будет спасен. Будет работать. Разве это так страшно?!
Работа, ночью представлявшаяся чем-то невероятно унылым, теперь выглядела веселым занятием, совершенно обычным делом, каким без всякого страха и отвращения занимается большая часть живущих на этой земле людей.
«И для меня она станет средством вернуться к прежней прекрасной жизни, – грезил юноша. – Поможет вернуть утраченное, я вновь стану богатым…»
Богдан гордился своей силой. Знал теперь совершенно точно, что не поддастся невзгодам. Будет получать жалованье и со временем вернет майорату все, что тот на него потратил. Воображение юноши рождало пылкие фантазии, все новые идеи, рисовало сладостные картины будущих изменений. Вот Виктор проматывает Черчин, мать остается в нужде – и тут появляется он, Богдан, отринутый и проклятый родными, чтобы стать для них избавителем. Он выкупает черчинские земли, становится хорошим хозяином, подобно майорату, всеми признанный, всеми уважаемый… Он непременно будет миллионером.
Глаза Михоровского пылали, он ничего не замечал вокруг, уносимый крыльями мечтаний.
И тут дорогу ему преградила высокая изгородь, защищавшая поля от диких обитателей леса. Богдан остановился, не зная, что предпринять. Преграда была непреодолимой – высокие плахи были сколочены надежно, без малейшего просвета.
Что делать?
Богдан задумался. Загон был огромным, и слишком далеко пришлось бы идти до ворот – да они и заперты в эту пору. У Богдана не было ни рожка, ни свистка, чтобы вызвать ловчего, всегда дежурившего в домике на краю загона. Юноша крикнул раз, другой, но его крик, поглощенный туманом, прозвучал тихо, по-детски.
Гнев и нетерпение охватили Богдана. Он слышал доносившееся из-за забора фырканье оленей и пронзительное всхрапывание лосей. Необузданная ярость вдруг вспыхнула в нем, он принялся молотить кулаками по толстенным плахам и звать, склько хватило голоса:
– Эгей! Оглохли вы там, что ли? Гей, вы, я здесь!
Но ответа не было. Лишь шумели водные струи там, где река омывала далеко, выдвинутый в нее край изгороди, да протяжно кричали олени.
Богдан злился. Прохаживался вдоль забора то вправо, то влево, как лис в ловушке, ища хотя бы щелочку, чтобы вскарабкаться наверх. Сначала он сгоряча решил вброд дойти по воде до того места, где кончается изгородь, – но тут же вспомнил, что берег крут, к тому же загон со стороны реки огражден высокой железной решеткой с заостренными концами.
Оставался единственный выход – брести две версты до ворот. Но сдаваться Богдан не хотел. Изгородь вдруг показалась ему символом житейских печалей, так взволновавших ночью – и зримо вставших вдруг пред ним в облике высоченного забора. Слепая злость овладела Михоровским.
Он стал шарить по карманам в поисках складного ножа. Нашел. Лицо его прояснилось: он сумеет сделать по-своему!
И принялся ковырять ножом плахи, но дело шло туго, твердое дерево с трудом поддавалось маленькому острию. Но мелкие щепки и стружки все же усыпали землю, дыра в плахе медленно увеличивалась.
Богдан работал с азартом, пот заливал ему лицо, руки немели, но он не сдавался. Порой останавливался, тяжело переводя дух, – и вновь бросался на изгородь, как на лютого врага, словно речь шла о жизни и смерти. Совершенно выбившись из сил, он бросил нож на землю:
– Чтоб тебя черти взяли! Довольно! Может, придет кто-нибудь…
И тяжело опустился на траву. Однако злость вскоре вернулась с удвоенной силой, жажда победы охватила юношу, и он вскочил, подобрал нож, и снова принял за дело.
Через пару часов, когда солнце взошло уже высок Богдан отбросил нож и выпрямился с торжествующ улыбкой: в плахе одна над другой зияли несколько дырсловно ступеньки. Ноги свободно прошли бы в них.
Богдан удовлетворенно взглянул на результаты своего труда, но понял, что работа еще не окончена. Решив немного передохнуть, он уселся на траву и осмотр ладони.
Туман растаял совершенно, воздух в солнечных лучах приобрел чистый сапфировый оттенок. Густые кроны деревьев в парке на том берегу реки отбрасывали воду длинные тени. По синей водной глади скользят маленькие омутки, словно чародейские кольца русалок;
Богдан смотрел на ласточек, носившихся над водой, на ее сверкающую гладь. По реке проплыла красавица чомга с длинной, изящно выгнутой шеей с паричком на голове. Богдан любовался ею, моля в душе, что птица подплыла ближе.
Сон охватывал его усталое тело, руки и ноги цепенели. Богдан растянулся на траве, смежив веки, еще миг, и уснул бы – но жажда действия, стремление победе вновь овладели им. Он вскочил, потянулся так что хрустнули суставы, широко зевнул:
– Вот черт, оказаться бы в постели…
Он представил себе уютную спальню, удобную постель – но это зрелище лишь отрезвило юношу.
Богдан бросился к изгороди, пытаясь вскарабкаться, но руки скользили по гладкому дереву – проделанны: им дыр не хватало, чтобы взобраться наверх.
Но отступать нельзя!
После недолгого раздумья он сорвал с себя куртку из толстого сукна, пиджак, жилет и подтяжки. Куртку вновь надел на рубашку, привязал рукавом пиджак к жилету, скрутил их в подобие веревки, из подтяжек сделал петлю. Сунув ногу в верхнюю дыру, цепляясь одной рукой, второй попытался забросить импровизированный аркан на толстый сук, нависавший над; изгородью. Несколько раз ему это не удавалось, он вспотел, утомился, но не уступал, ругаясь сквозь зубы. Глаза его сверкали, он метался, как безумный. Срывался наземь, вновь карабкался, бросал петлю вслепую, с яростным азартом. Наконец петля угодила на сук, затянулась, импровизированный канат вырвался из рук Богдана повис. Юноша радостно вскрикнул, соскочил вниз и принялся растирать натруженные ладони. И смотрел на содеяное, как будто это небывалый в истории человечества подвиг. Не помня себя от счастья, взлетел по вырезанным «ступенькам», обеими руками схватился за веревку, затянув петлю. Теперь все шло гладко. Богдан подтягивался на руках, упираясь ногами в забор, лез пес выше и выше, гордый, уверенный в себе.
Когда он поднялся выше дырок и ноги не находили больше опоры, Богдан растерялся было, но тут же полез на руках. Тут сверху раздался зловещий треск. Богдан задрал голову, и ему стало жарко, волосы встали дыбом: сук раскачивался очень уж сильно… Инстинктивно взглянув вниз, он обнаружил, что забрался довольно высоко.
Вновь затрещало, и этот звук словно бы штыком пронзил его тело.
Гнев и ярость вспыхнули в нем.
– Какого черта! – прошипел он, глядя на пересекшую сук трещину. Еще усилие, энергичный рывок… и он на гребне изгороди.
– Эврика! – с невиданным подъемом вскричал Богдан.
Он удобно устроился на широком торце плахи, сел, свесив ноги на сторону загона, смеясь, утер пот с лица. Иронично оглядел надломившийся сук и, испытав рукой его прочность, громко сказал:
– Тебе придется еще разок послужить мне, дорогой…
Опустил «канат» по ту сторону забора, стал спускаться вниз… Когда он был на середине, сук все-таки сломался, и Богдан полетел на землю, растянувшись во весь рост. Его «канат» вместе с длинным обломком дерева свалился сверху прямо на него. Отбросив его, Богдан усмехнулся:
– Сломался все-таки? Поздно…
Вскочил и широкими шагами направился к выходу, насвистывая мелодию из оперетты.
Возле пристани он столкнулся с ловчим. Увидев его, ловчий онемел от изумления.
Богдан взглянул на заспанного стража и резко бросил:
– Спишь, как суслик, дозваться нельзя! Так можно всех рогачей перестрелять, а ты и не проснешься!
Ловчий удивленно уставился на него:
– Как же вы вошли, паныч? Ключ от ворот у меня…
– Как захотел, так и вошел. Давай лодку.
Ловчий поспешно принялся отвязывать лодку, рассуждая про себя, что молодой пан вовсе не сгинул, как болтали в замке, а ночевал в загоне, чтобы проконтролировать караульщиков.
Богдан уже привел одежду в порядок, и ничто в его виде не возбуждало подозрений – разве что через лоб тянулась длинная царапина, но юноша успел прикрыть ее английским кепи.
XXV
– Куда ты ездил ночью? – спросил майорат Богдана.
– Так, проехаться… помечтать…
– Ты упал с коня, – спокойно констатировал майорат.
– Ну да. Сбросила меня эта бестия. Впрочем, я в претензии… Вы позволите мне взять араба и сегодня.
– Когда?
– Прямо сейчас. Поеду посмотрю, как там копают картошку.
– А спать не будешь?
– Нет. Пора и за работу. Майорат усмехнулся:
– Рамзес – норовистый конь…
– Я с ним справлюсь.
– Не сомневаюсь. Но ты его не получишь. Богдан смутился:
– Почему?
– Потому что в Глембовичах ты не гость, а практикант, значит, должен жить так, как они. Каждому и них определен для работы конь. Тебе тоже. И исключений я для тебя делать не могу.
– Я же его не запалю, – зло буркнул Богдан.
– Не в этом дело. Юноша стоял перед майоратом, губы у него дрожали Вдруг он спросил:
– Я ваш кузен или нет?
– Разумеется. Ты даже еще и Михоровский…
– Значит, для меня можно сделать… исключение.
– Нет, дорогой мой! Ты не только мой кузен – ты еще и работаешь у меня по найму. И потому я не могу, делать исключения ради фамилии, которую ты носишь…
Вальдемар говорил совершенно спокойно, но глаза Богдана пылали гневом:
– Да уж… Будь у меня миллионы…
– Будь у тебя миллионы, – холодно сказал Вальдемар, подчеркивая аждое слово, – ты бы ничуть не заинтересовал меня. Понимаешь?
– Это что, милостыня? Милость вельможного пана? – крикнул Богдан, не помня себя от злости.
Вальдемар смотрел на него, слегка улыбаясь. Потом сказал:
– Мальчик, иди спать, от всей души советую…
Богдан помолчал, тяжко дыша, словно подыскивая способ должным образом выразить свой гнев, потом повернулся и молча ыбежал из комнаты.
Вскоре он неожиданно вернулся. Выглядел теперь спокойным и печальным.
– Дядя… – произнес он, опустив голову, – скажи слугам, чтобы они больше не называли меня ни панычем, ни вельможным паном. Я платный практикант, пан Михоровский – вот и все.
Вальдемар едва удержался от смеха, но сохранил на лице серьезность и сказал:
– Ты совершенно прав. Но тебе придется самому сказать это слугам, я такими мелочами не занимаюсь.
Богдан заколебался:
– Для меня это будет немного… трудно.
– Зато так будет лучше. Ты сам, по собственной инициативе, запретишь им чересчур навеличивать тебя…
Богдан вышел в глубокой задумчивости.
И каждому, кто в тот день имел неосторожность назвать его «панычем» или «вельможным паном», он, наливаясь гневом, бросал:
– Никакой я вам не паныч и не вельможный пан! Я просто пан Михоровский, практикант! Запомнили?
Слуги, услышав такое от него, несказанно удивлялись и шептались потом меж собой:
– Ох, горяч! Сразу видно: такой же пан, как наш майорат!
Богдан стал гораздо серьезнее, больше души отдавая, порученным ему делам. Он часто подолгу вел с майоратом обстоятельные беседы о сельском хозяйстве и административных вопросах. Видно было, что он принуждает себя этим заниматься, – но держаться он старался тик, чтобы не показать этого. Он много читал, поглощая книгу за книгой из глембовической библиотеки, сидя над ними по ночам, а потом погружаясь в мечты и фантазии. Но Вальдемар безжалостно отбирал у него романы, заявляя, что в первую очередь юноша обязан читать труды по экономике и сельскому хозяйству, какими бы скучными они ему ни казались. Никакие возражения не помогали, Вальдемар был неумолим. Кроме того Богдан обязан был посещать все лекции для сельчан. Под его управление перешли народная читальня и сберегательная касса. Эти его занятия Вальдемар контролировал строго, зато предоставил ему полную свободу в отношениях с администрацией, разрешая знакомиться с кем хочет и проводить время по своему усмотрению. Богдан приобрел много друзей – но за свою резкость заработал и врагов. Его открытая манера выражаться, полная неспособность скрывать мысли не всем пришлись по вкусу. Чуя, что граф Гербский относится к нему с большим недоверием, Богдан держался с ним неприязненно. А порой, совершенно того не желая, форменным образом шокировал окружающих. Когда пан Мачей как-то пожаловался при нем на старость и потерю сил, Богдан выпалил:
– Лучше всего вообще не ждать, когда подкрадется старость. Загнать пулю в лоб – и готово! Если бы я писал законы, приказал бы, чтобы всех, кому исполнится семьдесят, отправлять на прогулку в Елисейские поля.
Пан Мачей огорченно, с упреком глянул на него:
– Что за глупости…
– Не беспокойтесь, дедушка: я пока что законов не пишу!
Графу Гербскому Богдан как-то с большим азартом; толковал, что все на свете титулы – совершеннейшая глупость. Главное, по его разумению, – деньги. Если нет денег, никакие титулы не помогут, брюхо все равно не отрастить… Этот намек на объемистое чрево графа неслыханно рассердил последнего.
Граф Доминик поразился:
– Неужели вы искренне верите, что все до одного титулы – купленные?
– Все не все, но порядочно… Вот в княжеский титул я верю – он настоящий, польский, древний, его не купишь. А вот графы и бароны… Если богатый шляхтич такой титул и не купит сам себе за границей, ему его и так пожалуют – за богатство. В жизни не слышал, чтобы тот, кто не имеет приличного состояния, получил титул графа или барона.
– Ох, вы еще. многого не слышали… вздохнул князь, складывая руки на раскритикованной Богданом части тела.
– Возможно, – сказал Богдан. – Вот, например, я в жизни не слышал, чтобы носитель купленного титула признался в том, что титул им куплен.
Граф Гербский считался крайне прогрессивным и современным человеком. Однако… то ли его вдруг охватила магнатская спесь, то ли с его титулом и в самом деле не все обстояло гладко – он нахмурился и сердито бросил:
– Ты только болтаешь, юноша. А если за границей кто-нибудь назовет тебя графом, ты наверняка будешь доволен.
– Конечно. Когда совершу какую-нибудь глупость. А дома, в обычных условиях, предпочел бы обойтись без всякого титула.
Граф оскорбленно умолк. Богдан, взглянув на него, скривил губы и покровительственно добавил:
– Ничего, встречаются и порядочные графы. Например, Гербский и парочка других. А то, что у них есть деньги, еще не преступление.
Однажды после ужина майорат и граф Доминик расположились на веранде, дымя сигарами. Вдруг в парке раздался веселый женский смех, потом визгливый хохот и топот ног. В отдалении меж кустов мелькнул пробегавший Богдан.
– Эротические атаки, – рассмеялся граф Доминик.
Вальдемар спустился в парк и направился к реке.
Он зорко оглядывался, высматривая виновников переполоха. И увидел Богдана, присевшего на корточки за розовым кустом. Увидев дядю, юноша встал во весь рост и обиженно пробормотал;
– Эх, дядя, все испортили… Теперь она наверняка скроется.
– Что ?
– Моя дриада.
– Богдан, что ты вытворяешь? – нахмурился майорат. – Что за вопли?
– А что тут такого? Я обернулся фавном и преследую лесную дриаду. Дриада, правда, не из леса, а из буфетной, но все равно она прекрасна. Ах, Ганечка! Щиколотки у нее… в жизни таких не видел! И остальные буфетные дриады не хуже. Фидий ваял бы с них статуи. Куда там Циане с ее костлявыми спутницами…
– Я не позволю устраивать тут вакханалии, – сказал майорат.
Богдан пожал плечами:
– Дядя, Бога ради, не изображай святого! Какие еще вакханалии? Я еще ни одной дриады не приводил на веранду – но в мраке-то могу их преследовать? Этого даже Зевс не запрещал фавнам и сатирам. Твои девушки скучают, а прекрасный пол нужно развлекать. Бегу…
Стой. Ты хоть понимаешь, чем это может кончиться?
– Все, все понимаю, дядя, некогда, уволь! Ганечка – ожившая статуя Фидия, я обязан ее настичь. А видел бы ты ее купающейся! Бегу!
Он весьма грациозно поклонился майорату, с большим изяществом повел рукой с зажатой, в ней шляпой в сторону Гербского – и исчез за кустами роз. Вскоре оттуда долетел его голос, Богдан напевал какую-то немецкую легкомысленную песенку.