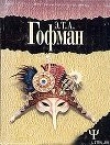Текст книги "Майорат Михоровский"
Автор книги: Гелена Мнишек
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
ХLVII
Граф Брохвич с нетерпением ожидал дня бракосочетания.
Однажды он сидел у себя в кабинете, собираясь навестить невесту. Неожиданно вошел камердинер княгини Подгорецкой, подал ему письмо, небольшой сверток, потом таинственно прошептал:
– Ясновельможный пан граф, у нас какое-то несчастье…
– Что случилось?
– Что-то нехорошее творится с нашей паненкой с того самого дня, как приехал молодой пан Михоровский..
Брохвич невольно вздрогнул – он прекрасно все понимал. Знал, что настал миг, которого он больше всего опасался.
Камердинер продолжал:
– Баронесса часто разговаривает с паном Богданом, а потом плачет и не спит по ночам…
– Довольно! – раздраженно сказал Брохвич. – Можешь идти.
Когда камердинер вышел, граф быстро прочитал письмо. Из Сверточка выкатилось обручальное кольцо, которое он недавно надел на палец Люции. Брохвич подсознательно ожидал этого, но все же был ошеломлен. Обрушившаяся беда опалила его душу, и без того измученную многолетними терзаниями.
Ежи смотрел на кольцо, и печаль понемногу уступала место ненависти. Его одолевало множество вопросов, но он не мог найти ответа.
Почему Лкщия отказала ему буквально в последнюю минуту? Откуда вдруг взялась у нее такая решимость?
Почему на смену согласию вдруг пришли сухие слова: «Мы должны расстаться, потому что никогда не будем счастливы вместе. Я еще раз все обдумала, и мне не хватает смелости идти с вами под венец. Лучше, если мы оба как-то перестрадаем это, не обманываясь. Не хочу поступать с вами неблагородно».
Брохвич понял, что побудило ее принять решение.
Появление Богдана!
Ярость охватила графа. Он чувствовал себя оскорбленным, обманутым. Во всем виновен Богдан! Он, явившись нежданно, как демон-искуситель, с помощью какой-то неведомой силы принудил Люцию вернуть кольцо, лишив столь долгожданного счастья.
Брохвич, как и Люция сначала, подумал, что через Богдана действовал сам майорат – и его охватил безумный гнев на Вальдемара, использовавшего столь подлый прием. Брохвич понимал, что Люцию уже не вернуть, но думал сейчас лишь о мести, не желая даже понять, что заставило Люцию так поступить, он видел одного себя, мучился лишь своей бедой. Однако прежде всего хотел доискаться до истины, узнать, что же произошло.
Словно умирающий, перед глазами которого проносится вся его жизнь, Брохвич увидел в воображении череду лет, исполненных безответной любви к Люции. Столько напрасных трудов, столько борьбы и душевных терзаний, столько надежд, которые должны были вот-вот сбыться… Все растаяло, как мираж!
Обещание счастья оказалось злой иллюзией. Горечь пришла на смену столь долго и нежно лелеемым надеждам. Прошлое, рисовавшееся в его воображении нежными акварельными тонами, вмиг потеряло цвет. Брохвич уже не понимал своих чувств. Были минуты, когда ему казалось, что он любил Люцию лишь духовной любовью, что единственным его побуждением было дать ей счастье, и эти чувства укрепились, когда она стала его невестой.
А теперь все умерло. Осталась лишь зависть непонятно к кому, сожаление о потере любимой, принадлежавшей кому-то другому. И звериный инстинкт требовал мести.
Мести тому, кто отнял у него Люцию.
Богдан! Он и должен заплатить за все. А если за ним скрывался майорат, то и он не уйдет от кары!
Брохвич взял себя в руки и решил действовать незамедлительно.
Он задумался и вскоре пришел к выводу, что с Богданом следует встретиться где-то на нейтральной территории. Он знал, где бывает молодой Михоровский, и, пустившись на поиски, в тот же день увидел Богдана в одном из залов Лувра.
Увидев Брохвича, Богдан слегка удивился, но подошел и протянул руку.
Но граф ее не принял.
Щеки Михоровского окрасил румянец.
«Ищет ссоры», – понял он.
Какое-то время они молча мерили друг друга взглядами.
Наконец Богдан заговорил первым:
– Я понимаю, что вами движет, и оттого прощаю ваше поведение. Печаль бывает порой так сильна, что склоняет к невежливости…
Брохвич спросил таким тоном, словно давал пощечину:
– Значит, вы решили, что мною движет исключительно невежливость? Что я не подаю вам руки исключительно по причине дурного настроения?
– Конечно. Титул, который вы носите, требует от вас быть разумнее и не поддаваться минутным порывам…
– Вы своими интригами расстроили мой брак! – взорвался Ежи.
– Признаюсь, я действительно убедил баронессу от казать вам. Убедил ее, что она совершила бы весьма рискованный и неразумный поступок.
– Какое право вы имели так поступать?
– Право благородства.
– Вы действовали от себя лично… или по чьему-то поручению?
– Исключительно по собственной инициативе.
– Как же вас в таком случае называть? – резко бросил Ежи.
– Граф, прошу вас, успокойтесь. Я спас вас обоих. И вы, и она были бы несчастны. Люция никогда не любила вас и никогда не полюбит. Вас следовало остановить.
– И вы стали ангелом-хранителем Люции, стражем надпей с нею морали и счастья? Благодарю вас за труды, Ваше вмешательстве просто смешно и никчемно!
Богдан чувствовал, что вскоре не выдержит, как ни сдерживался:
– Граф, ты несправедлив и понапрасну испытываешь мое терпение. Еще раз повторяю: ваш брак не принес бы вам счастья Я хотел спасти кузину и добился этого. Вы знали, что она не любит вас, но все же побуждали к браку, не способному принести ей счастья. Кто же из нас двоих желает ей счастья по-настоящему, я или вы?
Гнев заглушил в Брохвиче все остальные чувства:
– Как бы вы ни пытались себя обелить, ваш поступок коварен и подл. Вы мне омерзительны!
– Граф, следите за словами! – крикнул Богдан не своим голосом.
– И не собираюсь! Я не подаю вам руки, я брезгую вами! Вы негодяй! Вы… ты… ты позоришь имя, которое носишь!
Богдан страшно побледнел. В глазах у него потемнело. Впервые в жизни ему нанесли такое оскорбление.
Когда он очнулся, Брохвича уже не было.
Кровь бросилась Богдану в лицо. Оскорбленная гордость требовала отмщения.
Он выходил из Лувра, уже приняв твердое решение.
Он был готов терпеливо сносить все оскорбления ради Люции, но все же это оказалось выше его сил.
Успокоившись, почти весело он шагал к своему дому. Вспомнил свою первую дуэль в Варшаве, и это еще больше разожгло его пыл:
– Нет, там было совсем другое дело!
Он был полон плохих предчувствий – жаль было и Люции и жизни. Лишь теперь он небывало ясно и четко ощутил глубину своих чувств к Люции: любовь, сострадание к ее несчастьям..
– Что же будет с ней? – спрашивал себя Богдан. Мысли о предстоящем поединке отступили перед лицом этого вопроса, овладевшего всем существом юноши.
– Что же будет с Люцией, если…
И в поисках ответа на мучительный вопрос Богдан не мог уснуть всю ночь.
ХLVIII
Брохвич пытался вырвать из сердца жестокую правду, услышанную от Михоровского, но не мог. Горькая, отвратительная истина так и осталась в его душе, калеча ее, порождая трезвые и крайне болезненные мысли.
Богдан был прав, После свадьбы Люция непременно возненавидела бы тебя! Она презирает тебя, обратив все чувства к своему избавителю! И она права – Богдан благородно поступил с ней, а вот ты хотел заполучить ее ради собственного эгоизма…
Незнакомая доселе тяжесть легла на сердце Ежи. Сомнения в своей правоте росли, а уважение к Люции и Богдану, возникшее вдруг, все укреплялось. Граф боролся с собой. Самые потаенные мысли он подверглись трезвому анализу, как и чувства. Брохвич уже жалел о содеянном – лишь печаль утраты по-прежнему обжигала.
Перед собой Брохвич видел пустоту, жизненную пустоту, и это видение преследовало неотступно, как древнегреческие духи мщения. И он содрогнулся, осознав, что обречен брести по этой пустыне без единого оазиса, в одиночестве, с израненной душой, с кровоточащим сердцем.
Плач разрывал ему грудь – но на глазах не появилось ни слезинки. Глаза оставались сухими, мрачными. Неотвязная мысль не покидала графа: «Богдан победил!»
Богдан превосходил его в понимании потаенных мыслей Люции, ее души – и потому Люция должна ценить и уважать Богдана, а не его, едва не увлекшего девушку в бездну несчастья. Сравнив себя с Богданом, Ежи сам себе показался карикатурой.
Сам он лишь пестовал собственный эгоизм – а Богдан был движим благородством. Но… было ли благородство единственным чувством, ради которого Богдан расстроил их брак? Теперь уже ясно, что он действовал по собственной инициативе и Вальдемар совершенно ни при чем. И все же – только лишь благородство им двигало или были и другие причины?
И граф задумался: почему Богдан, обычно столь порывистый и несдержанный, на сей раз был необычайно спокоен? Почему столь хладнокровно держался под градом оскорбительных слов, почему выказал тактичность, какой Брохвич в нем и не подозревал? Что за сила оказалась способной так изменить его?
Что за сила лишила его всем известной несдержанности?
Что за сила наполнила его рассудочностью и трезвомыслием?
Есть лишь один ответ. Богдан любит Люцию!
Эта мысль становилась все более вероятной, окончательно сломав Брохвича, ибо вдобавок ко всем своим несчастьям он увидел перед собой еще и соперника…
И все же он жалел, что оскорбил Богдана. Тревожился, удивлялся хладнокровию юноши, укорял себя за все прозвучавшие из его уст оскорбления. Запершись в своем кабинете, он мучился и страдал, не находя ни выхода, ни спасения.
Он понял, что недостаточно еще любить женщину до безумия, открывать перед ней всю глубину своих чувств, недостаточно любить ее душою и жаждать сердцем – нужно еще обладать теми качествами и чувствами, что способны склонить женщину к взаимности. Нужно уметь открыть любимой силу своей страсти, нежной, деликатной, неуничтожимой, вечной.
И не молить о любви, а завоевать ее со всей решимостью.
Идти к своей цели без колебаний, без метаний, смело, дерзко, преодолевая все препятствия.
Именно так поступал Михоровский – он не вздыхал молча, не ждал сочувствия и жалости, он смело поставил все на карту… и выиграл.
Люция ощутила превосходство Богдана победившее ее неуверенность…
Брохвич размышлял, порой – с удивлявшим его самого спокойствием, порой – в небывалом расстройстве чувств.
Повторял себе, что мир и человеческая жизнь – вздор, иллюзия, фата-моргана… Оптимизм, обычный спутник молодости, пропадает со временем, оставляя в душе человека мертвую пустоту и отсутствие всяких желаний. Все фальшь, и эта фальшь – основа всего сущего.
Мир словно театр: в нем разыгрываются трагедии и драмы, но чаще всего – комедии; сменяются актеры и декорации, но содержание пьесы и сцена остаются прежними. Все основано на извечном самообмане – и разница лишь в том, что одними он владеет сильнее, другими – слабее.
Говорят: «Любовь – это жизнь». Вздор!
Любовь – это морфий. Без него больной умирает, с ним становится наркоманом.
Любовь, на которую отвечают взаимностью, – это великое счастье сродни наркотическому дурману.
Любовь без взаимности – чума, проказа, смерть, нечто еще более худшее, чем смерть.
А любовь без единой искорки надежды – медленная, ужасная агония.
Ревность овладела Брохвичем. Люцию отняли у него… и кто же? Если бы она умерла, никто не имел бы на нее больше прав…
Эгоизм и мстительность вновь проснулись в душе графа. Но действительность была сильнее.
Он переживал тяжелое время.
Вечером доложили, что его хотят видеть двое господ. Их имена были знакомы графу.
«Секунданты Богдана», – понял он.
И вздохнул свободнее, но, прежде чем выйти к ним в салон, пережил короткую, но страшную борьбу с собой. То, что он намеревался сделать, было противно всей его натуре. Но он все же заглушил крик протеста, подавил свои амбиции, вышел к секундантам спокойный, серьезный, он был победителем… победив самого себя.
Друзья Богдана иначе оценили его вид. Облик Брохвича показался им исполненным грозной решимости.
И оба подумали, не сговариваясь: «Он готов предложить еще более жесткие условия…» Когда обменялись приветствиями, старший из пришедших изложил цель визита. Граф слушал молча. Секунданты недоуменно переглянулись. Внезапно Брохвич сказал решительно, каким-то чужим голосом:
– Я не буду драться с паном Михоровским. Секунданты были безмерно удивлены.
– Вы отказываетесь от вызова? – спросил один.
– Да. Я не буду драться.
– Граф…
Брохвич посмотрел им в глаза открытым взором человека, убежденного в своей правоте:
– Господа! – произнес он выразительно. – Я умышленно нанес пану Богдану Михоровскому крайне серьезное оскорбление. И был неправ.
Секунданты выглядели невероятно удивленными. Ежи надломленным голосом продолжал:
– Прошу вас уведомить пана Михоровского, что признаю себя виновным и готов, просить у него извинения. Если он и после этого пожелает драться, в его распоряжении.
Он поклонился и удалился в кабинет.
Он чувствовал, что погасил последнюю лампаду, посвященном Люции святилище, окутанном таинстве ной мглой иллюзий.
Ежи казалось, что внутри у него бушует вулкан, пышущий пламенем и раскаленной лавой. Он жажда смерти – но не от руки Богдана, не в поединке Люцию. Жаждал смерти, способной принести желаемое забытье.
Часа два спустя, когда Ежи, доведенный до предела отсутствием всяких известий от Михоровского, собирался уже отправиться к нему сам, Богдан внезапно появился в кабинете перед изумленным графом.
Граф, небывало тронутый, сердечно протянул Богдан руку и спросил:
– Значит, вы прощаете меня?
– Да. Я хочу, чтобы мы расстались друзьями, тягостных воспоминаний. Забудем обо всем. Я жаждал убить вас… но теперь хочу лишь согласия.
И они дружески обнялись. Потом Брохвич сказал:
– Дороги наши расходятся, быть может, навсегда кто знает? Пан Богдан, попрощайтесь от моего имени княгиней и баронессой. Сам я не в силах видеться ними. Но… не откажите в любезности ответить мне один-единственный вопрос. По-моему, я вправе зада! его вам.
– Конечно, – сказал Богдан, уже предвидя, какой будет этот вопрос.
– Вы… любите ее, не так ли?
– Люблю! – гордо и смело ответил Богдан.
Брохвич ощутил, как сердце его обливается кровью, но промолчал. Сказал лишь:
– Только это я и хотел знать…
И они молча расстались.
XLIX
Княгиня Подгорецкая и Люция возвращались на родину в сопровождении Богдана.
Люция, жаждавшая покоя как-то задумалась об уходе в монастырь, но вскоре отбросила эту идею. Она меревалась было остаться в Бельгии, в том самом монастыре, куда хотела удалиться от мира после смерти Стефы Рудецкой, где прожила несколько месяцев в качестве гостьи, – но этому решению воспротивился Богдан, и Люция вновь послушалась его.
Когда все трое ехали на железнодорожный вокзал, Люция нервно беспокойно смотрела в окно кареты на снеженные улицы Парижа. И сказала наконец:
– Здесь я оставляю свое прошлое.
– Забудь о нем, – сказал Богдан. – Несколько лет ты спала, кузина. Ты спала. Лишь теперь перед тобой распахнутся…
– Ворота монастыря! – выкрикнула Люция. – Мне давно следовало войти в них!
Княжна накрыла рукой ее ладонь:
– Поверь, девочка моя есть люди и несчастнее тебя. Есть такие, которых никто не любит, и все же они, оставаясь одинокими, не уходят от мира, стремятся к своим целям и многого достигают…
– И в конце концов разбивают голову о врата Утопии – ответила Люция.
– Нет, временами эти врата распахиваются для них, открывая новые горизонты, столь необозримые перспективы, что прошлое кажется ничтожным предстает дурным сном…
Девушка внимательно посмотрела в глаза старой княгинее, угрюмо произнесла:
– Меня такие неожиданности не ждут…
– Девочка моя! Ты лишь зритель и критик собственной жизни, а не ее режиссер. Можешь предугадывать эпилог но не знаешь его в точности. А меж тем Судьба – гениальный творец, любящий шутку, порой злорадный. Говорю тебе, случается, что иные эпилоги имеют велимкую ценность неизмеримо превосходя любой наипрекраснейший пролог. И последнее слове в какой-либо пьесеразыгранной жизнью, порок становится первым словом нового неизвестного незнакомого нам спектакля – уходящей в будущее жизни. Не мало кто об этом догадывается…
– Значит, бабушка, вы думаете, что я…
Люция встретила взгляд Богдана и умолкла. За окном проплывали укутанные снегом парижские улицы Княгиня сказала:
– Я думаю, что все пережитое тобой – лишь пролога. Даже не пролог – лишь часть… До сих пор и не жила настоящей жизнью. Тебя окружали рои светлячков-иллюзий, ты бродила в мечтаньях посреди огоньков. Но теперь волшебные огоньки угасли, потому что наступило утро и перед тобой – восход солнца, все еще ослеплена огнями ночных светлячков, и мешает тебе различить открывшийся перед тобой горизонт. Но когда, наконец, увидишь рассвет, и почуешь покинувшую было тебя силу духа и скажешь себе: «Я иду в большую, настоящую жизнь». И станет вторым рождением.
Люция, задумавшись, не заметила, как на глаза навернулись крупные слезы, что Богдан смотрит на них влюбленно, восхищенно, словно на капли росы, которых солнечные лучи зажгли крохотную радугу. Люция, в порыве благодарности склонилась и поцеловала руку старой княгини. Богдан последовал ее примеру. Головы их встретились, и вслед за тем соприкоснулись их взгляды.
В глазах Богдана Люция увидела столько любви и преданности, что с трепетом опустила веки. Глаза Богдана сказали все, о чем умолчала княгиня.
И у Люции вдруг родилась уверенность:
– Да, это восход!
Почему-то мысль эта испугала ее. Они прибыли на вокзал.
Люция уже собиралась войти в вагон, но замерла вдруг, кровь бросилась ей в лицо.
Перед собой она увидела Брохвича, не менее изумленного встречей.
В ней сразу ожили сочувствие и жалость. Она протянула графу руку, шепнула:
– Давайте попрощаемся…
Граф поцеловал ей руку, не вымолвив ни слова.
– Вы тоже уезжаете из Парижа, граф?
– Да.
– Куда? Ежи подавил вспышку гнева. Хотел повернуться уйти, но переборол себя и спокойно сказал:
– В неизвестность…
– Я тоже, – сказала Люция. – Может, и вы обретете… восход? Новый, ничуть не похожий на все былое, настоящий восход солнца!
Она крепко пожала руку Брохвича и вбежала в вагон.
Граф проводил взглядом удалявшийся поезд, уносивший Люцию навсегда, стараясь не упустить ни малейшей детали. И слезы, застилавшие его глаза, вытекали прямо из сердца.
Не будь он в здравом рассудке, Ежи разорвал бы грудь свою и обнажил таившуюся там пустоту – черную Пропасть, вырытую горечью, болью, тоской и печалью.
– Она говорила о восходе солнца…
Что за восход? Неужели восход – перед нею?
И она уверена, что то же будет со мной?
Внезапно Брохвичу захотелось услышать шум разговоров, увидеть неустанное движение. Внутреннему взору его предстали шумные улицы, моря и океаны, ледяные горы, непокоренные вершины. Он услышал шум прибоя, скрип мачт под ветром, треск сталкивающихся ледяных гор.
В дорогу! В дорогу!
Воля властно гнала его в путешествие, в далекие, неизвестные края.
Вперед, к…
– К восходу! – зазвучал в его ушах голосок Люции.
Нет. К спокойствию!
L
Мать-земля, возрожденная, благоуханная, покинула весеннюю купель. Исчезли с ее лика потоки грязных вод, пропали лужи, словно выплеснутые за ненадобностью остатки мыльной пены. Чистая, живительная вода весенних дождей омыла землю, умастив ее благовониями.
Повсюду чувствуются запахи живительных смол, густого сока елей и сосен. Березы распространяют нежный, одуряющий аромат. Источники, лесные бочаги словно обернулись благовонными курильницами. Пробуждающееся к новой жизни сердце земли повелевает расцвести и ожить всему живому.
Распускаются белоснежные, желтые, алые цветы, на полях синеют васильки.
Сияющая радость стремится к облакам.
Небо и земля возносят гимн солнцу.
Небо, лазурное, как воды Адриатики. Земля, утопающая в цветах.
Небо венчается с землею под пенье птичьих, под жужжание пчел и шмелей, под безмолвную р тянущихся к солнцу цветущих кустов диких роз.
Напоенные живительным соком липы источают благоухание. Повсюду вьются белые бабочки.
Весна выдалась чудесной.
Земля как будто стала великанским сердцем, се, самой Любви. Она ласкает мир, словно мать, пест любимое дитя, соединяя все живое в одну в семью, связанную общим счастьем. Проникает в цветов, птиц, людей.
Ее дыхание дарит крылья.
Ее тепло рождает пламень.
И звучат благодарственные напевы.
Пробуждаются надежды, быстрее заживают раны, нут обиды, стихает печаль.
Все чувства оживают, все помыслы стремятся к шинам.
Все исполнено любви.
Люция Эльзоновская встретила весну в Обронном. Приехав туда из Парижа, она жила под опекой княгини Подгорецкой. Три месяца, проведенные в тихом особняке, оказали на Люцию заметное влияние. Она обрела покой, но подчас ее по-прежнему мучили душевные терзания. Правда, они стали иными.
Вернувшись из-за границы, Люция, встречаясь Вальдемаром, поначалу испытывала стыд. Однако его расположение, его непритворную радость из-за что она излечилась от своей мнимой любви, Люция и в самом деле распрощалась навсегда с прежними желаниями. Вновь вернулась после долгих лет прежняя свобода в общении с Вальдемаром; она стала ему лишь сестрой и могла теперь назвать свои чувства к нему собственным именем – уважение, почтение, дружба.
Они виделись часто, и отношения их с каждым днем становились все более естественными. Много времени Люция проводила и с Богданом, перед выездом в Белочеркассы, проходившем практику в Глембовичах.
Люция жаждала этого общения, этих разговоре поражавших ее широтой взглядов Богдана и смелость, с которой юноша их высказывал. Богдан веселил, давал новое направление мыслям, пробуждал ее возвращавшуюся к жизни душу. И ни разу не упомянул своей любви.
Они забавлялись, как дети, вместе гуляли, вместе гуляли, играли на бильярде.
Когда растаяли снега, они ходили на влажные луга рвать первые подснежники.
Богдан рассказывал Люции о своей жизни до встречи с Вальдемаром. Правда, они частенько ссорились, и довольно серьезно. Богдан был непредсказуем, и Люция никогда не знала заранее, чем кончится их разговор.
Бюгдан рассказал Люции и о своем мимолетном увлечении эрцгерцогиней – в рассказах Богдана Мария Беатриче превратилась в сущую королевну из сказки.
– А я-то думала, что ты никогда не был донжуаном… – грустно сказала Люция.
– Ого! Был, и еще каким! Мария Беатриче – лишь эпизод. Случались и вовсе безумные вещи. Помнишь мою дуэль в Варшаве? Виной всему была балетная дива. А до нее я потерял голову из-за красотки Анны – из-за ее объятий угодил в объятия рулетки. Еще немного, и покинул бы этот мир, но тут, как выражается бабушка Подгорецкая, финал стал лишь увертюрой. Такие исповеди Люции не нравились.
Княгиня Подгорецкая радовалась, глядя на девушку, словно бы помолодевшую вдруг, ставшую совсем юной. Богдана старушка любила и ценила – и за то еще, что он был для Люции лекарем, вернувшим вкус к жизни.
Люция и Богдан прекрасно дополняли друг друга. Люция умела смягчать выходки Богдана, а он умел обернуть шуткой ее капризы.
А в душе самой Люции рос непонятный страх перед Богданом – ибо она обнаружила, что стала совсем по-иному относиться к нему.
И тщетно искала спасения.
Где-то в глубине ее души еще жила иллюзия, будто она любит майората. Но образ Богдана все неотступно преследовал ее, возникая перед мысленным взором, занимая все ее думы.
Вальдемар догадался уже, что Богдан любит Люцию – и знал, что юноша добьется взаимности. И пытливо наблюдал за Людией, радуясь, что она избавилась от детских чувств к нему, однако одновременно ощущал тень сожаления – оттого, что девушка целиком попала под влияние постороннего человека, формировавшего теперь ее взгляды и убеждения. Вальдемар никогда не ответил бы на любовь Люции – но все же, из-за не постижимой человеческой непоследовательности, слегка раздражало ее «излечение».
Однако ощущения эти были мимолетными. Вальдемр чувствовал, что они продиктованы не угасшим братским стремлением опекать Люцию. Но в данном случае считал себя не вправе вмешиваться.
Люция, серьезная и смелая, была идеальной парой для горячей поэтической натуры Богдана, умела, как давно убедился Вальдемар, смягчать порывы юноши.
Брохвич утратил ее потому, что попал под ее власть, а Богдан получил ее, потому что приобрел власть в ней.
И все же…
Вальдемар опасался финала. Новые чувства Люции были для него непредвиденным ударом, раскрывавшее перед ней будущее, совершенно пока неизвестное, еле тревожило Вальдемара, чувствовавшего ответственность за девушку.
Те же мысли порой посещали и пана Мачея. Но дед и внук ни разу не говорили о мучивших обоих тревогах.