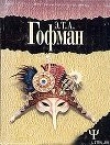Текст книги "Майорат Михоровский"
Автор книги: Гелена Мнишек
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
XLIII
Богдан без особой печали прощался с Веной. Шетени приглашал его побыстрее возвращаться, но Богдан откровенно признался, что вряд ли в ближайшие годы появится в прекрасной столице над Дунаем. Однако, когда поезд тронулся, Богдан обернулся и посмотрел в сторону Бурга с какой-то смутной тоской, непонятной ему самому. Он оставлял здесь дни свободы и веселья. Но радовался, что все осталось позади, – в последнее время светские развлечения вызывали у него неприятные чувства. И Бург, и прекрасная Мария Беатриче стали символами иного, неземного в своей роскоши и блеске мира, с которым Богдан, быть может, попрощался навсегда.
Майорат, видя, в каком состоянии пребывает юноша, ни о чем его не расспрашивал, гадая, что же послужило причиной. Понемногу Богдан рассказал о своих раздумьях и переживаниях, но про эрцгерцогиню умолчал. Он не жаловался Вольдемару на судьбу, но говорил с тоской – и сквозь нее просвечивала ирония, обращенная против самого себя. Однако вскоре майорат догадался, что здесь замешана женщина, а там и угадал ее имя по некоторым обмолвкам и замечаниям Богдана. А может, заметил и фотографию Марии Беатриче в бумажнике кузена.
Вальдемар ничуть из-за этого не встревожился, посчитав все детскими переживаниями, совсем неопасной болезнью. Он видел, что Богдан давно уже научился избавляться от иллюзий.
Во время одного из откровенных разговоров Богдан спросил:
– Дядя, почему ты теперь почти не бываешь в свете? В Бурге о тебе спрашивали очень многие, даже император.
– А что ты им ответил?
– По-разному. Кому что. Императору сказал, что ты поглощен работой на благо страны. Шетени «признался по секрету», что ты разорился. Прости, пришлось – милейший Элемер намеревался было просить у тебя взаймы кругленькую сумму. Увы, у меня осталось впечатление, что он все же не поверил, с большим сомнением смотрел… А дамам я говорил, что ты стал анахоретом, затворником, старым брюзгой… но они мне упорно не хотели верить.
– Неплохо же ты меня изобразил! – смеялся Вальдемар.
Когда поезд шел по прекрасным местам Штирии, Богдан не отходил от окна, погруженный в мечты. Однажды майорат услышал, как юноша что-то напевает. Вальдемар внимательно прислушался. Богдан пел тихо, но проникновенно, смешивая слова из нескольких языков, как это порой случается с жителями Волынского края:
По Волыни днем и ночью я скучаю,
очарован всякий ею не случайно.
Кто увидит Волынь, сразу тот пленится,
ляс Волынский долго будет сниться.
Ой, Волынь родная, тебя я не забуду,
тебя я до смерти наметать буду…
По Волыни всюду черноземы тучные,
и пшеница золотится, в мире лучшая.
А когда весна настанет, ах, весна прекрасная,
така гарненька и зеленька, и миленька, и ясная…
Ой, Волынь, Волынь, тоби я не забуду,
тоби я до смерти паментать буду…
Майорат подошел к юноше:
– Богдан, что это за песня? Никогда ее не слышал. Юноша покраснел:
– Да я ее сам сложил, дядя…
– Сам? Что, ты и в Штирии вспоминаешь Волынь.
– Конечно. Понимаешь, перенесся мыслями к одному прекрасному оврагу возле Руслоцка. Настоящее ущелье, такое чудесное. Если бы ты его видел, дядя… Мне почему-то всегда казалось, что тот глубокий овраг, сущую пропасть, выкопали адские силы на погибельлюдям, а Небеса одарили его красивыми деревьями и цветущими кустами, украсили скалами, девственной чащобой – чтобы такие, как я, юные безумцы, могли там предаваться фантазиям…
– Значит, ты любишь Волынь… А мне казалось, что ты недолюбливаешь Руслоцк.
– Это разные вещи. Я терпеть не мог особняк и его хозяев. Но люблю те места и тамошний народ. Чудесный край! Не смогу даже описать его словами – этакий пышный бунчук, овеянный паутиной меланхолии…
– Это определение прекрасно подходит к тем местам, – сказал задумчиво Вальдемар. – Пышный бунчук, овеянный меланхолией, поэзией, дерзостью…
«А еще больше определение такое подходит к самому Богдану, – подумал майорат, вернувшись в купе. – Бунчук в паутине меланхолии и поэзии… сломанный бунчук, лежащий в пыли! Но его, безусловно, стоит спасать! Это один из тех Михоровских, что плохо слушают чужие приказы, но умеют отдавать их сами…»
Вальдемар почувствовал, что в его сердце рождаются прямо-таки отцовские чувства к Богдану.
Чем ближе они подъезжали к границе Швейцарии, тем задумчивее становился Вальдемар.
И вот, когда они должны были пересечь рубежи первого из кантонов (штатов), Вальдемар внезапно изменил первоначальные планы. Он сказал Богдану:
– Мы не поедем в Швейцарию. Направимся прямо в Глембовичи.
– Почему?! – изумился Богдан. – Я думал, ты отринул колебания… думал, ты направляешься к Люции, чтобы, наконец…
– Она обручена с Брохвичем.
– Ну и что? – скривился Богдан. – Это еще ни о чем не говорит. Она не любит нашего оленя (намек на герб Брохвича ).
Вальдемар вздрогнул:
– Тогда я там тем более не нужен…
Богдан погрузился в мрачную задумчивость. Он больше не заговаривал с майоратом о Люции. Чувствовал, близость некоего переломного, решающего момента, а поведение майората объяснял исключительно фамильным упрямством.
В Глембовичах он признался Вальдемару, что хочет искать место администратора.
– Ты уверен, что справишься? – спросил майорат.
– Уверен. Начну с имения поменьше, но выберу такое, чтобы там были хорошие перспективы.
Вальдемар предложил ему стать администратором в Белочеркассах. Но вместо того, чтобы радоваться, Богдан смутился:
– Дядя, ты настолько доверяешь мне?!
– Да. Юноша молчал.
– Ну, если тебя это не устраивает, принуждать не стану… – сказал Вальдемар.
– Что ты, дядя, я не о том… Я тебе благодарен за предложение… но в Белочеркассах я не чувствовал бы себя самостоятельным. Чересчур чувствовалось бы твое влияние…
– А ты думаешь, у чужих будет иначе?
– У чужих я постарался бы так наладить дело, что никакое постороннее вмешательство не потребовалось бы. Да и не отыскать второго такого майората…
Вальдемар весело рассмеялся:
– Идет! Ты мне положительно нравишься, прекрасно знаешь, что ни один Михоровский никогда не вынесет поводьев… Но тебе должно быть известно и то, что я не страдаю деспотизмом. У тебя хватило времени в этом убедиться. В Белочеркассах ты будешь совершенно самостоятельным, я передам тебе все полномочия. Это место ты займешь весной. А зимой еще получишься. Идет?
– Ну, если так… идет!
И они обнялись, как братья.
XLIV
Из Швейцарии вернулась княгиня Подгорецкая. В октябре вся семья собралась в Глембовичах, где с некоторых пор обитал и пан Мачей с неразлучным паном Ксаверием. Недоставало лишь пани Идалии, о которой повсюду говорили, что ее замужество с Барским – дело решенное.
Вместе с Люцией приехал и Брохвич.
Его отношение к майорату изменилось.
Брохвич любил невесту и боялся ее потерять. В Глембовичи он ехал неохотно, предчувствуя, что для Люции пребывание там станет причиной трагедии, что ее чувства к Вальдемару вновь вспыхнут. И молодой граф недоверчиво косился на майората, в глубине души стыдясь своего поведения и оттого чувствуя себя крайне скованно.
Люция под внешней веселостью таила глубокие переживания.
Она хотела объясниться с Вальдемаром и лишь искала подходящей минуты.
Когда замок погрузился в глухую тишину ночи, Люция, бледная, но спокойная, решительно вошла в кабинет Вальдемара.
Увидев ее, он встал, охваченный печалью и тоской.
Люция остановилась перед ним. В последний миг ей не хватило отваги. Она не могла выговорить ни слова, в глазах появился страх, она дрожала всем телом.
Вальдемар взял в свои ладони ее ледяную руку:
– Люция, дорогая… успокойся…
– Вальди… Ты знаешь, что я выхожу за Брохвича?
– Знаю.
– Я не люблю его! – вскричала девушка. Сердце Вальдемара истекало кровью.
– Не люблю его, и ты прекрасно это знаешь, Вальди! Она порывисто закрыла лицо руками, из ее груди вырвался крик:
– Я люблю тебя! Тебя одного! Слышишь? В моей душе, в моем сердце ты один! А за графа я выхожу… лишь от отчаяния. Вальди, неужели у тебя нет сердца?!
Рыдания сотрясали ее.
Вальдемар почувствовал, что падает в пропасть.
– Люция! Богом прошу…
Он упал в кресло и спрятал лицо в ладонях. Люция плакала.
Мрачная, трагическая тишина, исполненная печальных предзнаменований, окутала их.
Вальдемар очнулся первым. Встал, прижал ее руки к своей груди:
– Умоляю тебя, не плачь, Я знал о твоих чувствах… и боролся. Тогда, на галерее, решил предостеречь тебя… помнишь?
Люция вырвала руку и закрыла ему рот ладонью: – Молчи! Ничего больше не говори! Пусть сохранится иллюзия, единственный светоч….
– Люция, ты не так меня поняла тогда.
– Молчи, Вальди, молчи! Скажи, неужели ты так никогда и не любил меня? Ничего не испытывал, кроме братской любви? Ничего, что напомнило бы тебе… ту… былую любовь…
Вальдемар молчал. Они встретились глазами. Взгляд Люции был умоляющим, взгляд Вальдемара – безмерно усталым, но решительным.
– Ничего, Люци… – сказал он.
– Боже мой! А я все же надеялась, я так люблю…. Вальди, ты же целовал меня, неужели ты забыл?
– Прости за те минуты… Я как-никак мужчина, и ты… взволновала меня… но это не любовь…
– Значит, в твоем сердце нет места для меня? И нет места чувствам ко мне?
– В моем сердце – братская любовь, и печаль, и боль, и сочувствие, и желание счастья тебе… И потому я…
Ее смех был страшен:
– И потому ты не советуешь мне идти за Юрека?
– Нет. Но я боюсь за тебя…
– Тогда спаси меня! Захоти, возжаждай… прикажи, чтобы я стала твоей женой! Не сомневайся, я буду преданной рабой!
Вальдемар молчал.
– Но ты ведь не прикажешь, правда?
Он молчал.
Люция подошла к нему, опершись на стол обеими руками, склонилась к его лицу:
– Я выбрала Юрека, потому что он любит меня, знает все обо мне, знает о моих страданиях… и хочет дать мне утешение. Матери у меня больше нет, она теперь Барская. Жить с тобой и дедушкой в этом замке? Нет! Юрек меня любит. Я буду жить для других, может, и выдержу…
Слезы покатились по ее щекам.
– Почему я не могу дать тебе счастья, почему? – воскликнул Вальдемар столь печально, что Люция вздрогнула.
– Это судьба… – прошептала она и не смогла, продолжать – рыдания душили ее.
Вальдемар поцеловал ей руку, и девушка медленно вышла из кабинета.
Она бежала по коридорам, через залы, эхо ее рыданий жалобно отдавалось в пустых покоях.
Оказавшись в зале портретов, Люция включила свет.
Остановилась перед портретом Стефании, взглянула ненавидяще, прошептала зло:
– Это все из-за тебя!
И долго смотрела на портрет умершей Сначала глаза её источали яд, пламя, страх, потом взгляд Люции смягчился и осталась лишь необоримая печаль. Она прошептала:
– Да, он твой… навсегда твой…
И понурила голову.
Ненависть ее прошла, побежденная взглядом Стефы, Люция вздрогнула, заслышав приближающиеся знакомые шаги.
Скрыться было некуда.
Гордо выпрямившись, она подошла к двери и открыла ее.
На пороге стоял Вальдемар.
Их взгляды вновь скрестились. Пристыженная Люция опустила веки. Они молча разминулись, Вальдемар вошел в зал, Люция кинулась в коридор.
Добежав до лестницы, она вдруг остановилась на цыпочках вернулась назад и, приподняв опущенную Вальдемаром бархатную портьеру заглянула в зал: Вальдемар смотрел на Стефу так. словно клялся ей к верности навек.
Люция, сдерживая рыдания бесшумно вернулась в коридор и пошла прочь.
ХLV
Свадьба Люции и Брохвича должна была состояться и Париже, в середине января? княгиня Подгорецкая была единственной опекуншей Люции. Они вместе жили в Париже – после решающего объяснения с Вальдемаром Люция сразу же уехала за границу и не хотела возвращаться на родину.
Приближалась решающая минута, Люция словно бы пребывала в летаргии. Отчаяние и страх перед будущим разрывали ее душу. Порой она стряхивала оцепенение, тогда в ней пробуждалась неприязнь к Брохвичу и отвращение к себе. Ежи она считала виновным за то, что он упорно хочет видеть ее своей женой, себя – что приняла, его предложение, а Вальдемар в ее глазах становился демоном, повергавшим ее в бездонную пропасть.
И она, и Ежи слепо бредут по краю этой пропасти, над бездной горя и печали, бредут, изгнав из душ все укоры совести. Чему быть, того не миновать. Лишь бы все кончилось скорее. И нет силы, способной спасти, излечить их обоих…
В такие минуты Люция снимала с пальца кольцо писала Ежи длинные письма, прося освободить ее от данного слова, – но ни одного из этих писем так и не отправила, разрывая их в мелкие клочья.
Страх все сильнее овладевал ею, вливал по капле яд, увлекал в пропасть.
Порой в ней вспыхивал отчаянный протест, крик боли рвался из глубины сердца. Из ее памяти пропадал Брохвич, словно унесенный ветром осенний лист, даже Вальдемар отодвигался куда-то во тьму, ничего не оставалось, кроме тупого безразличия.
Порой вспыхивала мысль о самоубийстве – но тут же пропадала, так как являлась скорее плодом буйной фантазии и некоего любования собственной драмой, чем реальным намерением. Люция не считала, что смерть – это выход. Она, несмотря ни на что, жаждала жить.
Пани Идалия Эльзоновская, официально обручившаяся с графом Барским, приехала в Париж и явилась к дочке, но встретила такой прием, что сразу приняла твердое решение не приезжать на свадьбу Люции.
Впрочем, Люция и сама не желала ее присутствия. Из близких и друзей на свадьбу были приглашены лишь княгиня Подгорецкая и граф Трестка с супругой.
Люция с радостью пригласила бы и пана Мачея, но он прихварывал и не смог отправиться в дорогу.
Люция не желала ни во что вмешиваться, и всеми приготовлениями к свадьбе занимались княгиня и Рита.
До дня бракосочетания оставалось всего несколько дней.
У Люции был такой вид, словно ее собирались живьем замуровать в стену. Ее тревога и страх достигли апогея. Она пылала внутренним жаром, думая о предстоящей свадьбе так, как чахоточная о смерти, стоящей у постели Увидев ее, Брохвич испугался и впервые с момента обручения задал себе вопрос:
– Что я делаю?!
Перед ним встал призрак грядущей беды, неминуемой, безжалостной. Ежи мучился, совесть его бунтовала против собственных намерений, но у него не было сил отказаться от Люции.
Он удалился, чувствуя, что сердце его обливается кровью.
Люция сидела в своем будуаре, застывшим взглядом глядя в высокое окно, за которым шумела жизнью и весельем парижская улица.
Внезапно она встрепенулась, удивленно глядя на дверь, встала.
В дверях стоял Богдан Михоровский, серьезный, спокойный, совсем не такой, как всегда.
Он чуть заметно улыбался, уверенный в себе, в его глазах светилась решимость.
От него веяло удалью и силой.
Люция молча смотрела на него. Он подошел и поцеловал ей руку, тогда лишь девушка спросила удивленно:
– Богдан? Откуда ты?
– Приехал спасти тебя, кузина…
– Спасти? Меня?
– Вот именно.
Люция смотрела на него, ничего не понимая. И вдруг рассмеялась сухо, враждебно:
– Спасти? Меня? Поздно! Свадьба через несколько дней!.
– Да, я получил приглашение… и, к счастью, успел вовремя, чтобы расстроить этот брак. До последней минуты я не верил, что ты решишься на такую… низость.
– Богдан!
– Да, низость! Но я не допущу вашей свадьбы, потому что она была бы преступлением!
Люция вырвала у него руку, нахмурилась:
– По какому праву ты говоришь такое?
– Мое право – это моя уверенность, что я поступаю хорошо и правильно, останавливая тебя на пути к гибели. Мое право – это желание тебе счастья. Я не позволю тебе погибнуть!
– А есЛи я хочу как раз погибнуть?
– Лжешь!
– Я хочу этой свадьбы и приду к своей цели!
– Это не цель, это упрямство, каприз… месть…
– Богдан, как ты смеешь?!
Михоровский бережно взял ее руки в свои, заглянул в глаза. Она опустилась в кресло. Богдан сел рядом.
Они молчали.
Люция вдруг почувствовала растущую тревогу, желание убежать. Она боялась смотреть на Богдана – ее веселый кузен вдруг стал совершенно другим человеком, и Люция не могла понять, что он замышляет.
Рядом с ней сидел другой человек, новый, загадочный, будивший любопытство… и страх.
Слишком резко попытался Богдан вырвать ее из летаргического сна, из покорной апатии, и Люция готова была возненавидеть его за это.
Она шла прямо к пропасти и не хотела открывать? глаз – зачем же он пытается поднять ей веки?!
Из жалости?
Из непонятного злорадства?
И вдруг, словно сверкающий метеор, в душу Люции ворвалась надежда:
– А вдруг он… вдруг он прибыл по поручению майората…
Люция не посмела вслух спросить об этом. Надежда всецело овладела ею, а Богдан отодвинулся куда-то в вдаль, стал мелким посредником… а Вальдемар… а Вальдемар – трусом, спрятавшимся за спину кузена…
Надежды угасли. Люция почувствовала отвращение и к Богдану, и к Вальдемару, одновременно ощутив :, сочувствие и жалость к Брохвичу, жертве заговора Михоровских. И Люция решила забросать Богдана язвительными насмешками, явно показать ему свое отвращение.
Однако Богдан опередил ее, произнеся мягко, но решительно, словно констатируя известное всем:
– Ты не любишь Брохвича…
– Не люблю, – отозвалась она, как эхо.
– Значит, ты совершаешь… низость. Умышленно, безжалостно, из-за раненой гордости соглашаясь на брак с тем, кого не любишь…
Она молчала, вся дрожа. Богдан неумолимо продолжал:
– От отчаяния можно убить, но замуж от отчаяния выходить нельзя. Это получится не убийство, а навеки искалеченная жизнь. Более того, ты не любишь и майората.
Она вскрикнула:
– Ты с ума сошел! Замолчи!
«Что он замышляет? – подумала она. – Что все это значит?»
Неуверенность и страх отразились на ее лице. Но вскоре она овладела собой, холодно взглянула в глаза Богдана:
– Я тебя не понимаю, кто из нас сошел с ума?
– Люци, послушай меня…
– Немедленно объясни, куда ты клонишь!
– Куда клоню? Хочу объяснить тебе, что ты не любила майората и не любишь…
Люция встала:
– Довольно! Прощай. Ты сущий ребенок… и ужасно смешон.
И она быстро вышла из комнаты.
Но Богдан долго еще слышал ее смех неестественный, пылавший ненавистью к нему… и полный печали.
Но слова Богдана, запавшие в душу Люции, постепенно начали оказывать свое действие.
ХLVI
Люция провела бессонную ночь, борясь с самыми противоречивыми чувствами, испытывая страшный внутренний разлад. Слишком сильный удар она получила накануне решающего шага. Она уже свыклась было с мыслями о замужестве – но в глубине души жила надежда избежать его. И эта надежда вдруг ожила…
Люция спрашивала себя, что же теперь делать?
Как освободиться от тесных пут, казавшихся ненавистными?
Но если она вырвется на свободу, где и в чем искать спасения?
Остаться с тяжестью на душе?
Или идти к венцу, словно ничего не произошло?
Богдан… Богдан – словно ангел-хранитель, явившийся выручить ее! Протянувший ей руку помощи!
Нельзя отвергать его! Нужно поверить ему, признаться себе самой, что совершаешь низость, и отказать Ежи!
Но ведь это означает совершить очередную низость! Убить душу Ежи! Можно ли поступать так ради сохранения собственного душевного спокойствия?
Люцию мучили сомнения. Не будет ли ее отказ Брохвичу тем, что навсегда отяготит ее душу, – сознанием нового преступления?
Есть ли благородство в том, чтобы лишить любящее сердце Брохвича столь желанного им счастья?
В чем, наконец, больше благородства – в правде, открыто высказанной в глаза, или в сочувствии к чужой любви и надежде?
Люция ощущала страх перед Богданом, но не избегала его. А он был настойчив, и они беседовали часами. Богдан убеждал, Люция упорно защищалась.
Ее странное состояние, напоминавшее то ли горячку, то ли бред наяву, беспокоили княгиню, и еще более – Брохвича. Граф смутно начинал подозревать, что появление Богдана станет крахом всех надежд.
Дня через два Люция уже сама искала разговоров с Богданом. Его откровенность и безапелляционные суждения пугали Люцию, поражали, сердили, но и убеждали. Она не признавалась в том себе сама, но долгие уговоры Богдана совершили переворот в ее душе. Она поняла, что не сможет отдать руку Брохвичу. Ей показалось, что враг, долго и неустанно преследовавший ее, вдруг потерял след, она укрылась за могучей стеной Сомнения, готовая к решительным действиям, стряхнувшая прежнюю апатию и оцепенение. Она дрожала то от страха, то от радости пробуждения. Майорат уже отодвинулся куда-то вдаль, словно мираж в пустыне. Брохвич, хотя Люция видела его каждый день, тоже стал своего рода смутным видением, утонул в хаосе новых открытий, и откровений, гипнотически действовавших на Люцию.
Только Богдан был живым, реальным. Он тиранически воздействовал на Люцию, часто раздражал своей аргументацией, сокрушал волю девушки – но и убеждал…
Люция, испуганная близившимся днем бракосочетания, хваталась за слова и аргументы Богдана, словно за якорь спасения и надежды. А Михоровский становился все смелее, чувствуя свою силу, стал судьей и арбитром в затянувшемся споре.
Люция все же терялась в догадках – что движет Богданом, какие мысли, какие побуждения? Он упорно твердил Люции, что она не имеет права выходить за Брохвича, не любя его, ибо тем самым сделает бедного графа еще несчастнее; что она не любит майората и никогда его не любила; что ее чувства к Вальдемару были не чувствами, какие женщина испытывает к мужчине, а детской жаждой обладания красивой игрушкой; что она любила не реального майората, а существовавший лишь в ее воображении идеал…
Люция, не раз удивлявшаяся меткости суждений Богдана, в глубине души вынуждена была признать, что он прав.
Однажды их разговор протекал особенно бурно. Люция соглашалась с Богданом в том, что с Брохвичем следует порвать, но все еще не готова была признать, что Богдан прав, уверяя ее, будто ее отношение к Вальдемару далеко от истинной женской любви.
– Ты же не знаешь, что происходит в моей душе! – горячо сказала она.
– Знаю, Люция… Твои чувства к нему никак нельзя назвать настоящей, глубокой, великой любовью. Ты не Стефа, по-настоящему любившая его… Попросту ты с детских лет увлеклась блестящим красавцем, словно недоступной игрушкой, холила и лелеяла это увлечение, переросшее в детскую опять-таки жажду обладания. Ты уважала его как общественного деятеля, благородного человека, но это еще не любовь…
– Богдан, смилуйся! Не оскверняй алтаря, на который я столько лет приносила жертвы… которому посвятила сердце свое и душу…
– Но разве это любовь, Люци? Ты несколько лет мечтала о нем…
– Я любила его!
– Нет. Мечтала. В своих детских, а потом и девичьих мечтах ты идеализировала его настолько, что он стал из реального человека вымышленным добрым гением, светочем, мечтой… И с Брохвичем ты обручилась только затем, чтобы подтолкнуть майората к решительным действиям…
Люци опустила глаза, щеки ее горели. Богдан неумолимо продолжал:
– Я не знаю, что и когда произошло меж тобой и майоратом, но уверен: осенью в Глембовичах ты убедилась, что майорат никогда тебя не любил. Я читал в твоем сердце… и в сердце дяди. Сначала я молчал, верил, что онответит на твои чувства и вы будете счастливы. Но потом, когда я узнал, что близится это роковое бракосочетание, терпение мое иссякло, я решился, и ничто уже не могло меня остановить. Я здесь – и я ни за что не позволю тебе убить Брохвича!
– Я хорошо понимаю, что делаю, на что иду…
– Но ты внутренне жаждешь спасения, – прервал ее Богдан.
Люция молчала. Страх, ее возрастала.
– Ты жаждешь спасения, – повторил Богдан. Но знаешь ли ты, кто может тебя спасти?
– Никто не имеет права меня спасать! – выкрикнула она и тут же поняла, что кривит душой.
Богдан порывисто взял ее руки в свои:
– Я имею право… и воспользуюсь им!
– Какое еще право?
– Я люблю тебя!
– Ты? Меня?
– Да.
Они смотрели друг на друга, не в силах перевести дыхание. Богдан был взволнован и смущен, на его худом мужественном лице сменяли друг друга наплывавшие чувства.
Люция, вся дрожа, спросила:
– Чем продиктованы эти слова – жалостью ко мне или стремлением уберечь от неправильного шага?
Михоровский поцеловал ей руку. Когда он заговорил, голос его дрожал:
– Люци, прости мне столь напористое и неожиданное признание. Я давно любил тебя, но до последнего времени плохо разбирался в своих чувствах. Теперь я все для себя решил, и счастье, которое ты видела в браке с майоратом, хочу превратить для тебя в реальность. Ты никогда не любила майората. Вот Вальдемар любил Стефу по-настоящему, это была истинная, непреходящая любовь, оставшаяся святою навсегда. Можешь ли ты сказать то же самое о своих чувствах?
Люция опустила глаза.
Богдан нравился Люции, она попала под его обаяние, и благодарность к нему переросла в ее сердце в любовь.
А он молчал, чувствуя происходивший в ней внутренний перелом. Быть может, и сам переживал последнюю, окончательную перемену.
Прошло не менее часа, прежде чем Люция очнулась от мыслей, вызванных столь неожиданным признанием, настолько, что смогла говорить. Исчезли тоска и укоры совести.
Богдан пробудил ее вопросом:
– Люци, ты не ответила мне. Видишь ли ты разницу меж чувствами Вальдемара к Стефе и твоими чувствами к Вальдемару?
Люция посмотрела ему в глаза:
– Да, Вальдемар любил иначе. Но и я любила… Хорошо, оставим это. Богдан, ты тоже не рассказал мне еще о своих чувствах.
Богдан зарумянился:
– Клянусь, поначалу я ехал сюда, движимый чувствами брата, спешащего спасти сестру… Но едва увидел тебя, в сердце ожила столь долго сдерживаемая любовь. Я люблю тебя, Люци, и потому хочу спасти. Будь благоразумна, откажи Брохвичу. Не делай несчастными и его, и себя.
Люция заломила руки:
– Но как я ему скажу? Как он это вынесет? И все же… отказать ему необходимо.