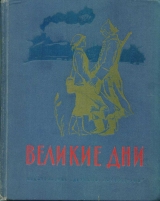
Текст книги "Великие дни. Рассказы о революции"
Автор книги: Гарри Гаррисон
Соавторы: Михаил Шолохов,Максим Горький,Константин Паустовский,Аркадий Гайдар,Юрий Герман,Валентин Катаев,Антон Макаренко,Александр Фадеев,Вадим Кожевников,Александр Серафимович
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Синие глаза Шурки мечут молнии, руки поднимаются ввысь, и историческое повествование Лиссагаре о мучениках Парижской коммуны и о палачах-версальцах становится правдой наших дней, и мы чувствуем себя обязанными довершить то, что им довершить не пришлось.
И мы довершили!
1959
А. С. СЕРАФИМОВИЧ
ДВЕ СМЕРТИ

В Московский Совет, в штаб, пришла сероглазая девушка в платочке.
Небо было октябрьское, грозное, и по холодным мокрым крышам, между труб, ползали юнкера и снимали винтовочными выстрелами неосторожных на Советской площади.
Девушка сказала:
– Я ничем не могу быть полезной революции. Я бы хотела доставлять вам в штаб сведения о юнкерах. Сестрой – я не умею, да сестер у вас много. Да и драться тоже – никогда не держала оружия. А вот, если дадите пропуск, я буду вам приносить сведения.
Товарищ, с маузером за поясом, в замасленной кожанке, с провалившимся от бессонных ночей и чахотки лицом, неотступно всматриваясь в нее, сказал:
– Обманете нас – расстреляем. Вы понимаете? Откроют там – вас расстреляют. Обманете нас – расстреляем здесь!
– Знаю.
– Да вы взвесили все?
Она поправила платочек на голове.
– Вы дайте мне пропуск во все посты и документ, что я – офицерская дочь.
Ее попросили в отдельную комнату, к дверям приставили часового.
За окнами на площади опять посыпались выстрелы – налетел юнкерский броневик, пострелял, укатил.
– А черт ее знает… Справки навел, да что справки, – говорил с провалившимся чахоточным лицом товарищ, – конечно, может подвести. Ну, да дадим. Много она о нас не сумеет там рассказать. А попадется – пристукнем.
Ей выдали подложные документы, и она пошла на Арбат в Александровское училище, показывая на углах пропуск красноармейцам.
На Знаменке она красный пропуск спрятала. Ее окружили юнкера и отвели в училище в дежурную.
– Я хочу поработать сестрой. Мой отец убит в германскую войну, когда Самсонов отступал. А два брата на Дону в казачьих частях. Я тут с маленькой сестрой.
– Очень хорошо, прекрасно. Мы рады. В нашей тяжелой борьбе за великую Россию мы рады искренней помощи всякого благородного патриота. А вы – дочь офицера. Пожалуйте!
Ее провели в гостиную. Принесли чай.
А дежурный офицер говорил стоящему перед ним юнкеру:
– Вот что, Степанов, оденьтесь рабочим. Проберитесь на Покровку. Вот адрес. Узнайте подробно о девице, которая у нас сидит.
Степанов пошел, надел пальто с кровавой дырочкой на груди, – только что сняли с убитого рабочего. Надел его штаны, рваные сапоги, шапку и в сумерки отправился на Покровку.
Там ему сказал какой-то рыжий лохматый гражданин, странно играя глазами:
– Да, живет во втором номере какая-то. С сестренкой маленькой. Буржуйка чертова.
– Где она сейчас?

Сопротивление контрреволюции сломлено! Картина художника К. Юона «Перед вступлением в Кремль у Троицких ворот 2/15 ноября 1917 года» изображает тот момент революционного сражения в Москве, когда отряды солдат и рабочих устремляются через Троицкую башню в Кремль, где засел штаб контрреволюционных войск.
– Да вот с утра нету. Арестовали, поди. Дочь штабс-капитана, это уж язва… А вам зачем она?
– Да тут ейная прислуга была из одной деревни с нами. Так повидать хотел. Прощевайте!
Ночью, вернувшись с постов, юнкера окружили сероглазую девушку живейшим вниманием. Достали пирожного, конфет. Один стал бойко играть на рояле; другой, склонив колено, смеясь, подал букет.
– Разнесем всю эту хамскую орду. Мы им хорошо насыпали. А завтра ночью ударим от Смоленского рынка так, только перья посыпятся.
Утром ее повели в лазарет на перевязки.
Когда проходили мимо белой стены, в глаза бросилось: у стены, в розовой ситцевой рубашке, с откинутой головой лежал рабочий – сапоги в грязи, подошвы протоптаны, над левым глазом темная дырочка.
– Шпион! – бросил юнкер, проходя и не взглянув. – Поймали.
Девушка целый день работала в лазарете мягко и ловко, и раненые благодарно глядели в ее серые, темно-запушенные глаза.
– Спасибо, сестрица.
На вторую ночь отпросилась домой.
– Да куда вы? Помилуйте, ведь опасно. Теперь за каждым углом караулят. Как из нашей зоны выйдете, сейчас вас схватят хамы, а то и подстрелят без разговору.
– Я им документы покажу, я – мирная. Я не могу. Там сестренка. Бог знает, что с ней. Душа изболелась…
– Ну да, маленькая сестра. Это, конечно, так. Но я вам дам двух юнкеров, проводят.
– Нет, нет, нет… – испуганно протянула руки, – я одна… я одна… Я ничего не боюсь.
Тот пристально посмотрел.
– Н-да… Ну что ж!.. Идите.
"Розовая рубашка, над глазом темная дырка… голова откинута…"
Девушка вышла из ворот и сразу погрузилась в океан тьмы – ни черточки, ни намека, ни звука.
Она пошла наискось от училища через Арбатскую площадь к Арбатским воротам. С нею шел маленький круг тьмы, в котором она различала свою фигуру. Больше ничего – она одна на всем свете.
Не было страха. Только внутри все напряглось.
В детстве, бывало, заберется к отцу, когда он уйдет, снимет с ковра над кроватью гитару, усядется с ногами и начинает потинькивать струною, и все подтягивает колышек, – и все тоньше, все выше струнная жалоба, все невыносимей. Тонкой, в сердце впивающейся судорогой – ти-ти-ти-и… Ай, лопнет, не выдержит… И мурашки бегут по спине, а на маленьком лбу бисеринки… И это доставляло потрясающее, ни с чем не сравнимое наслаждение.
Так шла в темноте, и не было страха, и все повышалось тоненько: ти-ти-ти-и… И смутно различала свою темную фигуру.
И вдруг протянула руку – стена дома. Ужас разлился расслабляю щей истомой по всему телу, и бисеринками, как тогда, в детстве, выступил пот. Стена дома, а тут должна быть решетка бульвара. Значит, потерялась. Ну, что ж такое, сейчас найдет направление. А зубы стучали неудержимой внутренней дрожью. Кто-то насмешливо наклонялся и шептал:
"Так ведь это ж начало конца… Не понимаешь?.. Ты думаешь, только заблудилась, а это нач…"
Она нечеловеческим усилием распутывает: справа Знаменка, слева бульвар… Она, очевидно, взяла между ними. Протянула руки – столб. Телеграфный? С бьющимся сердцем опустилась на колени, пошарила по земле, пальцы ткнулись в холодное, мокрое железо… Решетка, бульвар. Разом свалилась тяжесть. Она спокойно поднялась и… задрожала. Все шевелилось кругом – смутно, неясно, теряясь, снова возникая. Все шевелилось: и здания, и стены, и деревья. Трамвайные мачты, рельсы шевелились, кроваво-красные в кроваво-красной тьме. И тьма шевелилась, мутно-красная. И тучи, низко свесившись, полыхали, кровавые.
Она шла туда, откуда лилось это молчаливое полыхание. Шла к Никитским воротам. Странно, почему ее до сих пор никто не окликнул, не остановил. В черноте ворот, подъездов, углов – знает – затаились дозоры, не спускают с нее глаз.
Она вся на виду: идет, облитая красным полыханием, идет среди полыхающего.
Спокойно идет, зажимая в одной руке пропуск белых, в другой – красных. Кто окликнет, тому и покажет соответствующий пропуск. Кругом пусто, только без устали траурно-красное немое полыхание.
На Никитской чудовищно бушевало. Разъяренные языки вонзались в багрово-низкие тучи, по которым бушевали клубы багрового дыма. Громадный дом насквозь светился раскаленным, ослепительным светом. И в этом ослепительном раскалении все, безумно дрожа, бешено неслось в тучи; только, как черный скелет, неподвижно чернели балки, рельсы, стены. И все так же исступленно светились сквозные окна.
К тучам неслись искры хвостатой красной птицы, треск и непрерывный раскаленный шепот – шепот, который покрывал собою все кругом.
Девушка обернулась. Город тонул во мраке. Город с бесчисленными зданиями, колокольнями, площадями, скверами, театрами, публичными домами – исчез. Стояла громада мрака.
И в этой необъятности – молчание, и в молчании – затаенность: вот-вот разразится, чему нет имени. Но стояло молчание, и в молчании – ожидание. И девушке стало жутко.
Нестерпимо обдавало зноем. Она пошла наискось. И как только дошла до темного угла, выдвинулась приземистая фигура и на штыке заиграл отблеск.
– Куды?! Кто такая?
Она остановилась и поглядела. Забыла, в которой руке какой пропуск. Секунда колебания тянулась. Дуло поднялось в уровень груди.
Что ж это?! Хотела протянуть правую и неожиданно для себя протянула судорожно левую руку и разжала.
В ней лежал юнкерский пропуск.
Он отставил винтовку и неуклюже, неслушающимися пальцами стал расправлять. Она задрожала мелкой, никогда не испытанной дрожью. С треском позади вырвался из пожарища сноп искр, судорожно осветив… На корявой ладони лежал юнкерский пропуск… кверху ногами…
"Уфф, т-ты… неграмотный!"
– На.
Она зажала проклятую бумажку.
– Куда идешь? – вдогонку ей.
– В штаб… В Совет.
– Переулками ступай, а то цокнут.
…В штабе ее встретили внимательно: сведения были очень ценные. Все приветливо заговаривали с ней, расспрашивали. В кожанке, с чахоточным лицом, ласково ей улыбался.
– Ну, молодец девка! Смотри только, не сорвись…
В сумерки, когда стрельба стала стихать, она опять пошла на Арбат. В лазарет всё подвозили и подвозили раненых из района. Атака юнкеров от Смоленского рынка была отбита: они понесли урон.
Целую ночь девушка с измученным, осунувшимся лицом перевязывала, поила, поправляла бинты, и раненые благодарно следили за ней глазами. На рассвете в лазарет ворвался юнкер, без шапки, в рабочем костюме, взъерошенный, с искаженным лицом.
Он подскочил к девушке:
– Вот… эта… потаскуха… продала…
Она отшатнулась, бледная как полотно, потом лицо залила смертельная краска, и она закричала:
– Вы… вы рабочих убиваете! Они рвутся из страшной доли… У меня… я не умею оружием, вот я вас убивала…
Ее вывели к белой стене, и она послушно легла с двумя пулями в сердце на то место, где лежал рабочий в ситцевой рубашке. И пока не увезли ее, серые, опушенные глаза непрерывно смотрели в октябрьское суровое и грозное небо.
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
УЛЬТИМАТУМ

Последняя ночь Октябрьских боев. Я вошел в помещение штаба Военно-революционного комитета, волоча правую простреленную ногу, затвердевшую под тугой повязкой. Я получил приказ: пробраться в штаб белых, доставить пакет!
– Ультиматум… – сказал кто-то на ухо.
Предельную усталость, когда подкашиваются ноги, а от бессонных ночей так мучительно клонит ко сну, что порой теряешь сознание, – при одном только слове "ультиматум" как рукой сняло, словно тела коснулся электрический ток. Я вздрогнул: ультиматум – значит, наша берет!
В мое распоряжение дали закрытую машину Красного Креста. Тут же мне указали на двух парламентеров со стороны белых в поношенных солдатских шинелях. Это были переодетые белые офицеры.
Получив соответствующий пропуск, я вышел с ними на улицу. Офицеры быстро юркнули внутрь машины и торопливо прихлопнули дверцу. Я взобрался на открытое сиденье рядом с шофером.
Тихо, осторожно, с потушенными фарами повел шофер машину. Кругом ни одного огонька. Все потонуло в глубоком мраке. После шума и гула дневных боев ночная тишина казалась подозрительной, на стороженной, зловещей. Чутко прислушиваемся… Кажется, будто и ночь затаила дыхание. В этом мраке неожиданное появление машины могло вызвать подозрение и своих и чужих – белых. Тихо, словно на ощупь, продвигались мы вперед, но шум мотора и трение колес о мостовую не могли не нарушить мертвой тишины. И справа, сотрясая воздух, подобно частым ударам молотов по железному настилу, загремели выстрелы, и над нашими головами стремительно, со свистом, будто вспугнутые ночные птицы, пронеслись пули.
– По нас стреляют! – заволновался шофер.
Сложив руки рупором, я крикнул во мрак:
– Свои! Большевики!..
– Стой! – твердо и зычно прозвучал впереди грубый голос.
Машина стала. Из мрака вынырнули три темные фигуры.
– Кто такие?!
– Свои! – ответил я, протягивая пропуск.
При свете спички сверкнули штыки, осветились небритые, загрубевшие солдатские лица.
– Проезжай!
Время от времени оглашая воздух криком: "Свои! Большевики!", мы продвигались вперед… И снова:
– Стой!
На этот раз спичка осветила бравую фигуру матроса, его широкое, мужественное лицо. На бушлате блестели медные пуговицы. Змеей извивалась пулеметная лента. В левой руке – короткий карабин. Рядом с ним стоял, опираясь на винтовку, высокий, пожилой рабочий с сосредоточенным, устало-серьезным лицом.
– Куда? – прогудел матрос.
Я протянул ему пропуск. Пробежав глазами, бросил на меня строго испытующий взгляд, вернул пропуск:
– Катись!..
Но вот и Арбатская площадь. Неожиданно откуда-то сверху, вероятно с крыши, часто застрочил пулемет, и по мостовой, словно свинцовый град, забарабанили пули. Машина стала.
– По нас! – растерялся шофер.
– Давай ход! Давай! – толкнул я его.
Рванув машину, он оглушительно и, очевидно, сдуру заорал:
– Свои! Большевики!
Машина, перемахнув площадь, влетела в улицу, наскочила на труп и сразу, испуганно завизжав тормозами, остановилась.
– Стой! Стой! – кричали впереди какие-то новые, чужие нам голоса.
– Кадеты! – шепнул шофер.
Три штыка почти коснулись наших тел.
– Что?.. Не туда попал? – злорадствовал молодой голос.
– Сходи! – скомандовал другой. – Ну! – Последовала матерщина.
– Чего лаешься? – огрызнулся я. – Дело есть!
– Какое дело?!
– В штаб!
Привыкшие ко мраку глаза различили фигуры юнкеров. На шум голосов из машины выскочили парламентеры. Отрекомендовавшись, они предложили пропустить нас.
В сопровождении офицеров-парламентеров я вошел в вестибюль. Ослепил свет. Здесь толкались, казалось без цели, офицеры, юнкера, попадались казаки; мое солдатское обмундирование, давно не бритое лицо сразу обратили на себя внимание.
– Большевик! Большевик! – раздались голоса. – Матерый! Попался, перец!..
Пожилой парламентер взял у меня пакет и быстро помчался по лестнице наверх. Молодой усадил меня на стул и в качестве охраны поставил возле юнкера с винтовкой. Через минуту и он исчез. Теперь выражение лиц присутствующих резко изменилось. Пакет, мой независимый вид и отношение ко мне офицера-парламентера – все это говорило, что я не пленник. Мое присутствие здесь казалось необычным и вызывало любопытство.
Среди этой публики особенно выделялся молодой, но бородатый (для солидности) приземистый офицер.
– Что, товарищ, – произнес он иронически, – плохи ваши дела? – Изо рта его несло спиртом.
– Почему плохи? – спокойно спросил я.
– За милостью приехал?
– Почему за милостью?
– Бьют вашего брата!
– Кто сказал?
– Я говорю! Я! – крикнул он" раздраженный моим спокойствием. – Керенский и генерал Краснов разгромили красных под Петроградом! Вдребезги разгромили! Известно ли ото "товарищам"?! – кричал он, насмешливо произнося слово "товарищам" и хитро подмигивая своим.
– А у меня сведения иные, – произнес я с деланным равнодушием.
– А именно? Какие?.. Интересно послушать! – послышались нетерпеливые голоса.
– Насколько мне известно, – сказал я, – Керенский показал пятки, а генерал Краснов взят в плен!..
Взорвись бомба, она не произвела бы такого эффекта. Тут я понял, что рядовая масса белых до последнего момента (как это потом и подтвердилось) была ложно информирована.
– Врет он, большевик! – завизжал тенорком бородач. – Врешь! Врешь! Панику пришел наводить! Панику!
Наполовину обнажив клинок сабли, он шагнул ко мне, зверски закусив губу. Юнкер загородил ему дорогу штыком. Сдержав себя, я все так же спокойно осадил его:
– Не шуми, борода!.. Не шуми! Пожалеешь!
Последнее слово я произнес загадочно. Бородач вытаращил глаза… Я решил нанести второй удар.
– Если кто из вас, господа, сомневается в моих словах, пусть потерпит немного. Скоро узнаете… Скоро!..
Это был нокаут!.. Не скрывая своего смущения, все отступили.
– Ох и влетит же нам от большевиков! – воскликнул певучим тенорком бородач. Дошло и до него.
…Тревога! Где-то близко на улице стрельба. Сверху, с лестницы, бегом, щелкая затворами винтовок, спускались юнкера и офицеры. Стремглав бежали на улицу. По лестнице почти скатился вниз старый, сухощавый полковник.
– Кто смел снять посты?! – истерически топал он ногами на дежурного офицера, сидящего в стороне за отдельным столиком. – Кто смел?! Кто?! Кто?!
Дежурный, вытянувшись и отдавая честь, что-то бормотал.
"Наши нажимают", – подумал я.
Постепенно звуки выстрелов ослабевали. Тяжело дыша, возвращались белые. Вестибюль вновь наполнился людьми. А через некоторое время сверху и снизу донеслись голоса:
– На собрание! На собрание!
Вестибюль мигом опустел. Остались только часовые и дежурный. Шум и говор в комнате справа затихли. Потом монотонно зазвучал чей-то голос. Как ни напрягал я свой слух, я мог только уловить отдельные слова: "Сдать оружие… Демаркационная линия… Советы…" Но вот чтение закончено. Последовала короткая пауза… Потом зашумели, закричали. Кто-то пытался возражать, но яростный голос резко оборвал:
– Смирно! Молчать! Это вам не большевистское собрание! Разойтись!
Как прорвавшаяся плотина, шумно выходила из комнаты толпа. Рыжий офицер со всклокоченными волосами орал:
– Продали! За тридцать сребреников продали!
Ему вторил знакомый мне пьяный тенорок:
– Ох и влетит же нам от большевиков!
Я понял: ультиматум принят!..
Опустив голову, ни на кого не глядя, сопровождаемый небольшой свитой, спускался сверху среднего роста полковник в сером френче. Он был бледен. Это был полковник Рябцев, командующий силами белых в Москве. В его свите среди военных выделялась штатская фигура в черном пальто и шляпе. Это был один из лидеров меньшевиков. Ко мне быстро подошел пожилой офицер-парламентер, все в той же солдатской шинели.
– Едем в думу! – торопливо сказал он.
В думе предстояла встреча с представителями Военно-революционного комитета. Полковник Рябцев и весь его штаб втиснулись в машину Красного Креста, а я, как и раньше, забрался на сиденье рядом с шофером.
– Едем в думу, беляков сдавать! – радостно шепнул я на ухо шоферу.
Шофер только крякнул в ответ и с места рванул машину.

«Первые дни Октября. Красногвардейский дозор». Картина художника Г. Савицкого. Тихо стало в богатых кварталах Петрограда. Побежденная буржуазия боится выйти на улицу, со страхом и ненавистью смотрит она сквозь окна на красногвардейские патрули.
По городу изредка кое-где еще гремели выстрелы, но ночь уже не казалась мне такой напряженной и мрачной. Вдали чуть обозначилось какое-то светлое пятнышко.
– Наши, – сказал шофер. – Должно, костер развели, греются. Надо предупредить!
Я сошел с машины и зашагал вперед, к этой светлой точке. Сложив руки рупором, бодро и весело во всю мочь заорал:
– Свои! Большевики!..
Оттуда донесся чуть слышный голос в ответ.
По мере приближения к своим я почувствовал все нарастающий прилив радости, как после долгой разлуки с самыми близкими и любимыми мне людьми.
– Свой! Свой! – звонко и далеко разносился мой голос.
– Давай! Подходи! – приветливо отвечали свои.
Машина двигалась следом за мной. И вот открылась слабо освещенная отблеском скрытого костра баррикада из бревен, булыжников и тумб от афиш. Над баррикадой торчали дула, штыки, и видны были головы солдат и рабочих. Меня буквально распирало от счастья. На баррикаде мне ответили дружными улыбками. Осклабились простые, добродушные лица.
– Подходи, товарищ, подходи! – просто и сердечно приглашали товарищи.
– Наша взяла! – задыхаясь, мог только выговорить я.
Но и этих слов было достаточно, чтобы товарищи поняли весь смысл их. Одним могучим рывком, как колоду, отбросили в сторону тумбу.
– Проезжай, браток! Проезжай!
Машина рванулась в образовавшийся проход.
Итак, я выполнил свое задание. Оставив машину у городской думы, с трудом передвигая ноги, пешком направился в наш штаб, штаб красных, штаб революции. Предутренняя сырость и холодный ветерок не охладили моего пылающего лица: сердце переполнилось невыразимым чувством великой радости. И хотелось крикнуть на весь мир: «Наша взяла! Наша взяла!»
ЮРИЙ ГЕРМАН
В ПЕРЕУЛКЕ

Четвертого июля 1918 года открылся Пятый съезд Советов. Дзержинский – с гневной складкой на лбу, с жестко блестящими глазами – слушал, как «левые» истерическими, кликушескими голосами вопят с трибуны о том, что пора немедленно же прекратить борьбу с кулачеством, что пора положить конец посылкам рабочих продотрядов в деревни, что они, «левые», не позволят обижать «крепкого крестьянина», и так далее в таком же роде.
Съезд в огромном своем большинстве ответил "левым" твердо и ясно: "Прочь с дороги. Не выйдет!"
На следующий день, пятого, Дзержинский сказал Ивану Дмитриевичу Веретилину:
– А "левых"-то больше не видно. Посмотрите – ни в зале, ни в коридорах – ни души.
– У них где-то фракция заседает, – ответил Веретилин.
– Но где? И во что обернется эта фракция?
Дзержинский уехал в ЧК. Здесь было известно, что "левые", разгромленные съездом, поднятые на смех, обозленные, провалившиеся, заседают теперь в морозовском особняке, что в Трехсвятительском переулке. Там они выносят резолюции против прекращения войны с Германией, призывают к террору, рассылают в воинские части своих агитаторов. Однако такого "агитатора" задержали и привели в ЧК сами красноармейцы. Пыльный, грязный, сутуловатый, с большими, прозрачными ушами и диким взглядом, человек этот производил впечатление душевнобольного.
– Вы кто же такой? – спросил у него Веретилин.
– Черное знамя анархии я несу человечеству, – раскачиваясь на стуле, нараспев заговорил "агитатор". – Пусть исчезнут, провалятся в тартары города и заводы, мощеные улицы и железные дороги. Безвластье, ветер, неизведанное счастье кромешной свободы…
– Чего, чего? – удивился черненький красноармеец с чубом. – Какое это такое "счастье кромешной свободы"? Небось нам-то говорил про крепкого хозяина, что он соль русской земли – кулачок, дескать, и что его пальцем тронуть нельзя – обидится…
Дзержинский усмехнулся.
Еще один задержанный "агитатор" показал, что "левые" после провала на съезде вынесли решение бороться с существующим порядком вещей любыми способами.
– Что вы называете существующим порядком вещей? – спросил Дзержинский.
– Вашу власть! – яростно ответил арестованный. Глаза его горели бешенством, на щеках выступили пятна. – Вашу Советскую власть. Больше я ни о чем говорить не буду. Поговорим после, когда мы вас арестуем и когда я буду иметь честь вас допрашивать…
Его увели.
Дзержинский прошелся из угла в угол, постоял у окна, потом повернулся к Веретилину и спросил:
– Заговор?
– Надо думать – заговор! – ответил Веретилин. – Судите сами – этот типчик явно грозится восстанием, Александрович не появляется вторые сутки…
А шестого июля в три часа пополудни двое неизвестных вошли в здание немецкого посольства. Посол Германии, граф Мирбах, не сразу принял посетителей. Им пришлось подождать. Ждали они молча – секретарша в это время просматривала в приемной газеты. Минут через двадцать раздались уверенные шаги Мирбаха; он властной рукой распахнул дверь, и, когда дошел до середины приемной, один из посетителей протянул ему бумагу – свой мандат. В это мгновение другой выстрелил из маленького пистолета в грудь послу, но не попал. Мирбах рванулся к двери. Тот, который протянул бумагу, скривившись, швырнул гранату, которая с грохотом взорвалась в углу возле камина. Уже в дверях Мирбах упал навзничь – четвертая пуля попала ему в затылок. Диким голосом, на одной ноте визжала белокурая секретарша; по лестнице вниз, в подвал, скатился второй советник, захлопнул дверь, стал придвигать к ней комод. Хрипя, граф умирал один на пороге своей приемной; никто не пришел ему на помощь, даже военный атташе заперся в своем кабинете. Медленно оседала пыль, поднятая взрывом. На старой липе во дворе встревоженно кричали вороны.
Уже смеркалось, когда Дзержинский склонился над телом убитого посла. Холодные, в перстнях, пальцы Мирбаха сжимали комочек бумаги – мандат на имя некоего Блюмкина с подделанной подписью Дзержинского. Убийца выдал себя с головой; но с кем пришел сюда, кто был вторым?
Расспросы персонала посольства не дали ничего: швейцар видел двух людей в пиджаках. Секретарша утверждала, что один был в пальто, которое он почему-то не снял. Истопник, белобрысый пруссак с офицерской выправкой, настаивал на том, что один из преступников был в пиджаке, другой в гимнастерке.
Когда Дзержинский и Веретилин выходили из здания посольства, к крыльцу, фыркая и постреливая, подъехал маленький оперативный "бенц-мерседес". Рядом с шофером сидел помощник Веретилина – Вася; губы у него вздрагивали, по лицу катился пот.
– Еще что-нибудь случилось? – спросил Дзержинский.
Стараясь говорить спокойно, Вася рассказал, что произошло восстание в полку, которым командует Попов. Мятежники отказываются выполнять приказы правительства. Попов объявил себя начальником всех мятежных сил России; на Чистых прудах и Яузском бульваре мятежники останавливают автомобили и прохожих, отбирают деньги, оружие и отводят в Трехсвятительский переулок, в особняк Морозова, где помещается штаб.
– Вы что, сами там были? – спросил Дзержинский.
– Еле вырвался, – сказал Вася. – Вот куртку на плече разодрали. Пьяные, песни орут, пушки какие-то себе привезли.
Дзержинский стоял возле маленького "бенца" – молчал, думал. Веретилин и Вася молчали тоже, медленно постукивал невыключен-ный мотор; было душно, низкие тучи ползли над притихшей Москвой.
– Еще есть новости?
– Есть: Александрович украл кассу.
– Восстания в Арзамасе, в Муроме, в Ярославле, в Ростове, Великом и Рыбинске, – тихо заговорил Дзержинский, – я предполагаю, связаны друг с другом – отсюда, из Москвы. Тут цепочка. Надо ухватить это звено – убийство Мирбаха, – тогда, должно быть, удастся выдернуть всю цепь, тогда мы наконец узнаем, какая бабка ворожит преступникам отсюда, из столицы.
– Отсюда? – спросил Веретилин.
– Отсюда! – убежденно подтвердил Дзержинский.
Из открытых окон апартаментов убитого посла донесся хриплый крик графини Мирбах, потом сделалось совсем тихо, потом она опять закричала. В это время из серых, душных сумерек медленно выполз открытый двенадцатицилиндровый автомобиль с флажком иностранной державы на радиаторе; на кожаных подушках, отвалившись, неподвижно сидел господин в мягкой шляпе, в широком светлом плаще. Машина остановилась, шофер открыл капот, господин в шляпе, закуривая сигару, вытянулся к раскрытым окнам, за которыми кричала графиня Мирбах.
– Проверяет, убит или не убит, – сказал Вася.
Шофер со скрежетом захлопнул капот, сел на свое сиденье; машина, мягко покачиваясь, без огней, растаяла в сумерках.
– Не без них дело сделано! – сказал Веретилин, кивнув вслед машине. – Проверяет Антанта работу своего Блюмкина.
Дзержинский шагнул к "бенцу", сел рядом с шофером и сказал Веретилину, дотронувшись до его плеча:
– Я еду в Трехсвятительский. Надо этот узелок развязать. С мятежниками Владимир Ильич покончит быстро, мятеж будет разгромлен, банда сдастся, а заговорщики – головка банды уйдут переулочками, подвальчиками, спрячутся у своих отсидятся. Надо развязать узел сейчас, немедленно. В азарте, с закружившимися головами все эти наполеончики болтливы, хвастливы; предполагаю, удастся нам разобраться в обстановке…
Широкое лицо Веретилина изменилось, даже в сгустившихся сумерках было видно, что он побледнел.
– Тут дело такое, товарищ Дзержинский, – быстро, с тревогой заговорил Иван Дмитриевич, – они ведь ни с чем не посчитаются – пьяные, головы потеряли, вы учтите…
Дзержинский кивнул:
– Да, но время, Веретилин, никак не терпит. Упустим нить заговора, сколько тогда честной крови прольется еще, сколько несчастий произойдет!..
Веретилин быстро встал на подножку машины, спросил напористо:
– Разрешите с вами? Мало ли что…
– Не разрешаю! – сурово оборвал Дзержинский. – Отправляйтесь в Чека, там дела много. Не дурите, Веретилин!
Иван Дмитриевич отпустил дверцу машины; шофер включил скорость.
Автомобиль, скрипнув старыми рессорами, развернулся и исчез во мраке.
– Что же теперь будет? – спросил Вася.
Веретилин закурил, рука его со спичкой дрожала.
– Что ж ты будешь делать, когда он страха не понимает? – сказал он. – Интересы революции требуют – значит, все…
Иван Дмитриевич помолчал, раскуривая трубочку, потом добавил тихо, домашним, добрым голосом:
– Вот учись, Василий. Запоминай, чего судьба тебе подарила видеть, какого человека. Потом внукам расскажешь…
В это самое время "бенц" подъезжал к Чистым прудам.
Где-то далеко, над ржавыми крышами, погромыхивал гром, поблескивали зарницы, не частые, но яркие и продолжительные.
В мелькнувшей зарнице Дзержинский увидел: от корявого, разбитого дерева к подворотне вытянулась цепочка людей; винтовки с примкнутыми штыками, пулемет на перевернутой подводе, шинели внакидку; командир прохаживался распояской, тычет пистолет в лицо какому-то длинному парню.
– Эти самые и есть! – сказал шофер, замедляя ход. – Дальше не пустят…
– Поезжайте! – коротко ответил Дзержинский.
Шофер нажал акселератор, машина прыгнула вперед, шинели расступились, сзади, не сразу, прогрохотали два выстрела. Шофер еще поддал газу, машину стало валять из стороны в сторону – мимо костров, освещающих высоко задранные стволы пушек, мимо орущей толпы, пока вдруг не пришлось затормозить: тут был битый кирпич, песок, ящики – что-то вроде баррикады. Тотчас же подлетел сутуловатый человек в кепке, надвинутой на самый нос, заругавшись, стал рвать дверцу машины; в другой руке у него тускло поблескивал никелированный "Смит и Вессон". При свете большого костра, над которым кипел котел, Дзержинский, слегка высунувшись из машины, жестко, словно ударил, сказал:
– Уберите руки!
Человек в кепке, узнав Дзержинского, сомлел, отступил от машины, сказал осевшим голосом:
– Да разве ж мы знаем… Нам приказано, мы и того… Вы не сомневайтесь, товарищ Дзержинский…
От костра шли к "бенцу" другие – с винтовками, с пистолетами. Тот, что был в кепке, вдруг властно крикнул:
– А ну, отойди назад! Сам Дзержинский едет – вот кто.
Какой-то захудалый человек, с клочкастой бороденкой, в разбитых сапогах, не поверил – подошел ближе.
– Где у вас штаб? – сурово спросил Дзержинский. – Как туда проехать?
Толпа задвигалась. Один, в серой рубашке, приказал:
– Клименко, проводи! – и объяснил Дзержинскому: – Двором придется ехать, товарищ Дзержинский, начальство скомандовало тут все перегородить…
Клименко – тот, что был с бороденкой, в разбитых сапогах, – пошел перед машиной, ласково советуя:
– Левее бери, машинист! Колдобина тут. Еще левее, засадишь самопер свой. Еще левее – вот по-над помойкой, вот где рукой показываю…
Потом шел рядом с Дзержинским, спрашивая тихо:
– Неужели иначе нельзя? Давеча сам Александрович собрание сделал – грозится каждого третьего расстрелять, если кто изменит великому, говорит, делу. А какое оно такое, великое дело? Ребята сомневаются, – зачем шум подняли? Которые с перепою проспались – запротестовали: мы не хотим против Ильича идти! Костька Садовый так сказал – его тут на месте и застрелил сам Попов. Лежит под стеночкой; а за что убили человека?








