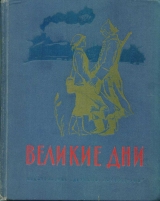
Текст книги "Великие дни. Рассказы о революции"
Автор книги: Гарри Гаррисон
Соавторы: Михаил Шолохов,Максим Горький,Константин Паустовский,Аркадий Гайдар,Юрий Герман,Валентин Катаев,Антон Макаренко,Александр Фадеев,Вадим Кожевников,Александр Серафимович
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
"Не видела", – ответила я, а сама удивлялась, так как слова этого человека ничего нового мне не говорили, они указывали на то, что я сама видела, но о чем думала как-то неясно, точно во сне, а он сейчас расталкивал мои мысли, как расталкивают заспавшегося человека.
"Та жизнь, которая была раньше и которую мы уничтожаем, – сказал он, – держалась на праве сильного. Сильные всегда хотят съесть слабых. Самым слабым считается тот, у кого имущества меньше. Ты деревенская?"
"Да".
"Ну, так ты знаешь этот порядок – богатый мужик давит бедного".
Он подтвердил свои слова молчанием. Я тоже молчала. Это было верно, говорить мне было нечего.
"У твоего барина ремесло состоит в том, чтобы помогать сильным, то есть богатым, грабить бедных так, чтобы бедные соглашались, чтоб их грабили. Ты подумай… – сказал он, подходя ко мне, и, засунув руки в карманы, заглядывал мне в глаза выпуклыми, горяче-карими глазами. – Ты подумай: ведь бедных-то больше, чем богатых, ведь если бы они все поняли обман, они бы выгнали богатых. Но они не выгоняют. Почему? Потому что богатые умеют уговорить бедных, что это так надо, чтоб рабочие работали на фабрикантов, а крестьяне – на помещиков, на кулаков. Надо задурять, надо доказывать, что это так и нужно, и для этого существуют такие люди, как твой барин, – адвокаты, защитники… И чем больше имущества, чем больше денег получает барин, тем лучше он защищает… Но бедные по темноте, по невежеству хотя и дают себя грабить, но они ж понимают, что их грабят? Верно?"
Я кивнула головой. Все, что он говорил, было очень ясно и правильно, но я не привыкла, чтоб слова были такие правильные, я привыкла, что словами обманывают, усыпляют, хитрят. А вдруг здесь тоже обман? Ведь он каторжник, конокрад…
Прищурившись, я посмотрела на него, – он говорил быстро, с какой-то широкой добротой, яростно и весело скаля свои большие зубы, потрясая кулаками:
"А нас мильоны, понимаешь, мильоны народа! И нам надо не слушать их уговаривающие слова, а больше смотреть за их грабительскими делами. У них право силы. Ну что ж, – ощерясь, сказал он. – сила так сила. Если мы все, пролетарии всех стран, соединимся, мы будем тоже сила…"
Так объяснял он мне революцию. Он объяснял моего барина. И я видела его ясно, лучше чем когда-нибудь.
"Теперь вот твой барин и еще такие же образованные господа, защитники капиталистов, хитрыми речами пытаются опять уговорить рабочих и крестьян надеть ярмо на шею. Они держатся так, точно они за революцию. Это хитрость: если они не будут так держаться, кто ж им поверит? Но они ненавидят восставший народ и готовы ему надеть ярмо на шею".
И как только он это сказал, я вспомнила разговор барина и барыни… И я покраснела, словно опять услышав, как они говорили обе мне… Но теперь я что-то поняла в их словах… Рассказать ему об этом? Но я вспомнила, что они о нем говорили, и как-то совестно было ему это повторить. Шутка ли дело – сказать человеку, что его считают конокрадом!
"Он, верно, не конокрад… – подумала я. Но он, правда, весь черный, смелый, тонкий, был похож на цыгана. – Если он даже и воровал когда лошадей, то, верно, по большой нужде и не иначе как у богатых", – подумала я.
Разговор у нас был долгий, но говорил больше он, а я молчала и только спросила, почему в газете ругают бога. Тогда он стал говорить про бога и про попов то, что вы все знаете, но я этого сильно испугалась и не слушала его, хотя и кивала головой.
"Уж на что ваша сестра забитая и напуганная, а и то на прошлом собрании у нас было двадцать три человека. Но каждая из них обещала на следующее собрание привести по десять. Если наполовину сдержат слово, и то здорово. Ты приходи завтра сюда, в Совет. Обязательно приходи… Мы подымем такую волну!"
"Совет", – и мне понравилось это слово, я запомнила его, я понижала его так: здесь советуют бедноте, вот таким, как я, угнетенным и темным, кто сам не может найти дорогу.
Когда я вернулась домой, барыня стала меня пилить:
"Где ты была, почему так долго?"
Сначала я молчала, а потом сразу говорю:
"Вы на меня не кричите. Я в Совете была…"
И как я это сказала, барыня разом замолчала, повернулась от меня и вышла. А я села за стол на кухне, и сразу у меня мысль: "Сейчас ж не уходить отсюда. Брать расчет и искать новое место". И вдруг мне неохота уходить. "Что ж, – думаю, – господа мои как господа. Ничего господа, лучше многих". И уже жалко мне моей кухни, и кастрюль, и кучера, и горничной нашей Маши.
Вдруг отворяется дверь, и входит барин, и я подумала: он меня рассчитает… А он постоял, посмотрел на меня и говорит:
"Ты что ж, Нюша, накричала на барыню?"
Я молчу.
"Это, знаешь, дружок, никуда не годится. Если у тебя есть недовольство, заяви. Все можно исправить, все можно улучшить. Договоримся как-нибудь. Я – народный социалист, я понимаю".
Он помолчал, думал, что я ему что-то скажу, но я тоже молчала, я не знала, что ему сказать.
Мы тобой вполне довольны, – сказал он дальше. – А если ты нами недовольна, скажи чем… Свободный день в неделю мы тебе дадим. Одежду для работы тоже. Отдельной комнаты для тебя у нас нет. Увеличение жалованья? Договоримся. Так как, договоримся?"
"Да", – сказала я хрипло. Очень обрадовалась, что не гонят с работы. А тут еще и день отдыха, и увеличение жалованья, и прозодежда…
"Так, значит, договорились? – сказал хозяин весело. – Видишь, и Совет путать ни к чему в наши дела. Совет… Там необразованные люди, преступники… – говорил он, и в его голосе была злоба и осторожность. – Они погубят народ… жестокие звери. Они… в бога не верят, они враги церкви".
"Вы тоже не верите", – сказала я хрипло и тихо, я чувствовала какую-то обманчивую силу в его словах, мне хотелось из нее высвободиться.
"У каждого, Нюша, свой бог… Мне не надо ходить в церковь, чтоб молиться. Но я религию очень уважаю. Разве мы когда-нибудь запрещали тебе идти в церковь? Нет. Свобода совести". – говорил он.
И это было верно, они в церковь меня всегда пускали…
Рассказчица наша так неожиданно оборвала свой рассказ, что не которое время ребята ждали, а потом тот же мальчик спросил:
– Что же, выходит, больше не видела этого героя Соломона?
– Нет.
– А на собрание кухарок ты не пошла? – спросил другой.
– Нет, не пошла.
– Почему?
– Я была темная дура, – со злобой сказала рассказчица. – Они купили меня прибавкой жалованья, днем отдыха, лишним платьем… И мне хотя интересно было вспоминать и про этого человека. Соломона, и про Совет, но я боялась, что они в бога не верят. И я не шла. Я продолжала работать, как раба.
– И даже не слыхала ничего про этого героя? – продолжал допытываться тот же спрашивающий мальчик.
– Я услыхала о нем, когда его убили. Это было много времени спустя, уже осенью восемнадцатого года. За это время большевики уже сделали Октябрьскую революцию, в нашем городе настала власть Советов, и барин с барыней уехали куда-то, а меня оставили домовый чать. Они рассчитали всех слуг, а мне прибавили жалованья, чтоб я сторожила их имущество. Через несколько дней ночью пришли большевики.
"Где гражданин Снежков?" – спросили они.
"Я не знаю", – ответила я.
"Врешь". – И они сделали обыск по всей квартире, и у меня тоже.
А я не врала, я правда не знала, куда уехали господа, они мне не сказали. Потом в нашу квартиру вселился какой-то советский работник, и хотя он был маленький, лысенький и подслеповатый, а со мной совсем не разговаривал, а только улыбался, но чем-то он походил на того человека, Соломона-конокрада.
Домой этот человек приходил спать, и только иногда, быстро проходя через пустые комнаты, он останавливался у пианино, открывал крышку, ударял одну клавишу, другую, третью – никакой музыки не получалось, он просто прислушивался к чистым звукам, немного сгорбленный, морщинистый, со скудными седовато-прозрачными волосами на лице, и быстро уходил.
Однажды он ушел и больше не пришел. Вокруг города и в городе стреляли.
"Большевики уходят…" – говорили по городу.
И правда, через несколько часов стрельба стала уходить в леса все дальше и дальше, в церквах зазвонили колокола, появились солдаты и офицеры с погонами на плечах, и по городу пошел церковный ход, такой церковный ход, что я другого такого никогда не видела, – из церквей вынесли все хоругви, попы шли целыми взводами…
И мне, ребята, стыдно сказать, но я стояла на коленях, крестилась и плакала, и мне очень все это нравилось – такое торжество, такое веселье… "Наверное, это очень хорошо, что прогнали большевиков, если столько батюшек идет в крестном ходе", – подумала я, крестясь, но, думая о большевиках, я вдруг представила этого черного Соломона. А вдруг с ним случилось что-нибудь плохое? И я беспокоилась, и желала ему только хорошего, и жалела, что он большевик.
На извозчике приехали с вокзала барин и барыня, и у них приколоты бело-зеленые красивые банты.
"Ну, здравствуй, большевичка… – сказал барин. – Как ты тут жила?"
Они прошли по всей квартире, проверили, всё ли на месте, и велели мне сделать большую приборку. Опять наняли горничную, откуда-то привели лошадей, пришел старик кучер. Все пошло по-старому, только как-то беспокойнее. По улицам стало ездить много генералов, попов, господ. Их называли "беженцы" – они бежали из других городов, где были большевики.
У барина часто собиралось много этих людей, – тогда приходилось один за другим греть самовары, не спать поздно в ночь.
Я продолжала жить как в дремоте, отчужденная от господ, но верная их слуга; но точно дремота эта стала тоньше, беспокойнее. И часто, когда у нас гости, я открою дверь из кухни, слушаю, как они жужжат часто это слово "большевики", злобятся, боятся… как тогда барин с барыней, но теперь их много, говорят они громко. И народ стал больше разговаривать; пойдешь ли на базар, по лавкам ли – и везде про войну, про порядки.
Рассказывают, как живут сейчас в России, в "Советской России", у "большевиков", чудно рассказывают: богатые будто должны сами работать, – скажем, улицы очищают от снега. Церкви закрыты, хлеба мало, армия себе начальников выбирает…
В церквах службы стали длинные, пышные, служат больше архиереи, поют дьяконы, тучные, голосистые, как трубы, – обещают второе пришествие, Страшный суд, и мне боязно: верно, жизнь как-то исказилась. А дедка, наш кучер, стал чего-то смеяться над попами. Он и раньше в церковь не ходил, и не постился, а тут и креститься перестал, ругает бога и богородицу, точно они ему пакость какую сделали, всё читает старые книги какие-то: "Природа и люди", "Вокруг света".
Раз поздней ночью, только разошлись наши гости и я домываю посуду, вдруг кто-то тихонько стучит в окно. Гляжу – за стеклом облик брата. Но весь он обросший, в городской одежде. Я ахнула – и скорее в сени, трясусь от холода, хочу, чтоб он вошел. Он не идет, просит: "Дай денег, дай хлеба…" Я знала, что он вернулся по демобилизации домой, но деревня наша была у красных.
"Как же ты здесь?"
"Я пошел в Красную Армию, попал в плен, меня хотели расстрелять, но я убежал. Дай хлеба, дай денег, я уйду".
"На… На… Ну, а зачем ты в Красную Армию? Мало навоевался?"
Тут он молча взглянул на меня, усмехнулся, опять помолчал и говорит:
"Ты, Анна, дура. Но объяснять некогда. Но первый год я запахал столько, что прокормлю всю семью. Землю по справедливости переделили, у помещика взяли. И мы эту землю не отдадим…"
Так сказал он, взял хлеб и ушел, и только его теплые губы точно остались на моей щеке.
Это меня встряхнуло. Еще делать против господ я ничего не умела, даже мысли такой не появлялось. Но господа мне что ни говорят, а я им не верю, я смотрю и думаю: "Сколько лет вместе живем, а они ко мне чужие. Да и я к ним тоже". И это не жаль. И все вспоминаю слова того Соломона. Я их очень хорошо запомнила, они не походили ни на какие слова, которые я слышала позже, но, вспоминая их тогда, я еще не понимала, какая в них сила и помощь.
Так прошло несколько недель, была уже зима, я вышла за дровами во двор – вдруг какая-то женщина идет от ворот прямо ко мне.
"Вы кухарка Снежковых?" – спрашивает она.
"Да, я кухарка Снежковых", – говорю и смотрю на нее: где-то я ее видела, но признать не могу.
"Вы меня не узнаете? Я встретилась вам в Совете. Помните, вы приходили к товарищу Соломону?"
И я сразу вспомнила: это была та румяная девушка, но сейчас она стала какая-то строгая и невеселая. И я очень ей обрадовалась и сразу вспомнила этого человека, цыгана, конокрада… И только хотела спросить о нем, как она говорит:
"Его убили на красном фронте".
И она рассказала мне все то, что я вам о нем рассказывала. И, слушая, я стала вдруг ужасно плакать… Я вдруг поняла, что это был самый хороший человек из всех, кого я знала. Самый хороший, самый лучший…
Так я узнала, что его убили.
Рассказчица замолчала, вынула платок, вытерла глаза, высморкалась и вздохнула. Ребята глядели на нее. Потом один, тот, который любил, чтоб все было досказано, спросил:
– А что ты потом делала? Так и служила у господ?
– Нет, – ответила рассказчица, – я ушла. Но это уже совсем особая история.
– Еще рано. Расскажи, – просили ребята.
– Да тут говорить особо много не придется, – сказала она. – Мы тогда же уговорились с этой девушкой, что она будет ко мне приходить, как моя подруга. И она приходила ко мне много раз.
"Наши сегодня продвинулись на пятьдесят верст ближе", – говорила она.
"Наши подняли большое восстание в Сибири".

Нет в России ни одного уголка, ни одной деревни, где бы мужики не читали и не обсуждали советский закон о земле – самый мудрый и справедливый. Чтение ленинского декрета изобразил художник В. Серов в картине «Декрет о земле».
«Нашим приходится тяжело, мало хлеба, в Питере рабочие голодают».
"Паши построили Красную Армию. У нас командир и солдат – товарищи".
И я знала: наши – это такие, как она, как Соломон, как наш квартирант. Это большевики. Это те, с кем вместе был мой брат и кто соединяет нас, трудящихся пролетариев всех стран. И я уже сочувствовала им. Но мне казалось невероятно: неужели большевики могут победить? И я еще боялась бога – ведь большевики против него. И тогда она рассказала мне, как крестьяне сначала не верят большевикам, а потом становятся на их сторону, потому что видят правильность большевиков, их борьбу с помещиками и передачу крестьянам земли. Она рассказывала, как Чека открывает заговоры, как и здесь у белых везде рассыпаны такие люди, как она, и везде они действуют, расшатывая и разлагая власть белых. И, разговаривая с барином, я всегда и неотступно думала, что этот человек не просто плохой человек, он буржуй, он притеснитель, он один из главных белых, как мне объяснила моя новая знакомая, моя новая подружка. Ее я очень уважала. Вот она сидит молча у меня на кухне и о чем-то сильно думает. А тогда я даже и не понимала – о чем. Теперь-то я знаю, она скрывалась у меня от белых, в нашей квартире ее найти не могли. Приходила она всегда под вечер, осторожно оглядывалась, садилась за печку, так, чтоб ее не было видно, если из комнат кто-нибудь придет.
"Я, правда, небольшая шишка в нашем деле, но, может, за мной следят белые. Уже немало нашего брата сидит сейчас под замком".
И она рассказывала об этих людях, которые сидят здесь в нашей кирпичной большой тюрьме.
Красные подходили все ближе. И эта моя советская подружка с каждым днем становилась все веселее и веселее. И раз она не приходила несколько дней.
А потом вдруг приходит вся какая-то нахмуренная, бледная. Долго, очень долго молчала.
"Анна, – говорит она, – белые уйдут из города".
"Уйдут из города?"
Я разом представила улицы в красных знаменах, брат, может, придет, и не ночью, украдкой, а днем, разговаривать будем… Обрадовалась.
Но смотрю на нее – она все равно бледная и скучная какая-то.
"Анна, белые уйдут из города, но они, наверное, казнят всех, кто сидит в тюрьме…"
Я обмерла, я смотрела на нее.
"Анна, у твоего барина где-то лежит распоряжение насчет всех наших, кто сидит в тюрьме, что с кем они будут делать, куда повезут".
И хотя она еще не попросила меня это распоряжение найти, но я сразу же про себя подумала: "Я это сделаю".
Но как только я так подумала, тут же испугалась…
"Как же так? Надо залезть в ящики к барину? Взять чужое? Украсть?" И вдруг вспомнила, что и Соломона называли конокрадом.
И явилась мысль, что часто говорят про большевиков: грабители, берут дома… фабрики… белье… у крестьян будто хлеб берут. А брат все-таки за большевиков? А Соломон этот? Почему это его называют конокрад? И у меня была какая-то неприязнь против этих людей, для которых не святы чужое имущество и бог.
"Так что ж, я не сделаю? – спросила я себя. – Как же это я не сделаю, не спасу этих людей?"
"Анна, это лучшие люди. Вспомни Соломона. Неужели ж и они должны погибнуть, как погиб он?"
"Что ты меня уговариваешь? Уж ты думаешь, я совсем чушка несознательная?"
И хотя я сама еще в своих мыслях сомневалась, но обиделась на нее, что она во мне сомневается.
В ту же ночь она привела ко мне в дом трех незнакомых парней. Я впустила их в кабинет барина. Два часа один из этих ребят и моя подружка искали документы по всем ящикам письменного стола. А в это время я с двумя другими ребятами стояла у дверей спальни. Мы караулили, – если бы барин проснулся и пошел в кабинет, мы бы его удушили, у нас наготове было одеяло… И я порой, как бы опомнившись, думала: "Что ж это со мной? Я стою здесь, готовая к тому, чтоб убить нашего барина?" И у меня даже ноги начинали дрожать и подкашиваться. И все-таки стоило в спальне кому-то пошевелиться, стискивала зубы, и у меня даже желание появлялось, чтоб он вышел.
Но он проспал всю ночь! – торжествующе сказала рассказчица. – Мы нашли документ и унесли его, и по нему был для наших товарищей устроен побег.
Так кончился этот рассказ. Хорошее молчание прошло над костром, и слышен стал мерный и мягкий шелест набегающих волн.
Ребята во все глаза глядели на рассказчицу, на ее бледное и большое лицо, на лоб, покрытый морщинами, и на черные глаза.
И вдруг тот же ушастый парнишка сказал:
– Товарищи, вот она рассказала нам эту историю про героя-большевика Соломона, но из этой истории видно, что и она тоже героиня. Это надо быть очень храбрым, чтоб сделать то, что она сделала.
Рассказчица пожала плечами…
Как только заговорил мальчик, рассказчица словно вобрала внутрь волнение, которое выступило на ее лице во время рассказа. И она сказала тем поучительным тоном, которым начала рассказ и который время от времени прорывался и в самом рассказе, когда обнаруживалось, что весь этот рассказ она ведет с целью чему-то научить ребят.
– Я рассказала про Соломона, чтоб вы знали, что значит герой.
Может, он герой потому, что умер за революцию? – спросила она и сама ответила: – Да, и потому. Но он еще герой потому, что не забывал ни на секунду эти слова "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" – и соединял. Он говорил со мной один раз, я его даже не поняла. А слова его сделали меня коммунисткой – уже после того, как он умер. А вот теперь я эти слова рассказала вам, и они уже вам будут примером. Так и пойдут наши слова от товарища к товарищу. Понял? – серьезно обратилась она к ушастому мальчику, который в тон ей, так же серьезно, как она говорила, смотрел на нее.
– Нет! – твердо ответил мальчик. – И ты героиня!
– Ну, что значит героиня… – сказала она тихо и хрипловато рассмеялась. – Человек начал освобождаться, и больше ничего.
1930
А. ЗОРИЧ
ПРОСТОЙ СЛУЧАЙ

Всякий раз, когда я переворачиваю в Октябрьские праздничные дни листок календаря, мне вспоминается один маленький случай. Он прост и даже зауряден, может быть, в истории нашей борьбы, и молодая история нашей страны насчитывает тысячи таких случаев. Но именно потому, что он так прост, с исключительной ясностью обнажается в нем вся огромная, сокровенная глубина эпохи, но именно потому, что он так зауряден, это есть один из тех штрихов, огромная сумма которых и составляет, собственно, блестящее, героическое и волнующее полотно революции.
Это было в одну из первых годовщин Октября, в самые тяжелые, в самые тревожные и напряженные дни гражданской войны, когда, охваченная со всех сторон кольцом блокады, обложенная со всех сторон армиями наступавшего врага, объятая тифом, обессилевшая от голода, выдвигая на фронты последние остатки резервов, собирая в тылу последние крохи боевых ресурсов, республика делала непостижимые и отчаянные усилия, чтобы сбросить ту петлю, которая все туже и туже затягивалась с каждым часом на молодом и неокрепшем ее теле.
В эти дни каждый знал, что решается вопрос о будущем страны; в эти дни каждый понимал, что от него требуется и он обязан делать вдвое, втрое, вдесятеро больше того, на что рассчитаны и что позволяют его физические и моральные силы.
Помнится, как раз накануне праздника, для которого у нас не было тогда ни лишнего куска материи, чтобы поднять в его честь хоть алые ленточки на штыках, ни лишнего десятка патронов в запасе, чтобы отдать ему хоть ружейный салют, но к которому мы готовились и ждали с волнением, с радостью и с душевным теплом, не меньшим, а может быть, и большим даже, чем сейчас, – как раз накануне праздника в наш отряд прискакал из штаба ординарец с пакетом.
Новости были плохие. Нас обходили, и на маленький наш отряд, растрепанный и растерявший в боях почти весь свой состав, возлагалась сложная и ответственная задача: в двух точках одновременно – на мосту и десятком километров ниже, где пролегал брод, – задержать, насколько хватит сил, переправу белых через реку, по берегу которой мы отходили.
Мало было бы сказать, что это выглядело трудным; она казалась просто немыслимой – эта операция, противоречившая и всем законам войны, и простому здравому смыслу. Мы едва насчитывали несколько десятков почти безоружных людей, у нас сохранился на весь отряд единственный, старенький и расшатанный, пулемет с полуоторванным задком, у нас не было ни артиллерии, ни патронов и ни грамма динамита, чтобы взорвать хоть одну ферму на этом проклятом мосту. На что же могла рассчитывать, что же могла сделать беспомощная и крохотная наша человеческая горсточка перед лицом целого неприятельского полка, который наступал с той стороны в составе лучших офицерских рот, прекрасно и полностью снабженный всем, чего требовала его боевая задача?
Но революция имела собственные законы и собственную философию и логику войны. И когда мы получили пакет, никому и в голову даже не пришло, кажется, подсчитывать штыки и взвешивать шансы, просто приказано было готовиться и через час выступать, а так как задача была чрезвычайно сложна и ответственна, командир созвал совещание.
В нашем отряде дрался тогда среди других Федя Кривошеев, столяр с маленького заводика, затерянного где-то в глуши одной из окраинных областей. Замечательный ото был мальчик, и, вспоминая о нем и о том, как он умер, я чувствую каждый раз, как приливает волна тепла и нежности к груди, испытываю гордость, что наше время порождает таких людей, и острую жалость, что так незаслуженно рано перестало биться это большое и хорошее человеческое сердце. Как будто ничего такого особенного и не было в нем, – в рваной и грязной своей шинельке, в дырявых и перевязанных шпагатом башмаках, со старой берданкой за плечами, он выглядел как один из многих среди нас. И лицо у него было самое простое и обыкновенное: курносое, в веснушках, с детским припухлым ртом и с первым юношеским пушком на щеках. И поражали только чудесные, карпе и теплые его глаза, в которых то вспыхивали, то гасли поминутно живые золотистые искорки… Словом, он казался тем же, что и тысячи других вокруг него. Но две черты сообщали особое какое-то обаяние его облику: это удивительная любовь к жизни и страсть и умение мечтать – умение, присущее, как известно, очень немногим людям.
Жизнь он любил действительно, как умеют и могут любить ее только люди с большой и чистой душой, ощущая бесхитростную радость бытия всеми клеточками своего существа. Его радовала каждая былинка на лугу, каждая трель птицы в воздухе, для него дорого и ценно было каждое живое существо в просторах окружавшей его природы. И даже если в поле его зрения попадало что-нибудь самое невзрачное и некрасивое – все равно и это казалось ему прекрасным и наделенным десятками милых и трогательных черт, и для этого тоже находилась у него всегда какая-то крупица душевного тепла и ласки, которые так переполняли его до самых краев, что минутами даже непонятно бывало, откуда это берется и как вмещается в нем. Бывало, встретится какой-нибудь безобразный мальчишка на дороге – он весь так и расплывется в широкой, радостной улыбке: "Посмотрите, какой рыжий и рябой, это ж прямо замечательно, какой рябой!" Или попадется какой-нибудь облезлый и хромой щенок по пути – он так и встрепенется и просияет весь, собирая поспешно хлебные крошки в кармане: "Взгляните, какой вислоухий, это ж прямо удивительно, какой урод!"
Для него все полно было вокруг чарующей какой-то прелести, и каждая мелочь находила живой отклик и вызывала целый рой ощущений в его душе. В лесу он часами мог сидеть и слушать, как стучат дятлы на деревьях и что-то таинственно шуршит и потрескивает в чаще; на реке часами мог смотреть, как клубится легкий предутренний туман по бережкам и дрожат причудливые черные силуэты кустов и деревьев, отраженных в чистой, гладкой воде. И при этом всегда улыбался блаженно, и чувствовалось, что ни о чем особенно он не думает и ничего особенного не переживает, а просто ему удивительно хорошо в эти минуты, и так свободно дышится, и так спокойно и легко делается на душе… Иногда это казалось даже несколько сентиментальным, но, конечно, это была не сентиментальность, а просто здоровый инстинкт настоящей, нерастраченной и полнокровной молодости, для которой все окрашивается вокруг в нарядные цвета и которая бессознательно, но жадно ловит каждую крупицу радости, переполняющей жизнь.
И мечтал и фантазировал он тоже замечательно. До сих пор я помню, какие увлекательные и волнующие картины завтрашнего дня разворачивал он перед нами, когда, бывало, начинались об этом разговоры на привалах, и, зная, как он любит и умеет это, его просили что-нибудь рассказать. Он рисовал нам города в цветах, прекрасные дворцы из хрустального стекла, цветущие оазисы необъятных садов и нив, невиданные машины на земле, объятой одним сплошным праздником, невиданные самолеты в воздухе, покоряющие небесную высоту и так же свободно курсирующие от звезды к звезде, как нынче мы переезжаем из одного села в другое.
Небо и звезды привлекали его почему-то больше всего; он весь загорался, когда заходила об этом речь, и мировая революция твердо рисовалась ему так, что одной Землей тут никак дело не ограничится, конечно, и рано или поздно, но попутно будут организованы и Соединенные штаты советских социалистических звезд…
Я не знаю, откуда все это у него бралось, потому что он был почти неграмотен, с трудом считал до ста и с трудом мог подписать свою фамилию; может быть, в этом сказывался природный талант утописта, может быть, это была просто острая реакция на ту очень тяжелую и безотрадную жизнь, в которой прошли его юные годы и которой инстинкт самосохранения заставлял противопоставить что-то другое, большое и радостное, на что можно надеяться, во что можно верить и за что можно бороться, видя это впереди. Но так или иначе, а почти неграмотный и не имея никакого багажа знаний и культуры за спиной, он витал в несуществующих мирах свободно, как Уэллс, чутьем угадывая при этом вполне реальные очертания завтрашнего дня. Ибо разве не претворяются сейчас его фантазии в действительность? Конечно, в его изложении было много наивного и примитивного, заимствованного из детских сказок о летающих коврах и волшебных палочках, замках и колесницах. Но все это выходило у него как-то удивительно искренне, непосредственно, трогательно и хорошо, и, главное, в каждом его слове чувствовалась глубочайшая вера, что именно так и будет все это, как он себе представляет. Он вдохновлялся, он весь преображался, он точно переносился уже в это сказочное будущее, которое рисовалось ему впереди. Вероятно, в такие минуты, оборванный и грязный, он уже ощущал себя роскошным, как Крез, и, голодный, чувствовал себя пресыщенным, как Лукулл. И это заражало, это передавалось – и взрослые, бородатые мужики часами могли сидеть и слушать его, раскрыв рты и стараясь не проронить ни слова. И как-то легче бывало потом идти вперед, точно где-то вдалеке загорался и звал к себе чудесный огонек.
Но был один человек среди нас, который оставался неизменно равнодушным к любым таким импровизациям, как бы ни были увлекательны и заманчивы миры и уголки, по которым водил нас Федя. Это был старик, по фамилии Рябоконь, дед, приставший к нам как-то в одной из попутных украинских деревень и с тех пор не покидавший уже отряда. Был он очень стар, с белой как снег бородой, с выцветшими от времени глазами, худой и длинный, как жердь, и настолько хилый уже, что с трудом волочил на переходах сгибавшиеся в коленях ноги. Казалось, ему бы лежать уже на печи, жевать корки, размоченные в воде, парить на ночь ноги в чугуне с ромашкой и ждать спокойно конца, а он увязался и упорно шел с нами все дальше и дальше от родного села, пыля на проселках нелепыми своими огромными лаптями, набираясь вшей, обрастая чудовищной грязью и день ото дня все больше начиная походить на выходца из пещерных времен. И ружье у него было какое-то допотопное, тяжелое, пистонное, с дулом, которое напоминало трубу из оркестра, и с такой отдачей, что от стрельбы у него вспухало плечо. Он называл его "рушница" и менять ни за что не соглашался, потому что, как он утверждал, к этому ружью у него и глаз был "пристрелявши", и "пупочка", то есть мушка, на нем была будто бы какая-то особенная, так что по ней хоть комара влет бей, а новые – что в них за толк?
Кто его знает, что именно побудило его бросить и дом, и хозяйство, и старуху, которая, когда он уходил, с плачем проводила его до околицы и сунула на дорогу три ржаные лепешки в цветной ситцевой тряпочке, – бросить все это и на старости лет пойти таскаться с "рушницей" за спиной по мятежным и буйным просторам страны. Он был очень неразговорчив и, когда у него спрашивали, односложно отвечал только, что беляки сеять не дают и все тыквы пообрывали на огороде, и больше от него ничего нельзя было добиться. Конечно, если вдуматься, в скупых его словах заключался очень большой и глубокий смысл, и это была, собственно, целая программа борьбы нищего деревенского бедняка за свое право на труд и жизнь, но тыквы почему-то возбуждали у нас смех, и сам он, насквозь пропитанный психологией мелкого собственника, казался ужасно серым, ограниченным и туповатым – этот старик, олицетворявший собой все вопиющее убожество косной и темной прежней нашей деревни.








