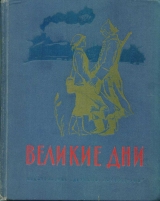
Текст книги "Великие дни. Рассказы о революции"
Автор книги: Гарри Гаррисон
Соавторы: Михаил Шолохов,Максим Горький,Константин Паустовский,Аркадий Гайдар,Юрий Герман,Валентин Катаев,Антон Макаренко,Александр Фадеев,Вадим Кожевников,Александр Серафимович
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ
ПОДЗЕМНАЯ ВОЙНА

Я познакомился с археологом Левченко в 1938 году в маленьком городке Старом Крыму, погруженном в тень вековых ореховых деревьев.
Левченко изучал древний водопровод, найденный в Старом Крыму. На вершинах соседних гор были открыты полуразрушенные каменные бассейны, заваленные морской галькой. Галька эта собирала росу, роса стекала на дно бассейнов и оттуда по гончарным трубам лилась в город.
Я много бродил вместе с Левченко по сухим окрестным горам, и в конце концов мы сдружились.
Однажды мы вернулись в городок и зашли в маленький ресторан. Кроме нас, никаких посетителей не было, если не считать старого пса-крысолова. Он деликатно открыл дверь лапой и улегся у наших ног. Он вздыхал и искоса поглядывал на нас, как бы спрашивая, когда мы, наконец, перестанем говорить. Говорили не мы, а один Левченко.
Кофе остыл. Заведующий рестораном – глухой татарин – уснул за стойкой.
– Впервые я столкнулся с археологией очень диковинно, – рас сказывал Левченко. – Это было в Керчи, в тысяча девятьсот девятнадцатом году, при белых.
Я вернулся из германского плена, пробирался к себе на родину, в станицу Тихорецкую, и застрял в Крыму. Отец мой был машинистом на Северокавказской дороге.
Я вступил в знаменитые партизанские отряды Евгения Колдобы. Действовали мы на Керченском полуострове и все время тревожили белых.
Тогда Крым уже был отрезан от севера. Дрались мы на свои страх и риск. В конце концов белые загнали нас в керченские каменоломни.
Под Керчью и горой Митридата переплетаются сотни подземных ходов, выбитых в желтом известняке. Эти ходы образуют лабиринт на многие километры. Никто, кроме бродяг, прятавшихся в этих подземельях, и археологов, их не знает. Керчь стоит на земле ноздреватой, как губка.
Каменоломни всегда наводили страх на керчан, – в них скрывались бандиты. Их там не могли разыскать годами.
Выходов из подземелий было множество. Можно было спуститься под землю в Керчи, а выйти в степи за пять-шесть километров от города.
Керченские подземелья создавались столетиями. Сначала это были катакомбы первых веков христианства, подземные убежища еще более ранних времен, а потом каменоломни и штольни, вырытые для раскопок. Все это слилось в один сплошной подземный город.
Нас загнали в каменоломни около Аджимушкая.
Мы пытались делать вылазки, но белые постепенно замуровывали вход за входом. Незамурованные входы они оплетали колючей проволокой и ставили около пулеметы.
При каждой попытке прорваться они поливали подземелья пулями и забрасывали ручными гранатами.
Мы сидели в темноте, почти без воды и света. Нефть мы берегли для факелов на случай больших переходов по катакомбам, а обыкновенно горели у нас коптилки.
Я сказал слово "обыкновенно" и понял, насколько оно не подходит к тому, что происходило с нами. Все это было совсем не обыкновенно, а страшно и почти неправдоподобно.
Коптилки освещали трупы товарищей, умерших от ран и сыпняка. Раны гнили. Перевязывать их было нечем.
В нескольких местах вода капала со стен. Это было единственным нашим спасением. Запасы черствого хлеба иссякали.
Первые дни мы потратили на то, чтобы отделить раненых и больных. В одном из подземелий мы устроили лазарет.
Заведовал им единственный среди нас ученый человек, археолог Назимов, – худой и бледный, заика. Он носил желтые очки. Мы даже находили в себе силы смеяться над его очками. Он не снимал их, несмотря на полную темноту катакомб.
Назимов болел страшной болезнью – тромбозом мозга. У него в мозговых сосудах кровь свертывалась в комки. Каждую минуту он мог умереть от кровоизлияния. Он, заикаясь, говорил, что единственное лекарство от этой болезни – пуля в голову, и потому смерть ему не страшна.
Звали мы его "обер-крот". Он прекрасно знал катакомбы. Еще до революции он излазил их в поисках древних погребений. Если бы не он, мы заблудились бы в подземном городе и пропали.
Он выбирал места для стоянок и выводил нас в случае опасности. Он пользовался стареньким детским компасом, да и тот плохо работал. Около Керчи находятся богатые залежи железной руды. Это вечно сбивало с толку игрушечный компас Назимова. Он рыскал в стороны, как пароход с расшатанным рулем. Поэтому Назимов больше действовал по приметам и подземному чутью.
Первое время нам удавалось прорываться "на-гора", как говорят шахтеры, налетать на белых и уничтожать их отряды.
Потом белые усилили охрану выходов. Начались взрывы.
Однажды из "лазарета" к Колдобе приполз раненый. Он сказал, что наверху творится неладное.
– Что? – спросил Колдоба.
– Роют, – ответил раненый. – У нас в лазарете людям нечего делать, как только дожидаться смерти да слушать. Вот и слушаем. Если кто и застонет, мы просим его помолчать для нас всех, для товарищей. Иной человек умирает, и ему говорят: "Потерпи, не стони, друг дорогой". Он делает уважение и помирает тихо, как ребенок. Тяжко лежать, командир. Лежишь, ловишь ухом, что там наверху, на белом солнце, – и ни голоса, ни крика, ни выстрела, – одна эта подземная глухота!
– А чего вы слушаете, дожидаетесь? – спросил Колдоба.
– Того, чего и ты, командир, – тихо ответил раненый. – Надземного боя мы ждем. Ждем, чтобы наши прорвались в Керчь и ослобонили от гибели. Одна у нас думка про это. А вот сегодня стало нам слышно…
– Рассказывай! – коротко приказал Колдоба.
– Стало нам слышно, – шепотом сказал раненый, – роют прямо над головой. Скрипит что-то и скрипит, как сверло. Ты мне поверь. Я это дело знаю, – белые закладают бурку и сделают вскорости взрыв.
Мы прислушались. С пятисаженной высоты доносился тупой звук ударов и скрежет. Потом шум затих.
Колдоба приказал партизанам рассыпаться по катакомбам и не держаться толпами. Раненые начали переползать в глубь подземелий.
Зажгли факелы и приготовились к переходу. В это время тяжело ухнули своды. Густая пыль полетела с потолков и засыпала факелы. Гром обвала покатился к недрам земли. Горячий воздух сбил меня с ног и почти расплющил о камни.
В темноте бежали и кричали люди. Выли придавленные. С гулом и шорохом продолжала оседать земля.
Взрывом было убито около сорока человек. Когда смятение улеглось, мы зажгли факелы и начали переходить на новое место. Впереди шел Назимов. Шествие при факелах в пыли и чаду катакомб напоминало бегство мертвецов из ада.
После этого дня взрывы делались все чаще. Но мы каждый раз уходили от них. Тогда белые решили затопить катакомбы водой. Для этого надо было поставить мощные насосы и качать воду из моря. Нашелся какой-то шустрый инженер и сорвал этот проект. Он доказал, что затопление катакомб не даст результата. Керченский камень ноздреват, катакомбы полны подземных стоков и воронок. Камень всосет воду и сбросит ее обратно в море. Вода даже не дойдет до тех штолен, где засели партизаны.
Взамен воды инженер предложил пустить в катакомбы по желобам серную кислоту. От соединения с кислотой известняк каменоломен должен был выделить громадное количество углекислого газа. Этот газ инженер предлагал задувать аэропланными пропеллерами на дно подземелий и отравить нас, как мышей.
Но и этот способ оказался чересчур сложным. Белые решили действовать проще. Они пускали в катакомбы "обыкновенные" удушливые газы.
Мы уходили от них, но все же каждый день у нас отравлялось газами по нескольку человек.
Участились случаи сумасшествия. Люди открывали беспорядочный огонь по темным закоулкам подземелья. Иной раз всех охватывали слуховые галлюцинации. Тогда мы слышали отголоски жестокого боя на земле, откуда только и могло прийти избавление.
Отчаяние охватило нас. Мы требовали вылазки. Мы не хотели ждать. С неистовым упорством мы искали под землей выходы, еще не известные ни нам, ни белым.
Наконец выход нашелся. Он вел в разрушенный сарай на склоне горы Митридата.
Ночью мы вышли наружу. Бойцы шатались и падали. Сырой воздух разрывал наши отекшие от духоты легкие.
К рассвету мы ворвались в город. К нам присоединились рабочие. Началось знаменитое кровавое керченское восстание. Оно обошлось белым дорого. Если бы не английская морская пехота, белым пришел бы конец.
Дрались мы несколько дней. Дрались всем, что попадало под руку, даже камнями. Мы спустили с круч Митридата сотни громадных известковых глыб. Они смяли и обратили в бегство отборные офицерские отряды.
Но, потеряв две трети людей, мы снова ушли в катакомбы. Во время вылазки мы узнали, что нам надеяться не на что – бои шли далеко, за Сивашем и Чонгарским перешейком.
Колдоба был убит. Мы похоронили его ночью в густом запущенном саду. Партизан Василиади, матрос-грек, сломал несколько цветущих веток миндаля и бросил на могилу.
Мы скрылись в новых катакомбах, – узких и не таких запутанных, как прежде. Выходов было мало. Белые оцепили их все до единого.
Тогда мы поняли, что пришел настоящий конец. Несколько раз мы жестоким огнем отбивали белых, пытавшихся ворваться под землю. Но силы слабели. Если мы еще могли сопротивляться врагу, то не могли переносить жажды. В новых катакомбах не было воды. Надо было или сдаваться, или умирать.
Сдача означала ту же смерть, только более мучительную и подлую. Мы решили пробиваться и идти на верную гибель в бою, но не на расстрелы и пытки.
Тут случилась короткая отсрочка. Однажды мы услышали над головой далекие раскаты грома. Партизаны долго ждали дождя, и он, наконец, разразился.
Потоки мутной воды хлынули по главному ходу каменоломен. Мы сбились в боковых пещерах, лежали на земле и пили, пили до беспамятства, до потери сознания.
Все было наполнено водой – манерки, бутылки, пулеметные кожухи и кепки.
Но через день воды опять не хватало. Мы жевали намокшие в дождевой воде шинели.
Неожиданно тонкий запах угара просочился на дно галереи. Мы зажгли факелы и бросились в глубь катакомб. Факелы, опущенные к полу, быстро гасли, – нас опять отравляли углекислым газом. Белые начали лить в подземелье по желобам серную кислоту. В угаре задохся матрос Павлинов – веселый и насмешливый человек.
Белые ворвались в противогазах в подземелья, но побоялись идти вглубь. Они нашли Павлинова, привязали к постромке лошади и погнали ее наверх.
Павлинов был еще жив. Камни изорвали его тело в клочья. Лошадь выволокла в степь изуродованный труп.
И вот в это время последнего отчаяния и приближения смерти ко мне подошел археолог Назимов, наш "обер-крот". Он сказал мне, что нашел выход в степь, не охраняемый белыми.
К тому времени болезнь Назимова усилилась. Он непрерывно тряс головой. Глаза у него дрожали, как дрожат листья осины в самый безветренный день.
– Надо проверить, – сказал я. – Ты совсем стал слепой.
– Проверим, – ответил Назимов.
Мы незаметно пошли к выходу. Назимов уже не доверял глазам. Он шел по телефонному проводу. Его он протянул для верности от вновь открытого выхода до нашей стоянки.
Недалеко от выхода Назимов сел отдохнуть. Он стал худой до того, что, казалось, фуражка не держалась у него на голове. На каждом шагу он спотыкался.
– Вот, Степан, – сказал он мне, когда мы сели, – думал ли я когда-нибудь, что на месте этих раскопок будет подземная бойня и придется мне умирать вместе с вами?
– Надо полагать, что ты об этом не думал, – ответил я.
Мы помолчали. Назимов встал, цепляясь за камни:
– Ну, пошли! Жить мне хочется, Степан. Если бы жить! Целыми днями я мог бы рассматривать какой-нибудь сухой бурьян или осколок стекла под водой.
– А к чему это? – спросил я.
– А к тому, – ответил он, – что в каждом таком пустяке есть большой смысл. Кончится война, останешься жив – тогда поймешь и узнаешь. А сейчас – пошли!
Мы дошли до выхода. Он светлел под плитой известняка.
Я взглянул из-под плиты и увидел звездное небо.
Мы поднялись. Степь в росе и тишине лежала кругом. Я дышал, как запаленная лошадь, но вместе с чистым воздухом вдыхал запах дыма.
– Откуда дым?
Мы поползли по мокрой траве. Я полз и слизывал росу с ладоней. Воспоминание об этом помогло мне недавно, когда я открыл разрушенные цистерны на Агармыше. "Откуда здесь может быть вода?" – подумал я и вдруг вспомнил свои грязные ладони, полные холодной росы. Никаких сомнений у меня не осталось. Задача была решена.
Мы ползли, пока не заметили костер и солдат в английских шинелях. Они чистили пулемет.
Все было кончено. Этот выход охранялся так же, как и другие.
– Что делать, "обер-крот"? – спросил я Назимова, когда мы опять спустились в катакомбы.
– Выйти здесь и через степь и Арабатскую стрелку уходить на север. Здесь все равно нас перебьют, как котят.

«Интернационал». Тема этой картины художника Г. Коржева подсказана жизнью. Во время ожесточенного боя часть Красной Армии была окружена врагами. Осталось в живых лишь несколько человек. На предложение сдаться последний музыкант военного оркестра заиграл «Интернационал».
Голова у Назимова затряслась. Он задумался.
– А что, если мы сделаем так… Я открою пулеметный огонь у главного выхода, подыму шум и все белые заставы оттяну на себя. А вы тем временем выйдете.
– Одному не справиться. Шум нужно делать большой.
– Вызовем охотников.
– Не будет охотников, – ответил я. – Не будет. Безнадежное это дело.
– Посмотрим.
Я не верил в это рискованное предприятие, но Назимов в ответ на мои возражения только молчал.
Он созвал бойцов, рассказал им, в чем дело, и спросил:
– Есть охотники?
Тогда с полу поднялся раненный в ногу партизан Жуков и сказал сердито:
– Я пойду с тобой, ученый. Мне все равно до Арабата не дойти. Днем позже, днем раньше…
Жуков снял шапку и сказал громко:
– Товарищи бойцы, которые трудно раненные. Говорю до вас. Чем оставаться здесь на собачью муку, возьмем "лимонки" и винты и спасем уцелевших товарищей.
– Чего балакать! Давай патроны! – закричали раненые.
Через несколько минут раненые двинулись к главному выходу. Назимов, шатаясь, шел впереди стонущего и окровавленного войска, ползущего на животах и цепляющегося за выступы скал. Мы сняли шапки и смотрели им вслед.
Потом мы пошли к выходу в степь, а у главного выхода начался ураганный огонь и крики "ура".
Смятение охватило белых. Они бросились к главному выходу. Сигнальные ракеты с шипением понеслись в небо.
Бой разгорался, а мы спокойно и быстро прошли мимо брошенных костров в степь. Через два часа мы уже шли вдоль пустынных берегов Азовского моря.
Сначала мы слышали все более редкие крики и выстрелы, потом огонь стих. Разыгранный бой подошел к концу.
…Через несколько лет мне удалось узнать подробности смерти Назимова и наших раненых товарищей из записок белого офицера.
"Последний отряд партизан, – писал он, – целиком состоял из тяжелораненых. Они дрались – надо отдать им справедливость – с упорством людей, одержимых навязчивой идеей смерти. Командовал ими человек в очках, настолько худой, что издали он напоминал огородное пугало. Партизаны дрались с нами только затем, чтобы погибнуть от пуль в открытом бою, а не быть расстрелянными в контрразведке. Их мужество вызвало восхищение даже некоторых из наших офицеров. Только английские наблюдатели оставались, как всегда, совершенно бесстрастными".
Так кончилась подземная война. Недавно в керченских каменоломнях были произведены последние раскопки. Мы отыскали кости погибших и похоронили их в братской могиле.
Левченко замолчал. Пес, встревоженный нашим молчанием, встал, зевнул и потрогал Левченко грязной лапой, чтобы заинтересовать его в своем существовании. Левченко бросил ему кусок белого хлеба. Пес сглотнул его в воздухе, не сморгнув глазом. Послышался только звук откупоренной бутылки.
1936–1943
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ
САМОУБИЙСТВО КОРАБЛЕЙ

Пока Гарт заканчивал рассказ, я провел несколько дней на буксире у Баранова.
Каждое утро мы ходили на подъем миноносца, а на ночь возвращались в Новороссийск. Во время этих походов я изучил Новороссийскую бухту с ее голыми берегами и нескончаемыми переменами цвета морской воды. Снова, как и во время рейса к Босфору, я попал в обстановку бесконечных морских разговоров и споров.
Особенно запомнился мне спор между Барановым и Денисовым о качествах матросов на военных кораблях. Баранов защищал парадоксальную теорию, что тип кораблей, их назначение и даже внешний вид оказывают сильное влияние на психику команд. Денисов смеялся над этой теорией и называл ее "морочением головы и фокусами".
Спор принял бурный характер. Обе стороны пустили в ход весь запас доказательств, вплоть до насмешек друг над другом и легкой перебранки.
Победителем оказался Баранов. Последнее доказательство, выдвинутое им, было неуязвимо. Оно получило признание со стороны старых моряков, привлеченных к этому спору.
Доказательство Баранова было простым, но необыкновенным.
Он вспомнил тысяча девятьсот восемнадцатый год в Севастополе. Был заключен Брестский мир. Немцы взяли Перекоп. Сбивая разрозненные части Красной гвардии, они быстро двигались к Севастополю, чтобы захватить Черноморский флот. Для отвода глаз немцы решили сначала передать фронт "украинской державе".
Малочисленные регулярные отряды красных войск под командой Федько с тяжелыми боями отступали к Керчи. Горы были полны татарских белых эскадронов, налетавших на Ялту, Судак и Феодосию.
Севастополь митинговал. Каждый день на собраниях выступали отчаявшиеся люди и умоляли "прекратить говорильню", но их никто не слушал. Военно-революционный штаб приказывал "бросить пустую болтовню" и сорванным голосом кричал в исторических приказах:
"Пусть говорят, что защищать Севастополь бессмысленно! Пусть! Неужели можно сложа руки смотреть, как враг движется по пашен земле, губя по пути все, что дорого нам, революционерам? К оружию! Враг на пороге!"
Но Севастополь не слышал этих призывов и митинговал до тошноты и головокружения, решая судьбу флота.
И вот тогда обнаружилась резкая разница между командами тяжелых линейных кораблей и командами миноносцев.
Команды линейных кораблей были так же малоподвижны и инертны, как и самые корабли. Они соглашались поднять на кораблях украинские флаги и остаться в Севастополе, лишь бы не ввязываться в походы, сражения и эвакуации. Они прикидывались, что не знают замыслов германского командования и искренне верят в то, что флот отойдет к "украинской державе". Они закрывали глаза на то, что во главе этой фальшивой державы стоит назначенный германским штабом гетман Скоропадский.
Команды миноносцев – стремительных и поворотливых кораблей – требовали защищать революционный Севастополь от немцев до последней капли крови.
Когда командующий флотом Саблин отдал приказ готовиться к немедленной эвакуации, миноносцы отказались его выполнить, настаивая на том, чтобы дать немцам бой.
Но это было уже невозможно. Красногвардейские отряды, босые и голодные, откатывались к городу под напором немецких дивизий.
Флот стоял под парами и принимал на палубы отступавшие после боев отряды. Многие из этих отрядов толком не знали, с кем они сражались – с немцами или с украинцами, двигавшимися вместе с немцами к Севастополю.
Гетманская организация "Рада черноморской украинской громады" требовала, чтобы на кораблях и в городе были подняты желтоголубые украинские флаги. Командовавший немецкими войсками генерал Кош передал через украинских посредников, что он прекратит наступление только в том случае, если флот признает украинскую державу и подымет кормовые украинские флаги.
И вот, когда для всех, в том числе и для команд миноносцев, стало ясно, что участь города решена, на дредноуте "Воля" созвали митинг всего флота. Произошла жестокая схватка между командами дредноутов и миноносцев. До рассвета на "Воле", надрываясь, кричали ораторы.
Команды дредноутов решили поднять немедленно украинские флаги и ждать немцев. Команды миноносцев ушли с "Воли", собрались у себя в минной базе и постановили не сдавать своих кораблей немцам, не допустить, чтобы они были использованы для целей контрреволюции, и увести их в Новороссийск.
На следующий день, двадцать девятого апреля, линейные корабли подняли украинские флаги. Миноносцы подняли красные флаги и сигналы: "Позор и продажа флота!" На миноносцы перешли большевистские организации города. Минная эскадра решила уходить в Новороссийск в ночь на тридцатое апреля.
Команды дредноутов "Воля" и "Свободная Россия" подняли сигналы, что в случае попытки уйти из Севастополя они откроют по миноносцам огонь из башенных орудий.
На угрозу миноносцы ответили угрозой. Они пообещали дредноутам, что при первом же выстреле пойдут в минную атаку.
В эти дни тревог, смятений и боев над Севастополем и морем стояла тихая весна. Розовая мгла лежала по горизонту. В садах цвел миндаль. Море было необыкновенно прозрачно.
Над городом висела густая белая пыль, поднятая отступающими частями. Двадцать девятого апреля на кораблях и на берегу еще шумели бестолковые митинги, но по всей бухте уже разносился разноголосый крик команды, угроз, проклятий, свист пара и грохот лебедок.
К вечеру все стихло, только глухо гремели брашпили на миноносцах, выбиравших якоря.
Миноносцы, погасив огни, начали медленно вытягиваться из севастопольских бухт и выходить в море.
К двум часам ночи в бухтах наступила зловещая тишина. Миноносцы покинули обреченный и растерянный город. Только запах дыма, смешанный с запахом акаций, говорил, что в Северной бухте еще стоят под парами угрюмые дредноуты.
На следующий день Севастополь узнал, что, несмотря на подъем украинских флагов, немцы продолжают наступать.
Уход миноносцев отрезвил команды линейных кораблей. Украинские флаги были сорваны и вместо них подняты красные. Матросы дредноутов потребовали от Саблина немедленного увода кораблей в Новороссийск.
Немецкие разъезды появились около Инкермана. Немецкая артиллерия заняла высоты за Братским кладбищем.
В полночь все оставшиеся в Севастополе корабли начали сниматься с бочек и якорей и выходить в море. Темнота скрывала угрюмое передвижение судов. Внезапно на Северной стороне взлетели в небо немецкие боевые ракеты. Они осветили рейд. В это время первые корабли прошли узкий выход из севастопольских бухт и вытягивались в море.
Немцы открыли артиллерийский огонь. Дредноуты, не отвечая на него, спокойно и медленно вышли в море. Легкие немецкие снаряды не причинили им никакого вреда.
Команды двух миноносцев – "Гневного" и "Заветного", не успевших проскочить под обстрелом, – открыли кингстоны и потопили свои корабли в Севастопольской бухте.
Черноморский флот ушел в Новороссийск – последний в то время оплот Советской власти на берегах Черного моря.
Баранов пришел в Новороссийск вместе с миноносцами на одном из транспортов.
Начались бурные и скомканные, непонятные и тревожные дни в Новороссийске. Немцы требовали возвращения флота в Севастополь, угрожая в противном случае начать наступление на Москву. Немецкие самолеты кружились над флотом. Гражданская война бушевала в степях Кубани.
Новороссийск был наводнен беженцами, матросами с торговых пароходов, собравшимися здесь со всего Черного моря, красногвардейцами, военными моряками, пленными офицерами, сыпнотифозными и бандитами.
Скудные запасы хлеба и лежалых овощей были съедены в несколько дней.
Немецкие подводные лодки рыскали у самых ворот порта. Связи с Москвой почти не было. Можно было сноситься только по радио через несколько промежуточных станций, но этот способ был ненадежен.
Тысячи слухов волновали потрясенных всем происшедшим матросов. Командующий флотом Саблин вел неясную и двойственную политику.
Наконец пришел секретный телеграфный приказ из Москвы – ни в коем случае флот не возвращать немцам, а потопить его в Новороссийске.
Саблин сбежал, передав командование капитану Тихменеву.
Телеграммы из Москвы в Новороссийск о судьбе флота полны революционной логики и спокойствия. Их язык прекрасно передает содержание героической эпохи:
"Безвыходность положения побудила Председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина согласиться с необходимостью немедленного уничтожения флота".
"Совет Народных Комиссаров приказывает вам уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске.
Моряки должны понять, что правительство решается на эту страшную меру только потому, что другого исхода нет".
"Ввиду германского ультиматума правительство сочло себя вынужденным формально согласиться на возвращение судов в Севастополь. В этом смысле вам будет послан нешифрованный телеграфный приказ, но вы обязуетесь его не исполнять и считаться только с отданными выше предписаниями. Флот должен быть уничтожен".
Несмотря на совершенную ясность этого приказа, Тихменев разыгрывал простачка и жаловался, что он не может понять, чего хочет Совет Народных Комиссаров.
Тихменев оказался изменником. Он снесся с казачьим генералом Красновым и получил от него приказ сделать все возможное, чтобы флот был возвращен в Севастополь, где рано или поздно белые надеялись его захватить.

Во главе частей Красной Армии стояли мужественные и талантливые полководцы. Не все они дожили до победы. Но в песнях, стихах, сказаниях народ свято хранит память о славных героях. Таким полководцем был Щорс. В бою под Черниговом изобразил его на этой картине художник Н. Самокиш.
В то время флот привык решать все вопросы на митингах. Несмотря на приказ Совнаркома, Тихменев устроил во флоте голосование.
Большинство матросов высказалось за то, чтобы драться с немцами до последнего снаряда, часть – за потопление флота, и небольшая часть – за уход в Севастополь.
Тихменев, не считаясь с голосованием, приказал флоту готовиться к уходу в Севастополь и назначил день – семнадцатое июня.
Командир миноносца "Керчь" лейтенант Кукель отказался идти в Севастополь. Он сообщил всем судам флота, что команда его миноносца решила потопить "Керчь", выполнить приказ Совнаркома, но немцам не сдаваться. "Керчь" подняла на мачте сигнал: "Судам, идущим в Севастополь. Позор изменникам родины".
Буря зашумела во флоте. Один за другим корабли начали присоединяться к "Керчи".
Тихменев на "Воле" ушел ночью в Севастополь. Все командование потоплением флота принял на себя лейтенант Кукель.
– В ночь на восемнадцатое июня мы, – рассказывал Баранов, – потопили свой транспорт и съехали на берег. Город, несмотря на позднее время, был весь на ногах.
Толпы голодных, желтых людей бежали в порт, где при огнях и свете прожекторов с кораблей спешно снимали ценные приборы и орудия и грузили в вагоны.
Женщины голосили по обреченным на гибель кораблям, как по покойникам. Стоны, плач и проклятья неслись над гаванью. Хмурые матросы, стиснув зубы и не глядя друг другу в глаза, торопливо отклепывали якорные цепи и срывали корабельные антенны.
Толпа пыталась прорваться к миноносцам, стоявшим на швартовых и у пристаней, чтобы силой не дать их топить. Ее с трудом сдерживали цепи вооруженных матросов.
Жители воровских окраин подплывали к опустевшим кораблям на шлюпках и пытались грабить каюты. Их разгоняли ружейным огнем.
Нужна была величайшая выдержка, чтобы не поддаться массовой истерии, охватившей город. Флот погибал – величественный, славный своими революционными традициями Черноморский флот.
Миноносец "Лейтенант Шестаков" начал отводить на буксире разоруженные и пустые корабли на внешний рейд" в глубокое место залива. Чуть брезжил рассвет. Солнце еще не взошло над хребтом Варада.
Каждый из обреченных на гибель кораблей нёс на рее сигнал: "Погибаю, но не сдаюсь".
Когда на буксире тронулся с места дредноут "Свободная Россия" с красным флагом на стеньге, отчаяние толпы на берегу перешло в повальное сумасшествие.
Исступленно кричали дети, навзрыд плакали женщины и старые рыбаки.
Растерянные красногвардейцы даже не пытались удержать толпу, когда она бросилась к последнему оставшемуся у пристани миноносцу "Фидониси" и гроздьями повисла на швартовых, чтобы не позволить миноносцу отойти.
Все попытки оттеснить толпу и сбросить швартовы были бесполезны. Люди вцепились в канаты мертвой хваткой, их руки невозможно было разжать, а каждая минута промедления могла все погубить – в Новороссийске могла появиться немецкая эскадра.
Миноносец "Керчь" подошел полным ходом к "Фидониси", и на нем пробили боевую тревогу. Орудия миноносца были направлены на толпу. Лейтенант Кукель прокричал в мегафон, что по толпе будет немедленно открыт огонь, если она не отпустит швартовы.
Толпа отхлынула, и "Керчь" вывела из гавани "Фидониси" – последний из миноносцев погибавшей эскадры.
Весь флот уже стоял на внешнем рейде. Было около четырех часов дня.
"Керчь" развернулась и стала бортом к "Фидониси". Наступила глубокая тишина, как бы минута колебания. Потом мина шурша понеслась с "Керчи" и ударила в борт "Фидониси".
Глухой взрыв отозвался на берегах эхом отчаянных человеческих криков.
Вслед за "Фидониси" началось потопление всех остальных судов. На них открывали кингстоны, клинкеты и иллюминаторы, взрывали турбины.
Через полчаса весь флот, кроме дредноута "Свободная Россия", лежал на дне Новороссийской бухты.
Тогда "Керчь" подошла к "Свободной России". Это было около Дообского маяка.
Миноносец пускал мину за миной в дредноут, но корабль не хотел умирать. Мины или проходили под килем, или сворачивали в сторону. Только шестая мина вызвала на дредноуте взрыв, закрывший корабль дымом.
Когда дым рассеялся, команда "Керчи" увидела дредноут, пробитый насквозь.
Броневые плиты отвалились. Дредноут вздрагивал и медленно валился на правый борт.
Люди на "Керчи", обнажив головы, смотрели на агонию линейного корабля.
Страшный грохот и лязг донеслись с дредноута. То срывались в воду и обрушивались шлюпки, катера и орудия.
Поползли из своих гнезд гигантские броневые башни. Ломая борта с невыносимым скрежетом, они срывались в глубину, подымая крутые волны. Издали эти ползущие за борт башни, весящие около тысячи тонн, были похожи на опрокинувшихся на спину допотопных черепах.
Внутри корабля долго был слышен глухой гром срывающихся с фундаментов турбин и механизмов. Из кингстонов и клинкетов били высокие фонтаны воды.
Дредноут лёг вверх килем и медленно пошел на дно. На "Керчи" люди стояли, забыв о времени, смотрели на пузыри воздуха, вылетавшие из воды, и плакали.
Трудно понять неморяку величайшую трагедию и мужество моряков, потопивших родные корабли во имя революционного долга.
"Керчь" ушла в Туапсе и там ночью была потоплена командой. Перед гибелью миноносец дал радио:
"Всем. Погиб, уничтожив суда Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец "Керчь".
Баранов был на "Керчи" во время последнего рейса в Туапсе, но об этом он не любил рассказывать. На мой вопрос он ответил коротко:
– Погребальный был рейс.
Через двенадцать часов после гибели флота в Новороссийск ворвалась немецкая эскадра. Она застала мертвый пустой порт.








