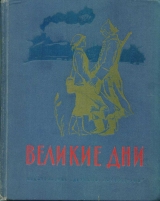
Текст книги "Великие дни. Рассказы о революции"
Автор книги: Гарри Гаррисон
Соавторы: Михаил Шолохов,Максим Горький,Константин Паустовский,Аркадий Гайдар,Юрий Герман,Валентин Катаев,Антон Макаренко,Александр Фадеев,Вадим Кожевников,Александр Серафимович
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Около крыльца заржала лошадь, второй в шинели крикнул злобно:
– Тю, проклятая!..
Звук удара и топот танцующих копыт.
Перед рассветом, в редеющей темноте, со двора Ивана Алексеева выехали двое конных и крупной рысью поскакали по дороге к казенному лесу.
* * *
Утром за завтраком почти не ел Алешка, сидел, не подымая глаз. Покосился хозяин подозрительно:
– Ты что не лопаешь?
– Голова болит.
Насилу дождался, пока кончится завтрак. Крадучись прошел на гумно, перемахнул через плетень – и рысью в контору. Ветром ворвался в комнату политкома Синицына, хлопнул дверью и стал у порога, придерживая руками барабанящее сердце.
– Откуда ты сорвался, Алешка?
Путаясь, рассказал Алешка про ночных гостей, про обрывки слышанного разговора. Очкастый выслушал, не проронив ни одного слова, потом встал, кинул Алешке ласково:
– Посиди тут… – и вышел.
С полчаса просидел Алешка в комнате очкастого. На окне сердито гудела оса, по полу шевелились пряди солнечного света. Услышав во дворе голоса, глянул в окно Алешка. У крыльца стояли: очкастый с двумя красноармейцами, а в средине хозяин Иван Алексеев. Борода у него тряслась и прыгали губы:
– По злобе наговорено вам…
– А вот увидим!..
Таким еще не видел Алешка очкастого: слились на переносице брови, из-под очков жестоко блестели глаза. Отомкнул дверь в кирпичном сарае, стал сбоку и к Ивану Алексееву строго так:
– Заходи!..
Пригибаясь, шагнул в сарай Алешкин хозяин. Хлопнула дверь за ним.
* * *
– Ну, вот гляди: так и так, потом – раз, два, и гильза выбрасывается. Вот сюда вставляется обойма…
Лязгает винтовочный затвор под рукою очкастого, смотрит он на Алешку поверх очков и улыбается.
Вечером дегтярной лужей застыла над станицей темнота, на площади возле церковной ограды цепью легли красноармейцы. Рядом с очкастым – Алешка. У винтовки Алешкиной пахучий ремень и от росы вечерней потное ложе…
В полночь на краю станицы, возле кладбища, забрехала собака, потом другая, и сразу волной ударил в уши дробный грохот копыт. Очкастый привстал на одно колено, целясь в конец улицы, крикнул:
– Ро-о-та… пли!..
Га-а-ах! Тах! Тах! Тах!..
За оградой вспугнутое эхо скороговоркой забормотало: ах-аха-ах!..
Раз и два двинул затвором Алешка; выбросил гильзу и снова услышал хриплое: "Рота, или!"
В конце широкой улицы – ругань, выстрелы, лошадиный визг. Прислушался Алешка – над головой тягуче-нудное: тю-тю-уть!..
Спустя минуту другая пуля чмокнулась в ограду на аршин повыше Алешкиной головы, облила его брызгами кирпича. В конце улицы редкие огоньки выстрелов и беспорядочный удаляющийся грохот лошадиных копыт. Очкастый пружинисто вскочил на ноги, крикнул:
– За мной!..
Бежали. У Алешки во рту горечь и сушь, сердце не умещается в груди. В конце улицы очкастый, споткнувшись об убитую лошадь, упал. Алешка, бежавший рядом с ним, видал, как двое впереди них прыгнули через плетень и побежали по двору. Хлопнула дверь. Громыхнула щеколда.
– Вот они! Двое забегли в хату!.. – крикнул Алешка.
Очкастый, хромая на ушибленную ногу, поравнялся с Алешкой.
Двор оцепили. Красноармейцы густо легли за кладбищенской огорожей, по саду за кустами влажной смородины: жались в канаве. Из хаты, из окон, заложенных подушками, сначала стреляли, в промежутки между хлопающими выстрелами слышалось хриплое матюкание и захлебывающиеся голоса, потом все смолкло.
Очкастый и Алешка лежали рядом. Перед рассветом, когда сырая темнота, клубясь, поползла по саду, очкастый, не подымая головы, крикнул:
– Эй вы там, сдавайтесь! А то гранату кинем!
Из хаты два выстрела. Очкастый взмахнул рукой:
– По окнам – пли!
Сухой, отчетливый залп. Еще и еще. Прячась за толстыми саманными стенами, те двое стреляли редко, перебегая от окна к окну.
– Алешка, ты меньше меня ростом, ползи по канаве до сарая, кинешь гранату в дверь… Иначе мы не скоро возьмем их… Вот это кольцо сдернешь и кидай, не медли, а то убьет!..
Отвязал очкастый от пояса похожую на бутылку штуку. Алешке передал. Изгибаясь и припадая к влажной земле, полз Алешка; сверху, над канавой, пули косили бурьян, поливали его знобкой росою. Дополз до сарая, сдернул кольцо, нацелился в дверь, но дверь скрипнула, дрогнула, распахнулась… Через порог шагнули двое; передний на руках держал девчонку лет четырех, в предутренних сумерках четко белела рубашонка холстинная, у второго изорванные казачьи шаровары заливала кровь; стоял он, голову свесив набок, цепляясь за дверной косяк.
– Сдаемся! Не стрелять! Дите убьете!
Увидал Алешка, как из хаты к порогу метнулась женщина, собой заслонила девочку, с криком заламывая руки; назад оглянулся – очкастый привстал на колени, а сам белее мела; по сторонам глянул.
Понял Алешка, что ему надо делать. Зубы у Алешки большие и редкие, а у кого зубы редкие, у того и сердце мягкое. Так говорила, бывало, Алешкина мать. На гранату блестящую, на бутылку похожую, лёг он животом, лицо ладонями закрыл…
Но очкастый метнулся к Алешке, пинком ноги отбросил его, с перекошенным ртом мгновенно ухватил гранату, швырнул ее в сторону. Через секунду над садом всплеснулся огненный столб, услышал Алешка грохочущий гул, стонущий крик очкастого и почувствовал, как что-то вонюче-серое опалило ему грудь, а на глаза навалилась густая колкая пелена.
* * *
Когда очнулся Алешка, увидал над собою зеленое – от бессонных ночей – лицо очкастого.
Попробовал Алешка приподнять голову, но грудь обожгло болью, застонал, засмеялся.
– Я живой… не помер…
– И не помрешь, Леня!.. Тебе помирать теперь нельзя. Вот гляди!..
В руке очкастого билет с номером; поднес к Алешкиным глазам, читает:
– Член РКСМ, Попов Алексей… Понял, Алешка?.. На полвершка от сердца попал тебе осколок гранаты… А теперь мы тебя вылечили, пускай твое сердце еще постучит – на пользу рабоче-крестьянской власти.
Жмет очкастый руку Алешке, а Алешка под тусклыми, запотевшими очками увидал то, чего никогда раньше не видал: две небольшие серебристые слезинки и кривую, дрожащую улыбку.
1925
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ
СОН

Сон есть треть человеческой жизни. Однако наукой до сих пор не установлено, что такое сон. В старом энциклопедическом словаре было написано:
"Относительно ближайшей причины наступления этого состояния можно высказать только предположения".
Я готов был закрыть толстый том, так как больше ничего положительного о сне не нашел. Но в это время я заметил в соседней колонке несколько прелестных строчек, посвященных сну:
"Сон искусством аллегорически изображается в виде человеческой фигуры с крыльями бабочки за плечами и маковым цветком в руке".
Наивная, но прекрасная метафора тронула мое воображение.
Мне хочется рассказать один поразительный случай сна, достойный сохраниться в истории.
Тридцатого июля 1919 года расстроенные части Красной Армии очистили Царицын и начали отступать на север. Отступление это продолжалось сорок пять дней. Единственной боеспособной силой, находившейся в распоряжении командования, был корпус Семена Михайловича Буденного в количестве пяти с половиной тысяч сабель. По сравнению с силами неприятеля количество это казалось ничтожным.
Однако, выполняя боевой приказ, Буденный прикрывал тыл отступающей армии, принимая на себя все удары противника.
Можно сказать, это был один бой, растянувшийся на десятки дней и ночей. Во время коротких передышек нельзя было ни поесть как следует, ни заснуть, ни умыться, ни расседлать коней.
Лето стояло необычайно знойное. Бои происходили на сравнительно узком пространстве – между Волгой и Доном. Однако бойцы нередко по целым суткам оставались без воды. Боевая обстановка не позволяла отклониться от принятого направления и потерять хотя бы полчаса для того, чтобы отойти на несколько верст к колодцам.
Вода была дороже хлеба. Время – дороже воды.
Однажды, в начале отступления, им пришлось в течение трех суток выдержать двадцать атак.
Двадцать!
В беспрерывных атаках бойцы сорвали голос. Рубясь, они не в состоянии были извлечь из пересохшего горла ни одного звука.
Страшная картина: кавалерийская атака, схватка, рубка, поднятые сабли, исковерканные, облитые грязным потом лица – и ни одного звука…
Вскоре к мукам жажды, немоты, голода и зноя прибавилась еще новая – мука борьбы с непреодолимым сном.
Ординарец, прискакавший в пыли с донесением, свалился с седла и заснул у ног своей лошади.
Атака кончилась.
Бойцы едва держались в седлах. Не было больше никакой возможности бороться со сном.
Наступал вечер.
Сон заводил глаза. Веки были как намагниченные. Глаза засыпали. Сердце, налитое кровью, тяжелой и неподвижной, как ртуть, затихало медленно, и вместе с ним останавливались и вдруг падали отяжелевшие руки, разжимались пальцы, мотались головы, съезжали на лоб фуражки.
Полуобморочная синева летней ночи медленно опускалась на пять с половиной тысяч бойцов, качающихся в седлах, как маятники.
Командиры полков подъехали к Буденному. Они ждали распоряжения.
– Спать всем, – сказал Буденный, нажимая на слово "всем", – приказываю всем отдыхать.
– Товарищ начальник… А как же… А сторожевые охранения? А заставы?
– Всем, всем…
– А кто же?.. Товарищ начальник, а кто же будет…
– Буду я, – сказал Буденный, отворачивая левый рукав и поднося к глазам часы на черном кожаном браслете.
Он мельком взглянул на циферблат, начинавший уже светиться в наступающих сумерках дымным фосфором цифр и стрелок.
– Всем спать, всем без исключения, всему корпусу, – весело повышая голос, сказал он. – Дается ровно двести сорок минут на отдых.
Он не сказал: четыре часа. Четыре часа – это было слишком мало. Он сказал: двести сорок минут. Он дал максимум того, что мог дать в такой обстановке.
– И ни о чем больше не беспокойтесь, – прибавил он. – Я буду охранять бойцов. Лично. На свою ответственность. Двести сорок минут и ни секунды больше. Сигнал к подъему – стреляю из револьвера.
Он похлопал по ящику маузера, который всегда висел у него на бедре, и осторожно тронул шпорой потемневший от пота бок своего рыжего донского коня Казбека.
Один человек охранял сон целого корпуса. И этот один человек – командир корпуса. Чудовищное нарушение воинского устава. Но другого выхода не было. Один – за всех, и все – за одного. Таков железный закон революции.
Пять с половиной тысяч бойцов, как один, повалились в роскошную траву балки.
У некоторых еще хватило сил расседлать и стреножить коней, после чего они заснули, положив седла под голову.
Остальные упали к ногам нерасседланных лошадей и, не выпуская из рук поводьев, погрузились в сон, похожий на внезапную смерть.
Эта балка, усеянная спящими, имела вид поля битвы, в которой погибли все.
Буденный медленно поехал вокруг лагеря. За ним следовал его ординарец, семнадцатилетний Гриша Ковалев. Этот смуглый мальчишка еле держался в седле; он клевал носом, делая страшные усилия поднять голову, тяжелую, как свинцовая бульба.
Так они ездили вокруг лагеря, круг за кругом, командир корпуса и его ординарец – два бодрствующих среди пяти с половиной тысяч спящих.
В ту пору Семен Михайлович был значительно моложе, чем теперь. Он был сух, скуласт, очень черен, с густыми и длинными усами на почти оранжевом от загара, чернобровом крестьянском лице.
Объезжая лагерь, он иногда, при свете взошедшей луны, узнавал своих бойцов и, узнавая их, усмехался в усы нежной усмешкой отца, наклонившегося над люлькой спящего сына.
Вот Гриша Вальдман, рыжеусый гигант, навзничь упавший в траву, как дуб, пораженный молнией, с седлом под запрокинутой головой и с маузером в пудовом кулаке, разжать который невозможно даже во сне. Его грудь широка и вместительна, как ящик. Она поднята к звездам и ровно подымается и опускается в такт богатырскому храпу, от которого качается вокруг бурьян. Другая богатырская рука прикрыла теплую землю, – поди попробуй отними у Гриши Вальдмана эту землю!
Вот спит как убитый Иван Беленький, донской казак, с чубом на глазах, и под боком у него не острая казачья шашка, а меч, старинный громадный меч, реквизированный в доме помещика, любителя старинного оружия. Сотни лет висел тот меч без дела на персидском ковре дворянского кабинета. А теперь забрал его себе донской казак Иван Беленький, наточил как следует быть и орудует им в боях против белых. Ни у кого во всем корпусе нет таких длинных и сильных рук, как у Ивана Беленького. И был такой случай. Пошел как-то Иван Беленький в богатый хутор за фуражом для своей лошади. Просит продать сена. Хозяйка говорит:
– Нету. Одна копна только и осталась.
– Да мне немного, – говорит жалобно Иван Беленький, – мне только коняку своего покормить, одну только охапочку.
– Ну что же, – говорит хозяйка, – одну охапочку, пожалуй, возьми.
– Спасибо, хозяйка.
Подошел Иван Беленький, донской казак, к копне сена, да и взял ее всю в одну охапку. Ахнула хозяйка: сроду не видала она таких длинных рук. Однако делать нечего. А Иван Беленький крякнул и понес копну к себе в лагерь. Что с ним по дороге случилось, неизвестно, только вдруг прибегает он без сена в лагерь ни жив ни мертв. Руки трясутся, зуб на зуб не попадает. Ничего сказать не может…
– Что с тобой, Ваня?
– Ох… и не спрашивайте. До того я перепугался… ну его к черту!..
Остолбенели и бойцы: что же это за штука такая, если самый неустрашимый боец Ваня Беленький испугался?..
А он стоит и прийти в себя не может.
– Ну его к черту!.. Напугал меня проклятый дезинтер, чтобы ему сгореть на том свете!
– Да что такое? Кто такой?
– Да говорю ж – дезинтер… Как я взял тое проклятое сено, чтоб оно сгорело, как понес, а оно в середке как затрепыхается… туды его в душу, дезинтер проклятый!
Оказалось, в сене прятался дезертир. Его вместе с копной и понес Иван Беленький. По дороге дезертир затрепыхался в сене, как мышь, выскочил и чуть до смерти не напугал неустрашимого бойца Беленького.
Ну и смеху было!
И опять нежно и мужественно усмехнулся Буденный, осторожно проезжая над головой бойца своего Ивана Беленького, над его острым мечом, зеркально отразившим полную голубую луну.
Шла ночь. Передвигались над головой звездные часы степной ночи. Скоро время будить бойцов.
Вдруг Казбек остановился и поднял уши. Буденный прислушался. Буденный поправил свою защитную фуражку, подпаленную с одного бока огнями походных костров.
По верху балки пробиралось несколько всадников. Одна за другой их тени закрывали луну. Буденный замер. Всадники спустились в лагерь. Ехавший впереди остановил коня и нагнулся к одному из бойцов, который, немного не доспав до положенного срока, уже переобувался перед сумрачно рдеющим костром. У всадника в руке была папироса. Он хотел прикурить.
– Эй, – сказал всадник, – какой станицы? Подай огня!

Славным боевым делам Первой Конной армии художник Б. Греков посвятил целую галерею картин. На его полотнах запечатлены походы, битвы советских конников, их боевой быт. Один из боевых эпизодов изображен на картине «Ночная разведка».
– А ты кто такой?
– Не видишь?
Всадник наклонил к бойцу плечо. Полковничий погон блеснул при свете луны. Все ясно. Офицерский разъезд наехал впотьмах на красноармейскую стоянку и принял ее за своих. Значит, белые близко. Терять время нечего. Буденный осторожно выехал из темноты и поднял маузер. В предрассветной тишине хлопнул выстрел. Полковник упал. Бойцы вскочили. Офицерский разъезд был схвачен.
– По коням! – закричал Буденный.
Через минуту пять с половиной тысяч бойцов уже были верхом. А еще через минуту вдали в первых лучах степного росистого солнца встала пыль приближавшейся кавалерии белых. Семен Михайлович приказал разворачиваться. Заговорили три батареи четвертого конноартиллерийского дивизиона. Начался бой.
…Вспоминая об этом эпизоде, Семен Михайлович сказал однажды, задумчиво улыбаясь:
– Да. Пять с половиной тысяч бойцов, как один человек, спали вповалку на земле. Вот стоял храп так храп! Аж бурьян качался от храпу!
Он прищурился на карту, висевшую на стене, и с особенным удовольствием повторил:
– Аж бурьян качался!
Мы сидели в кабинете Буденного в Реввоенсовете. За окном шел деловитый московский снежок.
Я представил себе замечательную картину. Степь. Ночь. Луна. Спящий лагерь. Буденный на своем Казбеке. И за ним, в приступе неодолимого сна, трясется чубатый смуглый мальчишка с пучком вялого мака за ухом и с бабочкой, заснувшей на пыльном горячем плече.
1933
ЛЕОНТИЙ РАКОВСКИЙ
ФРОНТОВАЯ АЗБУКА

I
Апрельским утром в Перво-Константиновку вошли красные казаки дивизии Примакова.
За последние полгода жители села уже привыкли к военным постоям. Перво-Константиновку занимали и белые и красные. Но теперь белых накрепко прижали к самому Перекопу.
Вошедшая в село "Червоная" казачья бригада разместилась на всегдашних, обжитых всеми постояльцами, местах: штаб занял половину поповского дома с окнами, выходящими в сад. А казаки заполонили своими конями и тачанками широкий двор школы, стоявшей на краю Перво-Константиновки. Коновязи, устроенные сразу же за школьным забором, охватили школу с трех сторон. Всюду были кони и кони, кони и люди.
В школу конники внесли седла, вьюки, шинели, подсумки, винтовки. В классе сразу запахло сыромятью сбруи, конским и человечьим потом, махоркой и порохом.
Парты сбили в один угол, поставив их друг на дружку. Видавшую виды, уже порядком порыжевшую черную классную доску придвинули к самой печке.
Передвигать ее взялись двое: безусый молодой казак Дубовик и седой сутуловатый Костенко.
– Глянь: на доске что-то написано, – заметил молодой.
– Разве не видишь что? Написано: "Да здравствует…" – ответил пожилой.
– А это о ком же? Кто – "да здравствует"?
– Неизвестно: дальше, видишь, стерто. Может, еще врангелевцы написали. А ты что, хлопец, читать не умеешь? – удивился Костенко.
– Да я неграмотный, – потупился молодой.
– Почему?
– Не вышло учиться. Батю на фронте герман убил. Мы остались с маткой. Не до школы тут. А ты, дядя, может, еще и писать умеешь?
– Умею.
– А ну напиши что-нибудь, – попросил Дубовик и протянул товарищу огрызочек мела, лежавший в желобке доски.
Костенко взял мел и, старательно выводя букву за буквой, написал: "Смерть буржуям".
– Что ты написал? – смотрел то на доску, то на товарища Дубовик.
– Смерть буржуям, – подсказал кто-то из конников.
– Смерть буржуям, – повторил Костенко.
– Вот это – да! Правильно! – улыбался довольный Дубовик. – А почему так долго писал про смерть?
– А что?
– Да смерть – она ведь короткая…
– Ну не скажи, брат. Смотря какая смерть. Ежели беляк рубанет тебя, как полагается, с потягом, и рассечет тебя, ровно кочан капусты, пополам, это одно. А ежели ткнет пикой в печенки-селезенки, намаешься, пока помрешь…
– Костенко неверно написал, – подошел к ним веснушчатый казак. – Тут надо вот еще что. – И он поставил после слов "Смерть буржуям" восклицательный знак.
– А это что такое? – смотрел на обоих грамотеев Дубовик.
– Это восклицательный знак. Он означает: говорю от чистого сердца, – объяснял веснушчатый.
– Так, так, – соглашался Дубовик, хотя ничего не понимал.
– А есть, брат, еще знак вопросительный. Он вот как пишется, – сказал веснушчатый и изобразил на доске крючок.
– А вопросительный зачем? Когда, стало быть, еще неясно: помрет человек или нет? – спросил Дубовик.
– Да не то! Знак вопросительный не обязательно ставится, когда говорят о смерти. Можно и в жизни его приспособить. Например, я спрашиваю: "Дубовик, кто у тебя родился – сын или дочь?"
– Чудно! – хохотал неженатый Дубовик, мотая головой. – Хоро шо это – быть грамотным!
– Ну как устроились, товарищи? – спросил, входя в класс, комдив Примаков.
Комдив был удивительно молод – чуть постарше двадцати лет, – бритоголов и быстр.
За ним шел такой же молодой, только отпустивший широкую черную бороду, комиссар и по-настоящему старенький, в очках и линялой сатиновой рубашке, здешний учитель Петр Семенович, которого в селе звали просто "Семенычем".
– Устроились на славу!
– Подходяще устроились, товарищ комдив! – весело отвечали из разных углов конники.
– Будьте осторожны, товарищи, с окнами, не разбить бы стекол. Парт не ломайте – ребятишки по осени сядут за них учиться, – говорил комдив, оглядывая класс.
– Хорошо, что парты составлены в угол, – одобрительно заметил учитель, озабоченно смотревший на свое школьное имущество.
– Товарищ комдив, а вот мне еще за партой не довелось ни разу сидеть. Как бы это и нам немножко подучиться грамоте, – несмело обратился к Примакову Дубовик. – Пока наша бригада находится в лезерве, можно было бы… Пусть бы товарищ учитель позанимался с нами…
Дубовика со всех сторон поддержали красные казаки:
– Верно! Хорошо бы хоть трошки подучиться!
– А то ни карту тебе прочитать, ни какой документ…
– К тому же теперь школа не работает, и товарищ учитель свободен!
Старик учитель стоял, смущенно улыбаясь.
– Что ж, по-моему, хлопцы говорят дело, – оживился комдив, глядя на комиссара. – У них есть несколько дней – потом надо будет сменять вторую бригаду у хутора Преображенского. Попросим Петра Семеновича помочь нам. Верно?
– Попросим, – согласился комиссар.
– Я с полным удовольствием, – сказал Петр Семенович. – Только как же они будут учиться, если вон пушки палят?
– А мы, дорогой товарищ, до пушек привычные, – ответил за всех Костенко. – Под пушками мы не только что, а даже спимо!..
– Да, пушки нам нипочем, – улыбнулся Примаков. – Научите их чтению и четырем правилам арифметики!
– Вот-вот, товарищ комдив, и в этой самой арихметике мы тоже не очень, – признался Дубовик.
– Времени маловато, товарищ комдив, – почесал затылок учитель.
– А мы устроим, так сказать, вроде ускоренного выпуска, – улыбался Примаков. – У них не будет никакой службы, никакой работы, кроме азбуки.
– Постараюсь, товарищ комдив. Могу заниматься хоть целый день.
– Вот это хорошо! – потирал руки обрадованный Дубовик.
– Значит, Петр Семенович, с завтрашнего утра и начнем?
– Начнем, товарищ комдив, – ответил учитель.
– Знаете, я так люблю школу, – сказал Примаков, выходя с Петром Семеновичем из класса. – Мой отец был сельским учителем на Черниговщине. Я и сам, когда приезжал из гимназии на каникулы, помогал отцу. И до сих пор помню эти слоги в букваре: "Маша ела кашу…"
2
На следующий день школьный двор напоминал полковое собрание – был полон конниками. Погода стояла теплая, солнечная, и учитель, посовещавшись с комдивом Примаковым, решил устроить занятия прямо под открытым небом. Тем более, что класс не вместил бы всех желающих. Да в классной комнате было бы и несподручно работать: ученики повыросли из этих ребячьих парт.

«…О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные…» – пелось в знаменитой песне о буденовцах. Один из таких ненастных дней изображен на картине художника Б. Грекова «Переправа у реки Чир».
Дубовик, ни разу не имевший удовольствия сидеть за партой, примерился было сесть, но чуть втиснулся за парту со своей шашкой и подсумками. Он сидел, и его лицо сияло от счастья.
Дрібен дощик іде,
А я в ямці сижу.
Не рухайте мене, хлопці,
Бо я мамці скажу!
Но веснушчатый озорной казак гаркнул над ухом:
– Встать, смирно-о!
Дубовик, затарахтев шашкой, с трудом поднялся из-за парты.
Конники потешались над ним:
– Твое счастье, что парта одна, а если бы стояла в рядах, ни за что бы ты не выбрался!
– Нет, лучше сидеть на чем стоишь, чем за этой штуковиной! – смеялся и сам Дубовик, оглядываясь на парту.
Красные казаки очистили на дворе место, поставили стол и школьную доску, а сами разместились прямо на земле: кто сел, поджав по-турецки ноги, кто прислонился к плетню. Лучше всех устроились пулеметчики: они сидели на своих тачанках. Сверху им было хорошо видно.
Занятия начались сразу же после чистки лошадей и завтрака. В назначенный час во двор вошел учитель. Вчера все видели его в старенькой черной косоворотке, а сегодня на Семеныче был пиджак, а на голове соломенная шляпа – солнце припекало порядком.
Из школы на крыльцо вместе с учителем вышел инструктор политотдела дивизии, светлоглазый, с журавлиной шеей, Виктор Горшков.
Увидев их, Дубовик, который сам вызвался дежурить, зычно скомандовал:
– Смирно-о!
Загремев ножнами сабель, казаки встали.
Учитель оторопело остановился на ступеньках крыльца. Он оглянулся на инструктора политотдела, не зная, к кому относится вся эта честь, и не зная, что делать ему дальше.
Но Виктор Горшков и не подумал сходить с крыльца.
– Это вам. Теперь вы у них начальник, – вполголоса сказал Семенычу инструктор политотдела и поспешил юркнуть за дверь, в сени.
Старый учитель, смущенно улыбаясь, пошел к столу, махая снятой шляпой:
– Садитесь, товарищи, садитесь!
И когда эти необычные ученики наконец уселись, начал свой первый фронтовой урок.
3
Уже солнце сошло с полудня, когда комдив Примаков вернулся в Перво-Константиновку. Он ездил в свою дежурную вторую бригаду. Бригада красных казаков стояла у хутора Преображенского и занимала фронт от Черного моря до Сиваша. Ее задачей было наблюдать за Перекопским валом, за которым укрепился – и думал, что сидит в полной безопасности, – барон Врангель.
Вернувшись к себе в штаб дивизии, Примаков тотчас же спросил у комиссара, как идут занятия у Петра Семеновича.
– Занимаются усердно, Виталий Маркович, – ответил комиссар.
И он рассказал, как проходит обучение грамоте.
Накануне учитель с помощью инструктора политотдела дивизии заготовил большие буквы. Их намалевали тушью на картоне и оберточной бумаге. Семеныч по многолетней привычке начал урок с обычных, самых легких, знакомых слов: "ма-ма", "па-па". Он не учел того, что у многих его бородатых и седых учеников "мамы" давно нет и что большинство этих конников сами стали "папами".
– Как же Семеныч не сообразил, что "мама" и "папа" уже не годятся для наших "студентов"? – сказал Примаков.
– Казаки, Виталий Маркович, так ему сразу же и выложили. Нам, говорят, не худо бы читать какие-либо другие слова. Семеныч быстро нашелся. Взял для складывания новые слоги: "же-на", "де-ти".
– Это уже ближе к действительности. Но можно бы еще лучше. Ему подскажут, я в этом уверен! – говорил Примаков.
– Не знаю, как после обеда, а до обеда он обходился этими словами.
– А Семеныча накормили обедом? – забеспокоился комдив. – У него дома, поди, негусто после врангелевского постоя?
– У нас, Виталий Маркович, тоже нынче постные щи. Но не беспокойтесь – наш рыжий Алей постарался для Семеныча: он сам хочет учиться грамоте, – улыбаясь, рассказывал комиссар о штабном поваре-татарине.
– Ну что ж, пойдем посмотрим, как идет учеба, – предложил Примаков.
И они пошли к школе.
Чтобы не смущать ни учителя, ни учеников, комдив с комиссаром стали у коновязей и прислушались.
Семеныч уже учил складывать еще более понятные всем, подходящие к моменту, близкие слова: "На-род", "Ле-нин".
– Вот видите, товарищ комиссар, учитель знает, о ком надо говорить, – удовлетворенно сказал комдив Примаков. И, уходя от коновязей, прибавил: – Беляки в свободное время грабят жителей, а мы в свободное время – учимся грамоте!
1964








