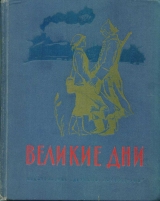
Текст книги "Великие дни. Рассказы о революции"
Автор книги: Гарри Гаррисон
Соавторы: Михаил Шолохов,Максим Горький,Константин Паустовский,Аркадий Гайдар,Юрий Герман,Валентин Катаев,Антон Макаренко,Александр Фадеев,Вадим Кожевников,Александр Серафимович
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
БОРИС ЛАВРЕНЕВ
ДВОРЕЦ КШЕСИНСКОЙ

С вокзала Андрей поехал на Петроградскую сторону. Трамвай шел, гремя и раскачиваясь. Мелькали дома, люди на тротуарах. Андрей цепко держал на коленях свой вещевой мешок с драгоценным грузом и разглядывал город.
Петроград облысел и потускнел за двухлетнее отсутствие Андрея. Дома казались потемневшими, ободранными и жалкими.
Что первым бросалось в глаза и что удивило Андрея – было обилие военных. Когда два года назад он уезжал на фронт, население Петрограда было еще обычным. Человек в военной форме попадался на улице редко, и Андрей даже радовался этому, потому что каждый военный мог оказаться офицером, а зевок в отдании чести мог привести к неприятностям.
Сейчас тротуары были густо закрашены цветом хаки. Это был почти основной цвет человеческой одежды. Солдаты, юнкера, офицеры вкрапливались в толпу целыми косяками. Андрей подумал: «Если бы не революция, так надо было б ходить, не отдирая руку от козырька, чтобы не вляпаться».
Он усмехнулся. Все эти беды, связанные с солдатским положением, провалились в тартарары и никогда больше не возникнут.
Он перевел взгляд на публику в вагоне. У двери, напирая коленями на вещевой мешок, стояла хорошенькая розовая девушка. Встретив любующийся взгляд Андрея, она еще больше порозовела и чуть улыбнулась уголком губ. Андрей тоже покраснел и отвел глаза от девушки и в ту же секунду насторожился. Рядом с девушкой торчал долговязый субъект в коротеньком пиджачке, из рукавов которого выпирали длинные кисти с худыми грязноватыми пальцами. У субъекта были белесые воровские глаза, и он пристально смотрел на мешок Андрея. Андрей нахмурился и на всякий случай подтянул мешок поближе к груди. Солдаты, приезжавшие в полк из Петрограда, рассказывали, что в городе развелось видимо-невидимо ворья.
А в мешке было целое сокровище. Когда в окопах получилась «Правда» с призывом редакции к рабочим и солдатам помочь материально своей большевистской газете, большевики дивизии созвали митинг. На митинге целым лесом рук приняли резолюцию – отдать «Правде» георгиевские кресты и медали. У снарядного ящика, изображавшего трибуну, сели члены большевистской фракции дивизионного комитета записывать сносимые солдатами регалии. К вечеру в списке значилось девятьсот тридцать крестов и медалей, из них больше сотни золотых.
Наутро Андрей выехал в Петроград, командированный комитетом, напихав кресты и медали в мешок. Вес оказался солидный, больше пуда. В вагоне Андрей спал, положив мешок под голову. Было неудобно, проклятые кресты сквозь брезент старались проколоть затылок своими углами, но пришлось терпеть. Оставлять такой груз на багажной полке было рискованно. Комитет дал Андрею наказ сдать собранные ценности в Петроградский комитет партии.
Трамвай глухо гремел по настилу Троицкого моста. Синяя Нева медленно и величественно катилась под устои. Белые огромные облака висели над Петроградской стороной. Андрей встал и выбрался на площадку. Трамвай летел, визжа, с уклона. Остановка. Андрей соскочил с подножки" вскинул на спину мешок и двинулся к дворцу Кшесинской. Дорогу спрашивать не приходилось. Андрей знал Петроград, как свою ладонь. Но едва он отошел несколько шагов от остановки и кинул взгляд на издавна знакомый облицованный изразцами невысокий особняк за темной зеленью бульвара, как остановился в недоумении и тревоге. Вся мостовая на проезде бульвара и самый бульвар были заполнены несметной толпой, глухо гудевшей и колыхавшейся. То тут, то там над головами поднимались отдельные люди. Они размахивали руками, били себя в грудь. Видимо, кричали, но крика за общим гулом не было слышно.
Андрей растерялся. Он привык к совершенной безлюдности этого проезда. Он запомнил это с детства. Против особняка всегда стоял огромный городовой, весь в медалях, охраняя покой стареющей любовницы императора. Здесь запрещалось проезжать наемным извозчикам и нельзя было останавливаться на тротуаре. Андрей всматривался. В чем дело? Почему такая толпища? Может быть, какая-нибудь беда?.. Нагрянули юнкера или еще какая-нибудь сволочь.
Но тогда нельзя соваться в дом. Заберут или отдуют в лучшем случае, но главное – кресты отнимут. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Андрей стоял посреди мостовой, не зная, на что решиться. К нему подошел невзрачный мужчина с красной повязкой на рукаве, украшенной буквами "ПНМ", – милиционер. На ремне у него ненужно висела ободранная винтовка. Милиционер поглядел на Андрея и осторожно спросил:
– Разыскиваете кого, товарищ?
Андрей в секунду оценил милиционера. Нет, не шпик. И, оценив, решительно спросил:
– Чего это там тамаша такая? Кого раздавили или карманника поймали?
Милиционер хмуро покосился в сторону дворца и с раздражением сказал:
– Ты с неба свалился, солдатик, что ли? Это ж дворец Кшесинской… Тут большевики засели. И народу толчется гибель. Самый беспокойный пост – того и гляди, стрелять начнут.
Андрей усмехнулся. Значит, все благополучно и можно идти. Он кивнул милиционеру. И в ту же минуту услышал автомобильный гудок за спиной. Он обернулся. По натертым, пахнущим смолой торцам бесшумно шла большая, блестящая, новехонькая машина, так непохожая на облупленные фронтовые развалины. Над радиатором ее вился цветной красивый флажок. В автомобиле Андрей различил девушку в форме сестры милосердия, пожилую даму и господина с нерусским длинным лицом, со свислыми блеклыми усами. На голове у господина блестел мягко и тепло атласный плюш цилиндра. Машина шла очень медленно, и Андрей увидел, как господин, взглянув на дворец балерины, брезгливо поджал губы и что-то сказал девушке, видимо злое и насмешливое. В пустых глазах девушки тоже вспыхнула злоба, смешанная с испугом. Машина прошла. Андрей сразу понял седоки злы и боятся этой толпы и этого дома. Ему стало весело.
– Щекочет буржуев, – сказал он милиционеру, кивая на дом. – Видал, как морду перекосило?
– Ему чего, – лениво ответил милиционер, – его дело стороннее. Это английский посол. Каждый день тут на прогулку к островам ездит.
Андрей втиснулся в толпу у дома и, работая локтями, стал продираться к парадной двери. На него огрызались и шипели, но он отмалчивался и упорно пробивался вперед. На крыльце его остановил высокий парень, по виду рабочий, откуда-нибудь с Выборгской стороны. На поясе у него висел наган. Андрей вынул из кармашка гимнастерки мандат. Парень прочел и приветливо улыбнулся.
– Валяй! Хорошее дело. В зало зайдешь, там кого-нибудь спросишь.
Андрей пошел в вестибюль. Здесь была такая же толчея, как и на улице. По лестнице носились люди с кипами бумаг в руках. Они прыгали через три ступеньки. Спросить их о чем-нибудь было невозможно. Пока Андрей выговаривал первое слово вопроса – встречные уносились вихрем и на смену им пролетали новые. Здесь не жили, а кипели. Это был дом, яростно ненавидимый буржуазией и военщиной и беззаветно любимый рабочими и солдатами Петрограда. Одни проходили мимо, сжимая кулаки и мечтая о часе, когда можно будет уничтожить это проклятое гнездо. Другие шли сюда, как домой, со своими нуждами и печалями, со всеми недоуменными вопросами, которых так много ставила перед ними революция. Сюда шли с фабрик и заводов Васильевского острова и Выборгской стороны, из-за Обводного канала, с Лиговки и Волкова, с Голодая и из порта, из казарм бронедивизиона и гренадеров, из кирпичной тюрьмы балтийского экипажа. Шли с резолюциями, с требованиями, по делу и просто так, чтобы потолкаться в этих кипящих комнатах и вдохнуть воздух, пахнущий бодростью и бурей. Сюда привезли на броневике с Финляндского вокзала Ленина, который, не отдохнув, бросился в бой. Сюда по ночам стреляли в освещенные окна из-за верков Петропавловской крепости. Сюда приходили анонимные письма, полные бешенства и страха. Здесь был главный штаб начинавшейся величайшей войны пролетариата.
Андрей втиснулся в белый светлый зал, заднюю стенку которого составляло сплошное окно зимнего сада. Тут было немного попросторней, но та же беготня. В зале стояло несколько столов. Сидевшие за ними были густо обложены посетителями. Все шумело, гудело, наполняло зал немолчным голосом. Андрей растерянно озирался, не зная, к кому подойти; у кого спросить. В эту минуту из боковой двери вышел человек невысокого роста, в сером костюме, держа в руке листок бумаги. Шел он неторопливо, не так, как другие. Губы его под небольшими усами шевелились, как будто он читал про себя написанное на листке. Лицо его показалось Андрею странно знакомым. Человек остановился в двух шагах от Андрея и, подняв голову, обвел взглядом суматоху зала. Андрей воспользовался его остановкой и спросил:
– Слушайте, товарищ. Куда мне сунуться? Я с фронта приехал. Привез кресты дивизии для кассы "Солдатской правды". А тут такая толчея, что не знаешь, куда руки-ноги девать.
Человек прищурился, разглядывая Андрея с мягкой улыбкой.
– Много крестов? – спросил он, заглатывая букву "р".
Андрей брякнул мешком об пол. Обеспокоенные "георгии" ответили дребезгом.
– За девятьсот. Пудик с гаком.
Человек в сером костюме засмеялся.
– Это хорошо… Целый банк в мешке. Пойдемте.
Он взял Андрея за руку и провел на возвышение зимнего сада. У стеклянной стенки сидел за столом плотный, опушенный круглой бородкой, с добрыми и усталыми серыми глазами, добродушно и терпеливо отвечая на вопросы толпившихся у стола солдат. Человек в сером подвел Андрея к столу.
– Михаил Васильевич, – сказал он, – примите товарища. Он с фронта. Привез кресты, пожертвованные товарищами солдатами для "Солдатской правды". Целый мешок. Примите и поговорите с ним о фронтовых делах.

Вот он, тот апрельский вечер, с которого начался новый этап русской революции. На картине художника К. Аксенова «Приезд В. И. Ленина в Россию» запечатлен приезд Владимира Ильича в Петроград из эмиграции 3 апреля 1917 года. С вершины броневика, окруженный тысячами рабочих и солдат, Владимир Ильич провозглашает: «Вся власть Советам! Да здравствует социалистическая революция!»
Сидевший за столом спросил Андрея, откуда он, какой дивизии, давно ли приехал. Удивился мешку и приказал поставить его у окна.
– А не сопрут? – усомнился Андрей.
– Нет. Пока я сижу, будьте спокойны, – засмеялся Михаил Васильевич, продолжая расспрашивать Андрея.
Андрей отвечал спокойно и точно. Михаил Васильевич записал некоторые ответы Андрея в блокнот и спросил, долго ли он пробудет в Петрограде.
– Перед отъездом зайдите, я вам литературы подброшу, – закончил он и протянул руку Андрею.
Андрей постоял в нерешительности и вдруг выпалил:
– Я вот насчет того… нельзя ли как-нибудь товарища Ленина повидать.
Михаил Васильевич поднял на него удивленные глаза.
– Так вы же его только что видели, товарищ.
– Где? – спросил Андрей, недоумевая.
– Да вы же с ним ко мне подошли. Товарищ Ленин нас и познакомил.
Страшная обида ударила в сердце Андрею. Он тяжело задышал и зло сказал Михаилу Васильевичу:
– Какого же черта вы мне раньше не сказали!
Михаил Васильевич вскинул голову и хотел рассердиться. Но, увидев отчаянное лицо Андрея, засмеялся.
– Вот чудак, – сказал он, – откуда ж я знал, что вы не знакомы. Идут под ручку, я думал – приятели… Да ничего, вы не расстраивайтесь. Приходите вечером сюда. Владимир Ильич говорить с балкона будет. Вот тогда не только увидите, но и услышите.
Андрей отошел от стола, проталкиваясь к выходу и внимательно оглядывая встречных. У него была надежда еще раз увидеть Ленина. Но Ленина больше не было. Андрей с досадой вышел из дворца, чтобы съездить пообедать. Он решил обязательно вернуться сюда и простоять хоть всю ночь, лишь бы послушать Ленина.
1937
БОРИС ЛАВРЕНЕВ
ВЫСТРЕЛ С НЕВЫ

23 октября 1917 года шел мелкий дождь. «Аврора» стояла у стенки Франко-русского завода. Место это было хорошо знакомо старому крейсеру. Это было место его рождения. С этих стапелей в 1900 году новорожденная «Аврора» под гром оркестра и салют, «в присутствии их императорских величеств», скользя по намыленным бревнам, сошла в черную невскую воду, чтобы начать свою долгую боевую жизнь с трагического похода царской эскадры к Цусимскому проливу.
По мостику, скучая, расхаживал вахтенный начальник. Направо медленно катилась ко взморью вспухшая поверхность реки серо-чугунного цвета, покрытая лихорадочной рябью дождя. Налево – омерзительно грязный двор завода, закопченные здания цехов, черные переплеты стапельных перекрытий, размокшее от дождя унылое пространство, заваленное листами обшивки, плитами брони, бунтами заржавевшей рыжей проволоки, змеиными извивами тросов. Между этими хаотическими нагромождениями металла стояли гниющие красно-коричневые лужи, настоянные ржавчиной, как кровью.
Дождь поливал непромокаемый плащ вахтенного начальника, скатываясь по блестящей клеенке каплями тусклого серебра. Капли эти висели на измятых щеках мичмана, на его подстриженных усиках, на козырьке фуражки. Лицо мичмана было тоскливо-унылым и безнадежным, и со стороны могло показаться, что вся фигура вахтенного начальника истекает слезами безысходной тоски.
Так, собственно, и было. Вахтенный начальник смертельно скучал. С тех пор как стало ясно, что все рушится и адмиральские орлы никогда не осенят своими хищными крыльями мичманские плечи, мичман исполнял обязанности, изложенные в статьях Корабельного устава, с полным равнодушием, только потому, что эти статьи с детства въелись в него, как клещи в собачью шкуру. Он сам удивлялся порой, почему он выходит на вахту, когда вахта обратилась в ерунду. Неограниченная, почти самодержавная власть вахтенного начальника стала лишь раздражающим воспоминанием. От нее сохранилось только сомнительное удовольствие – записывать в вахтенный журнал скучные происшествия на корабле.
Такую вахту не стоило нести. Офицеры с наслаждением отказались бы, если бы не странное и необъяснимое поведение матросов. Нижние чины, внезапно превратившиеся в граждан и хозяев корабля, несли сейчас корабельную службу с небывалой доселе четкостью и вниманием. Матросы держались подчеркнуто подтянуто. Корабль убирался, как будто в ожидании адмиральского смотра. Часовые у денежного ящика и у трапа стояли как вкопанные. Эта матросская ретивость к службе, в то время как ее не требовал и не смел требовать командный состав, казалась офицерам непонятной и даже пугала их.
Вот и сейчас. Вахтенный начальник нагнулся над стойками левого обвеса мостика и лениво наблюдал разыгрывающуюся сцену. Шлепая по лужам, к мосткам, перекинутым со стенки на борт крейсера, шел человек в длинной кавалерийской шинели. Полы, намокшие и отяжелевшие, бились о сапоги, как мокрый бабий подол. На голове шедшего была защитная фуражка английского офицерского образца. Он взошел на мостки. Вахтенный начальник равнодушно наблюдал. С утра до ночи на крейсер шляется всякая шушера. Представители всяких там партий, демократы и социалисты, черт их пересчитает. Еще совсем недавно нога штатского не смела вступить на неприкосновенную палубу военного корабля. А теперь…
Ну и пусть ходит, кто хочет. И чего ради часовой у мостков пререкается с этим типом? Мичман равнодушно, но с тайным злорадством наблюдал, как часовой преградил дорогу посетителю, как тот, горячась, говорил что-то и как часовой, холодно осмотрев гостя с ног до головы, свистнул, вызывая дежурного. Такое соблюдение формальностей было ни к чему, но все же умаслило мятущееся сердце мичмана.
Подошедший дежурный взглянул в предъявленную посетителем бумагу и повел его за собой. Вахтенный начальник разочарованно зевнул и зашагал по мостику, морщась от дождевых капель.
Только что назначенный комиссаром «Авроры» минный машинист Александр Белышев хмуро прочел поданную посетителем бумагу. Уже то, что посетитель представился личным адъютантом помощника министра Лебедева, разозлило комиссара. Он терпеть не мог ни эсеров, ни их адъютантов.
В бумаге был категорический приказ морского министра немедленно выходить в море на пробу машин и после этого следовать в Гельсингфорс в распоряжение начальника второй бригады крейсеров.
– Министр приказал довести до вашего сведения, что невыполнение приказа будет расценено как срыв боевого задания и военная измена со всеми вытекающими последствиями, – сказал адъютант казенными словами, стараясь держаться начальственно и уверенно. Ему было неуютно в этой суровой, блестящей от эмалевой краски каюте, за тонкими стенками которой ходили страшные матросы, и он старался подавить свой страх показной самоуверенностью.
– Ясное дело, – сказал Белышев, поднимая на адъютанта тяжелый взгляд, и вдруг улыбнулся совсем детской конфузливой улыбкой. – Мы и так понимаем, что такое измена, – выговорил он значительно, подняв перед своим носом указательный палец, и по тону его нельзя было понять, к кому относится слово "измена". – Стрелять изменников надо, как сукиных сынов, – продолжал комиссар, повышая голос, и адъютанту морского министра показалось, что глаза комиссара, вспыхнувшие злостью, очень пристально уперлись в его лоб. Он поспешил проститься.
После его ухода Белышев прошел в каюту командира крейсера. Командир сидел за столом и писал письма. Слева от него выросла уже горка конвертов с надписанными адресами. Лицо командира было бледно и мрачно. Похоже было, что он решил покончить самоубийством и пишет прощальные записки родным и знакомым.
Не замечая унылости командира, Белышев положил перед ним приказ морского министра.
– Когда прикажете сниматься? – спросил командир, вскинув на комиссара усталые глаза.
– Между прочим, совсем наоборот, – ответил, слегка усмехаясь, Белышев. – Комитет имеет обратно приказание Центробалта – производить пробу машин не раньше конца октября. Так что придется гражданину верховноуговаривающему вытягивать якорный канат своими зубами, и он их на этом деле обломает. В Гельсингфорс не пойдем и вообще не пойдем без приказа Петроградского Совета, – закончил Белышев официальным тоном.
– Слушаю-с, – ответил командир и сам удивился, почему он отвечает своему бывшему подчиненному с той преувеличенной почтительностью, с какой разговаривал с ротным офицером в корпусе, еще будучи кадетом.
– Посторонних нет?
Вопрос был задан для проформы. Комиссар Белышев и сам видел, что в помещении шестнадцатого кубрика не было никого, кроме членов судового комитета, но ему нравилась строгая процедура секретного заседания.
– А какой черт сюда затешется? – ответили ему. – Матросы понимают, а офицера на веревочке не затащишь.
Белышев вынул из внутреннего кармана бушлата конверт. Медленно и торжественно вытащил из него сложенную четвертушку бумаги, разгладил ее на ладони и, прищурившись, обвел настороженным взглядом членов комитета. Это были свои, испытанные, боевые ребята, и все они жадно и загоревшимися глазами смотрели на бумагу в комиссарских руках.
– Так вот, ребятки, – сказал Белышев, – сообщаю данное распоряжение: "Комиссару Военно-революционного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов на крейсере "Аврора".
Военно-революционный комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов постановил: поручить вам всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами восстановить движение на Николаевском, мосту".
В кубрике было тихо и жарко. Где-то глубоко под палубами заглушении гудело динамо" да иногда по подволоку прогрохатывали чьи-то быстрые шаги. Члены комитета молчали. И несмотря на то что глаза у всех были разные – серые" карие" ласковые" суровые" – во всех этих глазах был одинаковый острый блеск. И от этого блеска лица были похожи одно на другое. Их освещал одинаковый свет осуществляющейся" становившейся сегодня явью вековой мечты угнетенного человека о найденной Правде, которую сотни лет прятали угнетатели.
– По телефону передали из ревкома, что это распоряжение самого Владимира Ильича… Товарищ Ленин ожидает, что моряки не подведут, – добавил Белышев тихо и проникновенно, и опять по лицам пробежал задумчивый и взволнованный свет.
– Ты скажи, Саша, пусть товарищ Ленин пребывает без сомнения, – обронил кто-то, – если он хочет, так скрозь что угодно пройдем.
– Значит, постановлено? Возражающих нет? – спросил комиссар. Он был еще молод, молод в жизни и молод в политике, и любил, чтобы дело делалось по всей форме.
Члены комитета ответили одним шумным вздохом, и это было вполне понятной формой одобрения.
– Тогда предлагаю обмозговать выполнение задачи. – Белышев бережно спрятал в бушлат боевой приказ Петроградского Совета. – Сколько людей понадобится и каким способом навести мост.
– Способ определенный, – сказал, усмешливо скаля мелкие зубы, Ваня Карякин, – верти механизм, пока не сойдется, вот тебе и вся механика.
Но шутка не вызвала улыбок. Настроение в кубрике было особенное, строгое и торжественное, и Ваню оборвали:
– Закрой поддувало!
– Ишь нашелся трепач… Ты время попусту не засти. Без тебя знаем, что механизм вертеть надо.
С рундука встал плотный бородатый боцманмат.
– Полагаю, товарищи, что дело серьезное. На мосту и с той стороны, на Сенатской и Английской набережной, юнкерье. Сколько их там и чего у них есть, нам неизвестно. Разведки не делали. Броневики я у них сам видел. А может, там где-нибудь в Галерной и артиллерия припрятана. От них, гадов, всего дождешься. И думаю, что на рожон переть нечего, а то оскандалимся, как мокрые куры, и дела не сделаем.
– Что ж ты предлагаешь? – спросил Белышев.
– А допрежде всего выслободить корабль из этой мышеловки. Черта мы тут у стенки сотворим. Первое дело – отсюда мы до Английской набережной не достанем через мост. Второе – на нас могут с берега навалиться. Да и где это слыхано, чтоб флотский корабль у стенки дрался! А потому предлагаю раньше остального вывести "Аврору" на свободную воду для маневра и поставить к самому мосту.
– Верно, – поддержал голос, – нужно к мосту выбираться.
Белышев задумчиво повертел в руках конец шкертика, забытого кем-то на столе.
– Перевести – это так, – сказал он, – да кто переводить будет? На офицерье надежды мало. Они сейчас – как черепаха, богом суро-дованная. Будто им головы прищемило.
– Пугнуть можно, – отозвался Ваня Карякин.
Белышев махнул рукой.
– Уж они и так напуганы, больше некуда. Начнешь дальше пугать – хуже будет. Теперь с ними одно средство – добром поговорить. Может, и отойдут. А то они даже самые обыкновенные слова не понимают. Я вчера на палубе ревизора встретил, говорю ему, что нужно с базой поругаться насчет гнилых галет, и вижу, что не понимает меня человек. Глаза растопырил, губу отвесил, а сам дрожит, что заячий хвост. Даже мне его жалко стало. Окончательно рассуждение потерял мичманок. Верно, думал, что я его за эти сухари сейчас за борт спущу. Ихнюю психику тоже сейчас взвесить надо. Земля из-под ног ушла…
– Потопить их всех.
– Рано, – твердо отрезал Белышев. – Если б надо было, так нам бы сперва приказали с ними разделаться, а потом мост наводить. Сейчас пойду с ними поговорю толком. Членам комитета предлагаю разойтись по отсекам, разъяснить команде положение. Да присмотреть за эсеровщиной. А то намутят. Еще сидят у нас по щелям эсеровские клопы…
Кубрик ожил. Члены комитета загрохали по палубе, торопясь к выходу.
…Когда Белышев вошел в кают-компанию, был час вечернего чая и офицеры собрались за столом. Но как не похоже было это чаепитие на прежние оживленные сборища. Молчал накрытый чехлом, как конь траурной попоной, рояль. Не слышно было ни шуток, ни беззаботного мичманского смеха. Безмолвные фигуры, низко склонив головы над столом, избегая смотреть друг на друга, напоминали людей, собравшихся на поминки по только что схороненному родственнику и не решающихся заговорить, чтобы не оскорбить звуком голоса незримо присутствующий дух покойника.
При появлении комиссара все головы на мгновение повернулись в его сторону. В беззвучной перекличке метнувшихся глаз вспыхнула тревога, и головы еще ниже склонились над стаканами жидкого чая.
– Добрый вечер, товарищи командиры! – как можно приветливее сказал Белышев и, положив бескозырку на диванную полочку, весело и добродушно уселся на диван.
Но, садясь, он зорко следил за впечатлением от своего прихода, отразившимся на офицерских лицах. Некоторые просветлели, – очевидно, приход комиссара не сулил ничего плохого, а сам комиссар был все же парень неплохой, отличный в прошлом матрос и не злой. Двое насупились еще угрюмей. Это были кондовые, негнущиеся, ярые ревнители дворянских вольностей и офицерских привилегий, и самое появление комиссара в кают-компании и его независимое поведение резало как ножом их сердца. Но этих было только двое. Остальные как будто оттаяли, и, следовательно, можно было говорить.
– Разрешите закурить, товарищ старший лейтенант? – вежливо обратился Белышев к командиру.
Командир, не отрывая взгляда от стакана, словно искал в нем потерянное счастье, кивнул головой и глухо ответил:
– Прошу.
Белышев достал папироску и неторопливо закурил. Он видел, что офицеры искоса наблюдают за струйкой дыма, вьющейся от его папиросы, и это смешило его. Он глубоко затянулся и внезапно сказал, как оторвал:
– Через час снимаемся.
Офицерские головы вздернулись, как будто всеми ими управляла одна нитка, и повернулись к комиссару. Штурман нервно звякнул ложкой о стакан и, передернув плечами, спросил:
– Позволено знать, куда?
– А почему ж не позволено, – беззлобно ответил Белышев. – Петроградский Совет приказал перевести крейсер к Николаевскому мосту, навести мост и восстановить движение, нарушенное контрреволюционными силами Временного правительства.
Штурман вздохнул и зазвякал ложкой. Жирный артиллерист, бывший прежде заправским весельчаком и не раз смешивший матросов забавными рассказами, а теперь потускневший и слинявший, словно его выкупали в щелоке, не подымая головы, спросил напряженно и зло:
– А приказ комфлота есть?
Белышев пристально посмотрел на него.
– Проспали, товарищ артиллерист, – сказал он спокойно. – Командует флотом нынче революция, а в частности Военно-революционный комитет, которому флот и подчиняется.
– Не слышал, – ответил артиллерист, – я такого адмирала не знаю.
Артиллерист явно задирался и вызывал на скандал. Белышев понял и, не отвечая, снова обратился к командиру:
– Товарищ старший лейтенант, прошу распорядиться.
Командир медленно поднялся. Руки его бессильно висели вдоль тела. Губы мелко дрожали. На него было жалко и смешно смотреть. Командир был выборный. Еще в февральский переворот команда единогласно выбрала его на пост командира после убийства прежнего командира – шкуры, дракона и истязателя. Новый командир был либерал, еще до революции читал матросам газеты и покрывал нелегальщину. Команда искренне любила его, как любила всякого, кто в жестокой каторге флота относился к номерному матросу, как к живому человеку. Команда и сейчас не утратила доброго чувства к этому тихому и мягкому интеллигенту. Но командир был выбит из колеи. Он был во власти полной раздвоенности и растерянности.
– Вы хотите вести крейсер к Николаевскому мосту?
– А то куда же? – удивился Белышев. – Как будто ясно сказано…
– Но… но… – Командир тщетно искал убегающие от него слова. – Но вы понимаете, товарищ Белышев, что это… это невозможно?
– Почему? – тоном искреннего и наивного изумления спросил комиссар.
– Но дело в том… С начала войны расчистка реки в пределах города не производилась, – быстро заговорил командир, обрадованный тем, что уважительная причина технического порядка, прыгнувшая в мозг, дает возможность правдоподобно и без ущерба для революционной репутации объяснить отказ. – Совершенно неизвестно, что происходит на дне. Фарватер представляет собой полную загадку. Я несу ответственность за крейсер как боевую единицу флота. Мы только что закончили ремонт и можем обратить корабль в инвалида, пропороть днище… Я… я не могу взять на себя такой риск.
Артиллерист злорадно и весело кашлянул. Это было явное поощрение командиру. Но Белышев оставался спокоен, хотя мысль работала быстро и ожесточенно. Он понимал, что командир сделал ловкий ход в политической игре. Это было похоже на любимую игру в домино, когда противник неожиданно поставит косточку, к которой у другого игрока нет подходящего очка. Можно, конечно, обозлиться, смешать косточки и прекратить игру, вызвав на подмогу команду, пригрозить. Но хороший игрок так не поступает, а Белышев играл в "козла" отменно.
Он только искоса взглянул на артиллериста, и кашель завяз у того в горле. Потом, обращаясь к командиру, Белышев произнес, напирая на слова:
– Соображение насчет фарватера считаю правильным.
Офицеры переглянулись: неужели комиссар сдаст?
Но радость оказалась преждевременной. Сделав паузу. Белышев продолжал:
– Крейсером рисковать нельзя, товарищ старлейт. Мы за него оба отвечаем. И я под расстрел тоже не охотник… Но приказ есть приказ. Мы должны передвинуться к мосту. Через полчаса фарватер будет промерен и обвехован…
Он с трудом удержался от победоносной усмешки. Удар был рассчитан здорово. Командир проиграл. Ему некуда было приставить свою косточку. Он безнадежно оставался "козлом". В кают-компании стало невыносимо тихо.
Белышев взял бескозырку и пошел к выходу. В дверях остановился и, оглядев растерянные лица офицеров, строго и резко закончил:
– Предлагаю от имени комитета товарищам командирам до окончания промера не выходить на палубу.
– Это что же? Арест? – вскинулся артиллерист.
– Ишь какой скорый! – засмеялся Белышев. – Зачем? Нужно будет – успеем. Просто дело рискованное. Могут внезапно обстрелять, а я за вас, как за специалистов, вдвойне отвечаю. До скорого…
Дверь кают-компании захлопнулась за ним. Офицеры молчали. Это молчание нарушил штурман. Он покачал головой и, как бы разговаривая с самим собой, сказал вполголоса:
– А молодцы большевики, хоть и сукины дети!
Шлюпка покачивалась на черной воде у правого трапа. Расставив вооруженных матросов по левому борту, обращенному к территории завода, осмотрев лично пулеметы и приказав внимательно следить за всяким движением на берегу, Белышев перешел на правый борт к трапу. Четверо гребцов спускались в шлюпку. На площадке трапа стоял секретарь судового комитета, сигнальщик Захаров, застегивая на себе пояс с кобурой. На груди у него висел аккумуляторный фонарик, заклеенный черной бумагой с проколотым в ней иглой крошечным отверстием. Узкий, как вязальная спица, лучик света выходил из отверстия.
– Готов, Серега? – спросил Белышев, кладя руку на плечо Захарова.
– А раньше? – ответил Захаров любимой прибауткой.
– Гляди в оба. На подходе к мосту будь осторожней. Я буду на баке у носового. Если обстреляют, пускай ракету в направлении, откуда ведут огонь. Тогда мы ударим. Ну, будь здоров.








