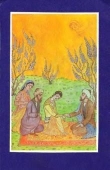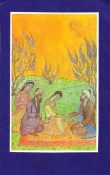Стихотворения и поэмы

Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Гафур Гулям
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Чайхана, прозрачный хауз. Мы сидим под сенью ивы,
перед нами чай, лепешки, сотовый душистый мед.
Мы беседуем. Беседа, как ручей неторопливый,
никому не досаждая, рассудительно течет.
Мы довольны белым светом, белый свет доволен нами.
Да и как не быть довольным? Мы не зря прошли свой путь.
За плечами груз познанья, опыт жизни за плечами, —
любо-дорого послушать, любо-дорого взглянуть.
Если бы сама природа услыхала наши речи,
позабыв дела другие, к нам подсела бы тотчас.
Все слова как поцелуи, мы друг другу не перечим.
Потрудились мы на славу, славен и покой у нас.
Мы давно друзья. Юлдашев – тестомес на хлебзаводе,
Абдулла – бухгалтер в школе. Стаж работы – тридцать лет.
Захиджан – артист известный. Весельчак, одет по моде.
Шестеро – пенсионеры, щедрой осени букет.
Мы друг друга угощаем, как завещано от дедов,
прижимая руку к сердцу, щелкая о край пиал.
Каждому – седьмой десяток, каждый многое изведал,
в каждом искренностью светел сердца доброго кристалл.
Вдруг – вот не было печали! – в чайхану ввалился пьяный,
с пьяной руганью похабной, с пьяной яростью в глазах.
Стал толкаться, стал швыряться хуже вихря-урагана.
«Всех, – кричит, – перелопачу! Всё и всех вас – в пух и прах!»
Бог ты мой, какую мерзость вынуждено слушать ухо!
И никто от этой грязи защититься не волен.
Вмиг беседа омрачилась, будто в чай попала муха…
Будь ты трижды проклят, пьяный, смрадом дышащий дракон!
Но рванулись два джигита к хулигану-самодуру,
завернув, связали руки, подтолкнули, увели.
Мы подавленно молчали, переглядывались хмуро:
«Как обидно, что такие пачкают лицо земли!»
Долго разговор заглохший не налаживался снова,
будто сел верблюд на скатерть, всё изгадил, всё измял.
Наконец Нурмат-литейщик произнес такое слово:
«Вот они, шальные деньги! Весь в отца пошел, шакал.
Я их знаю – мы соседи. Спекулируют плащами,
кофтами из-за границы, а потом вот эдак пьют».
– «Воры», – пробурчал Юлдашев. И опять все замолчали.
Может, по домам податься? Может, разойтись?.. Но тут…
Тут вошел румяный парень с кучерявой черной челкой.
Это был наборщик Первой типографии Афзал.
«Здравствуйте, отцы! – сказал он. – Счастья вам и жизни долгой!»
И почтительно, с поклоном руку каждому пожал.
Чуть привстав из уваженья, мы Афзалу отвечали:
«Будь и ты, сынок, удачлив! Будь и ты здоров, сынок!»
И опять беседа наша зажурчала, как вначале.
Вот каков он, слов приветных чудодейный огонек!
Ну и хватит! Многословье не для старого поэта.
Чувствуй меру. Много воли не давай в стихах словам.
Рассказал о животворной силе доброго привета —
дальше не тяни рассказа, точку ставь, Гафур Гулям.
1962
Перевод В.Липко
ВЫМПЕЛ
Это – знамя науки и знамя победы для всех на планете.
В горн трубит Прометей: просыпайтесь, живые, уже вы не дети!
Это – факел над миром, до дна осветивший зрачки человека,
наше «Здравствуй!» Луне, встреча старого века и нового века!
Нас веками свет лунного диска манил в неизвестные дали.
Верим, сбудется всё, что мечтатели-предки до нас загадали.
Это – чудо: частица советской земли прикоснулась к Луне желтолицей.
Праздник в каждой семье, и в деревне любой, и в столице.
Мысль летит среди звезд, мысль спешит, обгоняя светила.
Мысль бездонную тьму бесконечных галактик для нас осветила.
Алишер Навои, вдохновляясь, глядел на Луну
и писал, за страницей страницу листая.
Я, Гафур, может статься, строку завершив,
на Луну – отдохнуть перед новой строкою —
слетаю…
1964
Перевод Р. Казаковой
БЫВШЕЙ МОЕЙ ЛУНОЛИКОЙ
Любовь моя, ты для меня, наверное, —
вся жизнь, всё, что в ней вечно,
что мгновенное.
Заря, отрада – искренняя, верная,
дышу тобой, иначе – не могу.
Лицо твое, сквозь дни и годы – юное,
в лучах моей любви – золотолунное,
я сравнивал с луною в полнолуние.
Я сравнивал, а нынче – не могу.
Когда Луна с «Луною-9» встретилась,
в подлунном мире что-то вдруг наметилось
такое, что влюбленным мной заметилось:
по-старому писать я не могу!
Прощай, былого лирика великая,
прощай, моя былая луноликая!
Но неужели станешь ты безликая?
Нет, допустить такого не могу!
В твое лицо смотрю с утра до вечера,
твои глаза распахнуты доверчиво,
в твоих зрачках весна качает веточки,
и я без них всё так же не могу.
Опять вдвоем в работу мы впрягаемся,
и даже если иногда ругаемся
и так ругаться не остерегаемся,
без этих ссор я тоже не могу!
Товарищ мой, мы – что-то неделимое,
и это, видно, непреодолимое,
на счастье жизнью каждый день даримое, —
отдельно не хочу и не могу.
А годы как цепочка журавлиная:
коротенькой была, а стала – длинная.
Прощайте, птицы! Их живому клину я
машу печально вслед, пока могу.
Ах, много было, милая, налетано.
Но сколько впереди еще наметано!
А небо нам с тобой на пару отдано, —
летать один, как прежде, не могу.
Всё, что мое – твое, вдвоем освоили,
построено – так, значит, вместе строили.
Пусть спорили, но строили, хоть спорили,
и я уже иначе не могу.
Старинным слогом слуха не насилуя,
луну в покое я оставил, милая,
но чувствую в себе, как прежде, силу я
любить тебя – иначе не могу.
1964
Перевод Р. Казаковой
ВИШНЯ
Уж если хочешь ты узнать ей цену,
к ее рубинам руку протяни,
перелистай неспешно Авиценну,
на наманганских девушек взгляни.
Так благодатны земли Намангана,
так сочно кровь здоровая красна,
что вишня здесь и созревает рано,
и поражает алостью она.
Кровавит губы плод ее бескровный…
Когда же оторвусь я наконец!
Болит язык, припухли губы, словно
всю ночь я целовался, как юнец!
Вишневый сок, живительная влага,
прости мои смятенные слова,
искрись, вливайся в кровь мою на благо,
пока она, вишневая, жива.
А вишенки мои в саду – всё выше.
И я желаю другу своему:
«Пусть твое счастье множится, как вишни!» —
немалого я пожелал ему.
Сухая вишня нам зимой отрада —
люблю ее чистейший аромат.
Вишневое варенье! Тоже надо!
Поэт варенью, как ребенок, рад.
Дочь сада, вишня, дай припасть губами
и за такую жадность не кори.
Хотя б на миг разбереди мне память,
пожаром лета сердце уколи!
1964
Перевод Р. Казаковой
УЧЕНОМУ ПРИЯТЕЛЮ
Ты встречался с нами нередко
и говаривал неспроста:
«У Мешхедского минарета
вся обязанность —
красота!»
Что рассказывал ты,
о чем нам?
Речь текла твоя, как ручей.
«Цель учености – быть ученым!» —
вот был смысл твоих речей.
Ты в какой-то блистал плеяде,
чем-то славился, может быть,
но заслуги твои, приятель,
мы успели перезабыть.
Позабыли и взгляд твой вещий,
важность в голосе и в руке…
Точно так забывают вещи,
в старом сложенном сундуке.
Ибо память
не купишь саном —
гордый нрав у нее и злой.
Расстилается бекасамом
на воде
керосинный слой,
но подует недолгий ветер,
чуть подымет волну вода —
и от пышных расцветок этих
не останется и следа.
Я не знаю, ты ждал того ли,
откровенно гордясь собой,
только вряд ли б ты был доволен
незавидной такой судьбой.
А чего же и ждать иного?
Есть у жизни свой потолок.
Не воротится к людям снова
тот,
кто воду в ступе толок.
Если попусту жизнь минует —
кто поверит ей, что была?
Ну а прожитая минута —
пуля, выпущенная из ствола.
Дешев воздух, которым дышишь.
Только видел я на веку:
вянут розы
покуда пишешь
предисловие к цветнику.
В нас свой опыт
народ посеял.
Так пускай теперь в свой черед,
точно малые зерна в землю,
наши знанья идут в народ.
Мы – точильщики
вечных лезвий!
Нам подсказано неспроста:
«Смысл знания – быть полезным.
Знак величия —
простота».
1964
Перевод А. Наумова
ПОБЕЛЕЛИ ВОЛОСЫ ТВОИЖене моей, Мухаррам
Побелели волосы твои,
выцвели, как синева в зените.
Как их под косынкой ни таи —
стали хлопком смоляные нити.
Так привычна эта седина,
но всмотрюсь – и странно мне немного:
неужели вправду так длинна
верности
высокая дорога?
Побелели волосы твои…
Отчего ж мне помнятся так ясно
эти ночи, розы, соловьи —
юности нетронутые яства?
Знаю я, что больше не вернуть
той весны в урюковом угаре.
Но неужто впрямь мы отшагали
нам с тобой определенный путь?
В зеркала зрачков моих смотри —
отражением тебя утешу:
в этом мире
мы с тобой – всё те же,
хоть и белы волосы твои..
1964
Перевод А. Наумова
ТВОЙ ГОЛОС – ЭХО НАШИХ ДНЕЙНашей чудесной поэтессе Зульфии в день ее пятидесятилетия
В объятиях родных небес да будет вечен твой полет.
Твой голос – эхо наших дней, пусть он звучать не устает.
То вторя отзвукам веков, то трепету живы сердец,
звенит твой многострунный саз, как будто жизнь сама поет.
Вслед за Мехри и Надирой, Зебинисо и Увайси
ты новым факелом зажглась – и к новой жизни он зовет.
Когда на радость людям ты с утра берешься за перо,
сиянью светлого ума дивится солнечный восход.
На крыльях радостных надежд в грядущий мир устремлена,
летит к Плеядам песнь твоя и с неба звезды достает.
В твоих твореньях – пенье струн, свет, озаряющий сердца,
твой тонкий ювелирный труд пленительней из года в год.
Как зеркало твоя душа, в ней отразился весь Восток,
за щедрый, солнечный талант благодарит тебя народ!
1965
Перевод С. Северцева
МЕТАНИЕ ЯБЛОКА(Песня хорезмских девушек)
Мои косы волнисты, как волны Аму,
а зрачки от волнения зыбче волны.
Эй, джигит! Еще яблока я никому
не бросала по правилам старины.
Прямо к сердцу хорезмской девчонки стартер
подключи, комбайнер! Это сердце – огонь.
А язык у хорезмской девчонки остер.
Что, не веришь мне, Джуманияз? Ну-ка, тронь!
Там, где хлопок, нельзя хлопотать без души,
а в твоей нынче столько любви и добра…
Матназар, так кого же ты выбрал, скажи,
черноглазый, с бровями – как шерсть у бобра…
Если это – красивая Мамашариф,
не тревожься, по девушкам взглядом скользя.
Вас и в песне и в наших сердцах поженив,
завтра будем женить и взаправду, друзья!
Когда кончено дело, приходит пора
спелых яблок, цветов и счастливой любви.
Пусть метание яблок всего лишь игра,
я тебе его брошу не в шутку. Лови!
1965
Перевод Р. Казаковой
РОДИНЕ
О Родина, земля, Отчизна золотая,
ищу тебе слова,
руду свою дробя…
В залитый солнцем мир мечтою залетая,
я с детства
матерью
именовал тебя.
Я знал, что от тебя – тепло души и тела,
и воздух в легких весь,
и сила слов и мышц;
и если пелось мне – то это ты мне пела,
а если я лечу —
ты мой полет стремишь!
И спетой песни звук, воды испитой сладость
останутся в душе,
навек в нее запав;
и, силу мне даря,
ты не простишь мне слабость,
коль растранжирю зря
бесценных дней запас!..
И шли года мои.
А их немало было!
И май надежд моих
сменил июль забот.
Снял урожай сентябрь.
И поздний час пробило.
Дохнуло январем: итог подводит год.
Мать-родина, но ты ведь
тоже стала старше!
И радость и беда
в прошедшем стали в ряд…
А я гляжу вокруг – и вижу: ты всё та же!
Да что я говорю – моложе во сто крат!
Сверкают юностью электростанций очи,
и гребень из лучей —
над чащею лесной.
И желтизну пустынь,
и пятна почвы тощей
смываешь ты с лица хлопковой белизной!..
О мать моя земля, Отчизна золотая,
твой самый малый вздох
я мыслью стерегу.
И в давние года мечтою залетаю…
Но «мама» говорить неловко старику!
И я горжусь тобой!
Так дочерью гордишься,
что превзошла отца блистательной судьбой.
О Родина, ты впрямь мне в дочери годишься,
и разве старику
угнаться за тобой?
Но слышу я в ответ:
«Тебе ль в тиши усесться,
Гафур,
и ждать, чтоб век
твой садик посетил?
Покуда реки жил в твое впадают сердце,
пусть тают на висках
снега твоих седин!»
1966
Перевод А. Наумова
ПОЭМЫ
КУКАН1
Так было иль не так, начнем рассказ.
Жил в Чуете хлебороб Маманияз.
Аллаха чтил, имел земли клочок,
где пробегал арычек – ручеек.
Был вдов, уныло дожил до седин.
Одна отрада – подрастает сын.
Решив, что лучше не вступать в колхоз,
колючкой жалкой свой клочок обнес.
И вместе с сыном, одинок и хил,
надсаживался до потери сил.
Он не был, честно говоря, умен:
хотел, чтоб сын таким же был, как он.
Однажды он сказал «Кукан, сынок,
я, кажется, не в шутку занемог.
Дрожу, как тал трухлявый на ветру,
сдается мне, что скоро я умру.
Ты слушай, что я говорю, не плачь,
останутся тебе: земля, омач,
бычок, упряжка, домик наш, арба —
достаточно для божьего раба.
Веди хозяйство бережно. Женись.
Дом без жены не дом и жизнь не жизнь.
Вот так… Сумеешь – землю прикупай.
Старайся стать таким, как Шариф-бай.
Что невдомек – не делай наугад,
спроси у тех, кто знает, кто богат:
у бая, у муллы… Плохого нет —
от мудрых мудрый выслушать совет.
Ну вот и всё», – вздохнул Маманияз.
Потом пришел его последний час.
Оставшись без отца, Кукан сперва
не знал, как быть. Кружилась голова:
всё прожито, кормов пропал и след,
пучка сухой соломы в доме нет.
Подумал, потомился, а потом пошел
за наставленьем в байский дом.
Два раза поклонился и сказал:
«Шариф-ака, что делать, я пропал!
Скажите, как мне справиться с бедой.
Отец мой умер, стал я сиротой.
Поминки, саван – вот и пуст карман,
хоть в петлю лезь: ни денег, ни семян!»
– «Ну, это пустяки, – ответил бай, —
найдем тебе деньжат, не унывай,
но знай: посеешь хлопок – пропадешь.
Работы много, а доходу – грош.
Пшеницу сей. Посеешь по весне,
потом две трети урожая – мне.
А деньги вот. Ну что ж, бери, Кукан!»
Так бай заманивал юнца в капкан.
Кукан замялся: «Взять или не взять?
Взять не хитро, сумею ли отдать?»
Минуту помолчал, махнул рукой,
сказал: «Посмотрим!» – и ушел домой.
Подумал: «Если вдруг неурожай —
бай всё отнимет, обездолит бай».
Продал халат, продал большой казан,
купил полмеры луковых семян.
Решил поглубже землю бороздить,
решил прополку чаще проводить.
Сказал себе: «Коль хорошо пойдет,
тогда женюсь на следующий год».
Изматывался, не жалея сил.
Отсеялся, шалаш соорудил.
Сидит и сторожит… А для чего?
Кто столько лука купит у него?
И не купили. Заработал грош,
хоть урожай и вправду был хорош.
«Беда, – сказал бедняга, – ах, шайтан!
Каких же мне теперь искать семян?
Спросить, узнать… А у кого узнать?
Бай оскорблен – не станет отвечать…»
Не зная, посоветоваться с кем,
так маялся Кукан. А между тем
колхозники уже не раз, не два
беседовали с ним: «Эх, голова!
Уперся на своем, как в землю врос.
Тебе давно пора вступить в колхоз.
Для бедняков таких, как мы и ты,
колхоз – осуществление мечты.
Когда мы вместе, кто сильнее нас?
А кулачью уже не долог час.
Решайся, парень. Станет общим труд —
пустыни цветниками расцветут».
Но был упрям Кукан. Все «нет» и «нет».
«Я буду жить, как мой отец и дед».
И, вспомнив кстати о словах отца,
пошел к мулле. Склонился у крыльца,
прочел вечернюю молитву «шам»,
сказал: «Святой отец, я с просьбой к вам.
Затмила мне глаза незнанья тень.
Что сеять мне: пшеницу иль ячмень?»
Вздохнул и так, чтоб увидал мулла,
рублевку положил на край стола.
Мулла благословенье пробубнил,
раскрыл Коран и сказку сочинил.
Сказал: «Велик Аллах! Внимай, Кукан.
На твой вопрос мне дал ответ Коран.
Устами бога так глаголет он:
„Кто сеет просо – будет награжден“.
Усвоил речь? Уразумел – о чем?
Уснешь ни с чем, проснешься богачом».
И заключил, дурача простака:
«Аминь, да будет жизнь твоя легка!»
Пришел домой обманутый Кукан.
Взял в долг у друга пять пудов семян.
Посеял просо, чтоб ему сгореть!
Изныл душою, желтый стал, как медь.
Земля была, как жизнь, тоща и зла,
взяла все силы, горсточку дала.
Не хватит даже долг вернуть. Беда!
А впереди – морозы, холода…
Но если взял – отдай. Таков закон.
Кукан скорбел: зачем родился он?!
Уж лучше камнем быть, лежать в пыли,
чем жить крестьянином – рабом земли.
Но плакать да стонать – какой же толк?
Вновь продал часть пожитков, скинул долг.
Потом, чтоб худо-бедно, как-нибудь
до теплоты, до лета дотянуть,
с корчагами расстался, с хомутом…
Так оголяя двор, сарай и дом,
порою сыт, порою натощак,
дождался вешних дней Кукан-бедняк.
Сказал: «Что сеять, сам теперь решу.
Ни у кого совета не спрошу».
И выбрал репу. Хороша к столу
и на продажу, а ботва – волу.
Опять залез в долги, семян купил,
опять трудился до потери сил,
а результат – о господи! – опять
такой, что впору лечь и помирать.
Повез на рынок ворох чуть не с дом,
и хоть бы кто-нибудь спросил: «Почем?»
Вокруг смеются: «Караул! Вайдот!
Мы репу кушали в голодный год.
Иль ты соскучился по той поре,
рехнувшись на своем пустом дворе?»
Язвят, подкусывают так и сяк.
Совсем лишился головы бедняк.
Пошел, вола навьючил и – айда
в далекий путь. Куда? А вот куда.
Был у него знакомый Кулунтай,
жил в Вуадиле. Не сказать, что бай,
но не из бедных. Вкусно пил и ел,
поскольку маслобойкою владел.
Кукан нанялся на зиму к нему.
Крутил машину, поджидал весну.
Весной в кишлак вернулся и опять:
«Что посадить? Как семена достать?»
Вот тут-то бай Шариф, неждан, незван,
пришел к бедняге: «Как живешь, Кукан?
Ой, вижу, подсекла тебя нужда!
И это всё – твои земля, вода.
Томишься, маешься уж третий год…
Отдай их мне, избавься от забот.
Стань у меня издольщиком, Кукан,
не пожалеешь, будешь сыт и пьян.
Посеешь на земле морковь и маш,
оставишь долю, девять мне отдашь.
Ну что замялся? Соглашайся, брат,
к зиме получишь сапоги, халат.
Чем не житье? Хоть в стужу, хоть в грозу
сиди и попивай себе бузу».
Понасулил, с три короба наплел
и, усмехаясь в бороду, ушел.
Кукан помаялся еще денек
и согласился. Устоять не смог.
Поставил снова на поле шалаш.
Посеял – вырастил морковь и маш.
И что ты скажешь! Неудача вновь.
Маш – точно камень, несладка морковь.
И – недород. Произвели дележ —
с одной десятой с голоду умрешь!
Быть может, бросить землю и бежать?..
Нет. Так себя не станешь уважать.
Опять на маслобойку? Нет, не так.
Там прижился уже другой батрак.
И вот доел он маш, доел морковь,
стал желт и тощ, как потерявший кровь.
А тут – зима. Земля белым-бела.
Махнул рукой: «Пойду продам вола!»
Повел, погнал скотину на базар.
А вол – совсем скелет, хоть и не стар.
Кого прельстит? Найдется ль вертопрах —
взять эту грусть на четырех ногах?
Один съязвил: «Да разве он живой?
Он – призрак, тень, ручаюсь головой!»
Другой сказал: «Покуда не подох,
задаром я бы взял. Уж больно плох!»
Тут маклеры вмешались: «Покупай!
Откормишь – станет гладким, точно бай!
А ты продай, но много не проси,
а то упустишь, боже упаси!»
Кукан подумал: «Чтоб не прогадать,
за три червонца надо бы продать».
Но так как он совсем не ел с утра,
два попросил, отдал за полтора.
Всего лишь? Да, не более того.
Но лучше что-нибудь, чем ничего.
2
Прошло немного дней. Взволнован Чует.
Большая весть у всех не сходит с уст.
Еще сто пять дехкан (да-да – сто пять!)
колхозниками захотели стать.
Кишлак шумит, гостей из центра ждет.
В день смерти Ильича назначен сход.
Предсельсовета ходит по дворам,
к середнякам заходит, к беднякам,
зовет и женщин, не одних мужчин.
У нас теперь для всех закон один.
Кукана встретил. «Как живешь?» – спросил.
Поговорил и тоже пригласил.
Но вот и день настал, и час настал.
Повсюду заспешили стар и мал:
«Скорей, друзья, скорей, уже вот-вот
приедут гости и начнется сход!»
Собрали бедняков, середняков,
собрали молодых и стариков.
Всех работяг собрали на майдан.
Явился, озираясь, и Кукан.
Стал с краешку, оперся на дувал.
«Не уставать вам!» – вежливо сказал.
И услыхал: «И ты не уставай.
Что стал в стороночке? Сюда давай.
Ну как у бая? Роскошь? Благодать?»
Кукан молчал, не зная, что сказать.
Дул быстрый ветер, трепетал врастяг
багряный с траурной каймою стяг.
Вдали заметно заклубилась пыль,
к майдану подкатил автомобиль.
«Приехали! Приехали! Ура!» —
ликуя закричала детвора.
Приехавшие не спеша сошли,
к столу президиума подошли.
Предсельсовета встал и встретил их.
Сказал: «Вниманье!» – и майдан затих.
«Собрание трудящихся крестьян
открыто!» – услыхал бедняк Кукан.
И тут оркестр колхозный заиграл
великий гимн «Интернационал».
Все поднялись. Торжественна, сильна
лилась, лилась мелодии волна.
Потом, когда последний звук затих,
один из хлопкоробов молодых
сказал, затронув души и сердца:
«Товарищи, в честь Ленина-отца
одну минуту молча постоим».
И стало тихо-тихо… Недвижим
стоял Кукан. Растроган, удивлен,
едва от слез удерживался он.
Всё было ново, всё наперекор тому,
что видел он до этих пор.
Кто вел собрание? Батрачка. Вот она
спокойно поднялась, ловка, стройна,
сказала всем: «Сейчас начнет доклад
инструктор из райкома Халмурад».
Рукоплескания, приветный гул.
Встал парень в кожанке, вперед шагнул.
Заговорил. В словах – задор, призыв.
Кукан внимал, дыханье затаив.
«Товарищи! Прошло уже шесть лет,
как умер Ленин, но его завет,
его дела, мечты его размах —
не в наших ли стремленьях и делах?!
Объединясь, идя его путем,
мы людоедам-баям сердце рвем.
Везде у нас кипит ударный труд.
Растут заводы, фабрики растут.
Гиганты эти каждый день и час
ударных темпов требуют от нас.
Ишаны, баи строят козни нам,
шипят, язвят, желают розни нам.
Пускай! Мы тоже не лежим, не спим.
Наш каждый трактор – оплеуха им.
Распашем, унавозим все поля —
богатый урожай вернет земля.
Коль станет сплошь колхозным наш кишлак —
мулла увянет, скрючится кулак.
Кто он – мулла? Он груз, что тянет вниз,
петля на шее, байский блюдолиз.
Прочь этот сор! Пусть будет чистым дом,
пусть нашим другом станет агроном.
Товарищи! Весна уже вот-вот.
Что даст ткачам колхозный хлопковод?
Пора, давно пора нам перестать
у заграницы хлопок закупать.
Растрачивать свой золотой запас
на тех, кто явно точит нож на нас!
Пусть ни одной полоски поливной
не будет незасеянной, пустой.
Чтоб каждый, кто бы нам ни угрожал,
увидел нашу силу – урожай.
И, проиграв бескровный этот бой,
задохся бы от ярости слепой.
Вы знаете: среди союзных стран
найлучший хлопкороб – Узбекистан.
В единстве братском став сильней вдвойне,
мильоны тонн должны мы дать стране.
Понять, в чем суть колхозов, не хитро:
совместный труд, совместное добро.
Но, если будем мы дружны и впредь,
мы всех врагов заставим онеметь.
Ведь, силу многих воедино слив,
становится гигантом коллектив.
„Твоя земля, моя земля“ – не жизнь.
Для блага всех разрушим все межи!..
Товарищи! Наш уровень возрос:
еще сто пять хозяйств войдут в колхоз.
Вы сами тут решите, как вам быть.
Но наш совет – не надо сил дробить.
Разумнее всем новым ста пяти
в уже сплоченный коллектив войти.
Хотя бы – Кзыл Курган. Тогда бы он
и вправду мощным стал, как бастион.
Тогда бы он за множество заслуг
прославился на сотни верст вокруг.
Вот так, друзья. Могучий наш союз,
не оступясь, любой поднимет груз.
Да, Ленин умер. Умер, но живет.
Его дорогой мы идем вперед.
Мы ленинцы. Он с нами – вождь и друг.
Штурвал машин не выпустим из рук!»
Так он закончил речь, и всё кругом
потряс рукоплесканий гулкий гром.
Потом, советуясь, как быть,
как жить, другие тоже стали говорить.
Сначала вышел острый на язык,
видавший много бед батрак Разык.
Сказал: «Мы всей душою за колхоз.
Что видел я у бая, гол и бос?
Трудился, набивал ему амбар.
Ему был плов, а мне от плова пар.
Все наши баи так. Шариф, Ильхам,
Саид, Наби, Кудрат, мулла Бахрам.
От чьих трудов у них что хочешь есть?
Коней не счесть, коров, овец не счесть,
угодий не обмерить поливных…
Всё это нами добыто для них!
Довольно! К дьяволу! Пришла пора
самим взять вожжи своего добра.
Себе – свой разум, свой умелый труд.
А баев – прочь! Пусть баи глину жрут!
Их надо ликвидировать как класс.
Земля – для тех, кто трудится. Для нас.
Но враг упорен. Враг не сдастся сам.
Он лезет к беднякам, к середнякам,
морочит их, вливает в уши ложь:
„В колхозе зло. В колхозе пропадешь!“
И что скрывать! Порою их аркан
не зря летит. Вот, например, Кукан.
Спросите-ка его, как он живет,
как мыкается он четвертый год.
А что причиной?.. На свою беду —
у бая, у муллы на поводу
Юн, зелен, опыта в хозяйстве нет.
Пришел к Шарифу: „Дайте мне совет“.
Ну и пропал! Что есть у парня? Пыль:
вол полусдохший и омач-горбыль.
А ходит в чем? А ну, бедняга, встань.
Пять лет уже он носит эту рвань.
Хоть раз бывал он сытым? Нет. И что ж?
Нейдет в колхоз. Вот как дурманит ложь!
Мы знаем их слова: „Толпа слепа.
К добру не может привести толпа.
Зачем колхоз? Зачем артельный труд?
Где много пастухов, там овцы мрут“.
Лгут хитрецы. Сулят не жизнь, а рай.
„Ты только землю, – говорят, – отдай“.
А ну, Кукан, сейчас при всех ответь,
не так ли ты попал к Шарифу в сеть?»
Кукан стоял потупившись, краснел.
«Я кончил», – объявил Разык и сел.
Потом поднялся, покосясь на стяг,
женоподобный, средних лет толстяк.
Он так сказал: «Эй, постыдись, Разык!
Совсем ты уважать людей отвык.
Ты на Шарифа зря не нападай.
Шариф-ака – почтенный, добрый бай.
И зря муллу ты пачкал так и сяк.
Смотри…» Но досказать не смог толстяк.
«Умолкни!» – раздалось со всех сторон.
– «Торгаш поганый! Убирайся вон!»
– «С дружками вместе – с баем и муллой
в одной могиле сгинь, пузырь гнилой!»
– «Теперь уж мы не батраки, не те,
что, всех боясь, томятся в нищете!»
– «А кто тебя пустил сюда, паук?!»
И тут же, в десять иль двенадцать рук,
схватили цепко и, намяв бока,
с майдана вытолкали толстяка.
И снова речи, реплики… И вот
пришел и заявлениям черед.
Азиз… Надыр… Астанакул… Баймат…
Ладоней гром, приветствий водопад.
Вступивших вписывают в чистый лист…
Тут встал один партийный активист
и, вскинув руку, предложенье внес:
«Пусть Ленинским зовется наш колхоз!»
И снова будто шквал потряс майдан.
Потом Разык сказал: «А что ж Кукан?
Так в нищете и проживет все дни?..
А ну-ка, сам откликнись, кашляни!»
Кукан замялся, думал, оробев:
«Вступив, не навлечешь ли божий гнев?
Не запятнаешь ли грехом души?»
Но всё ж решился, выдохнул: «Пиши!» —
и рукавом халата вытер пот…
Кукан навек запомнил этот сход.
3
Чуст на подъеме. В прошлом – время бед.
Единоличников здесь больше нет.
Нет кулаков. Их выгнал коллектив.
Мулла Бахрам, Наби, Саид, Ариф
лишь вспоминаются порой, как сон.
Фундамент новой жизни возведен.
За быстрый рост, за славные дела
колхозу Ленина везде хвала.
Крестьяне – молодежь и старики,
те, что и ныне молодо крепки, —
хлопчатник вырастив на целине,
большой подарок сделали стране.
Верны заветам Ленина-отца,
сверх плана дали сотни тонн сырца.
Египетских семян у них гора.
Коней у них сменили трактора.
Всё обновилось. И батрак Кукан
теперь уже не тот простак Кукан.
И не батрак уже, а тракторист.
Исчезла робость. Ум, как утро, чист,
достаток в доме. Всё, что нужно, есть.
Ешь хоть весь день, когда захочешь есть.
Где круг не мал, там и доход не мал.
Кукан поздоровел, улыбчив стал.
Женился ровно год тому назад.
Довольны оба. В доме добрый лад.
Ребенка ждут в начале ноября —
и счастливы. Сияют, как заря.
Мечтают: кто родится? Он? Она?..
У них уже готовы имена.
Для девочки – как песня: Пахтаой.
Для мальчика – Пулат, чтоб был стальной.
Э, кто бы ни был, скажем: «В добрый час!»
Мы ленинцы. Заря светла для нас.