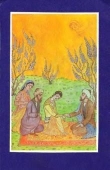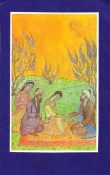Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Гафур Гулям
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
ТОВАРИЩЕСКОЕ ПИСЬМО
Сперва напомним, кто такой Кукан.
Колхозник. Я писал о нем дастан.
Он горемыкой жалким прежде был,
наивным простаком, невеждой был.
Батрачил, проливал потоки слез,
покуда, к счастью, не вступил в колхоз.
Но вот беда! Хоть мы с ним и друзья,
так вышло, что его обидел я.
В те дни, когда он был еще бедняк,
прощаясь, мы уговорились так:
«Чтоб не прервалась нашей дружбы нить,
чтоб классовых врагов вернее бить,
в сторонке от борьбы, ленясь, не спать, —
подбадривать друг друга, навещать».
И что ж?!. Нет, нет, я не оставил фронт,
я не молчал, набравши воска в рот.
В борьбе эпох безжалостно, остро
разило недругов мое перо.
Но в жаре схваток, в суматохе дел
я побывать у друга не успел.
А мог бы… Слова не берут назад.
Сказал – исполни. Каюсь, виноват.
Забыл. Не знал о друге ничего.
И вот – письмо. Из Чуста. От него.
Письмо такое: «Молодец, поэт!
Выходит – честной, верной дружбы нет.
А ну-ка вспомни, кем я был, кем стал,
когда ты обо мне дастан писал?
На нищенском клочке, трудясь, как мул,
бесплодно, бестолково спину гнул.
На маслобойке, чтоб ей сгинуть, был,
последних сил лишаясь, масло бил.
Батрачил у Шарифа-кулака,
узнал, как доля рабская горька.
Ходи в отрепьях, в холоде ночуй.
Захочешь есть – давись, объедки жуй.
Потом, поэт, я встретился с тобой,
с надеждой, с новой встретился судьбой.
Ты и твои друзья сказали мне:
„Вступай в колхоз, трудись на целине“.
„Когда молотят на большом току —
охвостьев нет“, – внушили бедняку.
Я внял советам. А затем, поэт,
уехал ты, и всё – пропал и след.
А мы ведь, помнишь, в дружбе поклялись.
И не на час, не на день, а на жизнь.
Вот так-то, друг поэт… Раз пять иль шесть
случалось мне стихи твои прочесть.
Читал взахлеб. Но тут же, что скрывать,
ругал твое уменье забывать.
А дочка-говорушка Пахтаой
выпытывала: „Это кто такой?“
Ну ладно, друже, собирайся в путь.
Не прогадаешь, есть на что взглянуть.
Всё ветхое давно пошло на слом.
Как говорится, слоник стал слоном.
Колхоз в расцвете. Сыт, обут, одет.
Имамы не в почете, баев нет.
Жизнь бьет ключом. Наполнен каждый час.
Я убежден, что, побывав у нас,
ты сочинишь еще один дастан.
Ну, до свиданья. Жду. Твой друг Кукан».
Прочел я это, жарясь, как в огне,
как будто оплеуху дали мне!
Что возразить?.. Забыв про все дела,
я стал конем, грызущим удила.
В КОЛХОЗЕ
Вперед, верблюд желания, вперед!
Помаявшись, собрался я в поход.
Запасся крепким вещевым мешком,
взял флягу, хлеба взял, пошел пешком.
Свищу, пою, шагаю широко.
Прозрачен воздух, дышится легко.
Пускай привал далёко, ничего!
Приду, увижу друга моего.
Побуду, погощу, потом опять —
перо, бумага, чай… Писать, писать!
Но вот окончен путь. Передо мной
украшенный трудом простор земной.
Рядки, рядки – без края, без границ,
прямы как сорок девичьих косиц.
В коробочках упругих каждый куст.
Посмотришь – скажешь: в нитках
крупных бус.
Еще посмотришь – сразу видно, он
с любовью, с уважением взращен,
И все они, несметные, цветут,
стократно оправдав упорный труд.
Как зелень их чудесна, как сочна!
Ее краса красе небес равна.
А вот и те умельцы-мастера,
чья добрая забота так щедра.
Проворны руки их, верны сердца.
Их этот мир без края, без конца!
За пояс полы подвернув, идут.
Поют. Задорно, весело поют:
«Едут с хлопком караваны, яр, яр!
Бусы девушек багряны, яр, яр!
Кто живет без коллектива, яр, яр!
Тот не может быть счастливым, яр, яр!
Ароматом дышат розы, яр, яр!
Расцветает сад колхоза, яр, яр!»
Скорей, бодрей пошел навстречу я,
сказал: «Салам, не уставать, друзья!»
Обрадовались, тискают бока:
«Салам! Салам! Где пропадал, ака?
Как дети? Как семья? Здоров ли сам?»
– «Здоров, спасибо», – говорю друзьям.
«Ой, неужели это ты, Кукан?»
Едва узнал его. Усат, румян.
Пудов на пять детина. Грудь бугром.
Рубаха – ластик, голенища – хром.
Саженными шагами подбежал,
почти до боли крепко руку сжал.
Сказал с усмешкой ласковой: «Ну как?
Не будь письма, ты б не пришел в кишлак?
Работы, говоришь, невпроворот?
А здесь у нас забот не полон рот?»
Потом мы с ним пошли в руке рука
в колхозный клуб, что в центре кишлака.
Там был детишек целый караван.
«Они здесь временно, – сказал Кукан, —
мы строим для колхозных малышат
отдельные и ясли и детсад».
Тут к нам девчушка-крошка подошла,
за шею Куканджана обняла.
Туга, кругла, как золотой ранет.
Глазенки черные, чернее нет.
Кукан сказал ей: «Дядя – в гости к нам.
Знакомься, дочка, говори салам».
Как славно было на нее смотреть!
Свет глаз моих, как шелковая сеть,
окутал нежно с головы до ног
чудесный этот молодой росток.
Затем, когда мы вышли, Куканджан
вернулся вновь на полевой хирман.
А я, поотдохнув, решил пока
взглянуть на новый облик кишлака.
Да, много сделал Ленинский колхоз,
как в сказке, он три эти года рос!
На каменистых землях, на буграх
построил новый мир. Какой размах!..
Корыстный мир бесстыден и нелеп.
Где честные дела, там честный хлеб.
Вот цифры урожаев на щите —
свидетельство о сбывшейся мечте.
Сто, полтораста, двести шестьдесят…
Три года роста – доблести парад.
Да, тут умно организован труд.
Тут нету зря потраченных минут.
И здесь не на пуды, – на тонны счет.
Вот он, свободный труд, свободный взлет!
Но дальше, дальше!.. Новый скотный двор.
Стоят быки – красавцы на подбор…
Крутые лбы, прищур багровых глаз.
Породисты, надменны. Экстракласс!
А вот – крольчатник. Ух ты, сколько их —
молочно-белых, серо-голубых…
Но тут меня окликнули: «Салам!
Кукана видели? Надолго к нам?»
Я посмотрел – Халпош, его жена.
Но изменилась как! Бойка, полна.
На свадьбе, помню, стебельку под стать,
сидит, молчит, не смеет глаз поднять.
Теперь не то. Сказала тотчас мне
что трудится в колхозной ашхане,
что на обед Кукан придет домой
и будет очень рад поесть со мной.
«Прошу, не опоздайте!» – и ушла,
сославшись на служебные дела.
Я дальше зашагал. Увидел склад.
Мешки тугие, полные лежат.
Пшеница. Золотистое зерно.
Тут закурить мне захотелось, но,
случайным взглядом по стене скользя,
прочел я надпись: «Здесь курить нельзя!»
НОВЫЕ ЛЮДИ
Какие жители, таков кишлак.
Над сельсоветом вьется алый флаг.
Дома, как будто вышли на парад,
белым-белы вдоль улицы стоят.
Легенды блекнут, легендарна быль.
Здесь высились бугры, вихрилась пыль.
Но честного труда обильный пот
недаром пролил доблестный народ.
Тут каждый занят хлопком, стар и мал.
Для всех он тут заботой главной стал.
Ударничество здесь впиталось в кровь.
Здесь труд надежен и крепка любовь.
Кто скажет, что в колхозе этом есть
пятнающие трудовую честь,
летящие, как тля, из края в край,
чтоб ухватить побольше каравай?
Таких здесь нету! Здесь, гордясь трудом,
не покидают свой родимый дом.
Здесь на большое дело сплочены
не только для себя – для всей страны.
Спадает зной. Добреет, блекнет день.
Литого солнца золотой кетмень
всё ниже, всё краснее – и пропал.
Пылает горизонт, прозрачно ал.
Снежок луны украсил небосвод.
Гудит карнай, крестьян домой зовет.
И вот они идут, богатыри.
Их лица в алых отблесках зари.
Глаза ясны, задорно-звонок смех.
Тут все за одного, один за всех.
Им не нужны молитвы и мечеть.
Идут, поют… Давайте с ними петь.
«В пышных россыпях белого золота,
веселитесь и радуйтесь молодо.
Шире площадь хлопковых плантаций,
зерновые пускай потеснятся.
Вместо ветхих училищ-развалин
строим сотни просторных читален.
Вместе в поле мы, вместе за партами.
Нас ведет большевистская партия!»
Куда их путь? Дневной закончен труд.
Они сейчас в столовую идут.
Им хорошо. Смеясь, острот клинки
умело скрещивают остряки.
Да, о былом никто здесь не скорбит.
Культурно дело их, культурен быт.
Пришли, умылись. Тут царит Халпош.
К ней в ашхану неряхой не войдешь.
Заманчиво кипит-бурлит котел,
свежи скатерки, чисто вымыт пол.
Присели, распустили пояса.
С едой покончили за полчаса.
Тут встал один, вниманья попросил,
на общее собранье пригласил.
Сказал: «Вопрос ответственный, друзья,
откладывать его никак нельзя».
И все собрались в красной чайхане.
Пришел и я со всеми наравне.
ПЛАНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Про всё, что было там, от «а» до «я»
рассказывать сейчас не буду я.
Вопрос был в том, кого из этих мест
отправить в город на колхозный съезд, —
кто, эту честь большую заслужив,
доложит, как работал коллектив.
Что говорить, нешуточный вопрос!
Приходится задуматься всерьез.
А рапорт наш? Каким он должен быть?
Тут встал Кукан и начал говорить.
И что же? Признаюсь, его доклад
легко и просто дал мне шах и мат.
«Вот, – думал я, – как нужно тему знать,
чтоб легковесных строк не сочинять!»
И все, кто был тут, согласились с ним:
«Пусть рапорт будет именно таким!»
Видны в нем и сегодня и вчера,
он яркий уголь общего костра.
Но к делу, к делу! Хватит общих слов.
Доклад Кукана в целом был таков:
«В 31-м году у нас было 146 хозяйств, сейчас – 461 хозяйство.
В 31-м году у нас было 200 гектаров земли, в 33-м году – 978 гектаров.
В 31-м году мы получили с гектара 100 пудов урожая, в 32-м году —160 пудов, в 33-м году – по 200 пудов с гектара.
305 хозяйств обзавелись коровами и телятами.
В 31-м году на трудодень было выдано по 1 рублю 20 копеек и по 2 килограмма пшеницы.
В 32-м году колхозники получили по 2 рубля 15 копеек и по 5,4 килограмма пшеницы на трудодень.
В нынешнем 33-м году мы выдали на трудодень по 3 рубля 50 копеек и по 7,1 килограмма пшеницы.
Участие женщин в общественной работе достигло 90 процентов.
В 31-м году грамотных было 12 процентов, в 33-м году – 97 процентов.
63 процента наших работ механизированы.
125 хозяйствам мы построили новые дома».
Да, вот как вырос он – Кукан-батрак!
А были дни – боялся сделать шаг.
Всего три года минуло с тех пор,
как шел он разуму наперекор —
поверив, что колхоз – источник бед,
трусливо упирался: «нет» и «нет».
Всё то, что врали бай, торгаш, имам,
как жемчуга, подвешивал к ушам.
И все-таки – смотри – сумел батрак
покончить с нищетой, рассеять мрак!
Раскован разум, чист и прост язык…
Какого мудреца он ученик?!.
Не скрою, этот строй звенящих строк —
взволнованной души моей восторг.
Диктует их горячая любовь.
Все наши перемены, наша новь
не только в том, что сыты кишлаки,
что новых фабрик множатся гудки,
что ныне пашет землю не соха,
а мощные стальные лемеха.
Еще важней воздвигли зданье мы.
Расширили свое сознанье мы.
В бесклассовый, отрадно новый век
войдет свободный новый человек.
Вернусь к рассказу. Председатель встал
«Теперь приступим к выборам, – сказал, —
есть предложенье, чтоб на съезд от нас
поехали Кукан и Бекнияз».
Согласный шум, рукоплесканий шквал…
Избранники, достойные похвал,
с улыбкой встали, опустив глаза.
Все дружно проголосовали «за».
Так завершился день. Был поздний час.
Халпош давно уж поджидала нас.
ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР
Хороший дом был у него теперь.
Высокая двустворчатая дверь,
двойные рамы, деревянный пол…
Да, не зазря трехлетний срок прошел!..
В окно звездой жемчужной смотрит ночь,
тихонько спит в резной кроватке дочь.
Широкой ниши правильный овал.
Гора подушек, горка одеял.
Над дастарханом вьется легкий пар,
сопит блестящий белый самовар.
Лепешки белые, кишмиш, каймак…
Ну что ж, Кукан достоин этих благ.
Не просто он все беды превозмог,
сбивался с шага, точно стригунок.
Недоедал, недосыпал порой.
Без тени летом, без тепла зимой.
Теперь все эти муки позади.
Теперь пиявок он сорвал с груди.
В ряду борцов, борясь за нашу новь,
он шел вперед, пролив и пот и кровь,
и разгромил кулацкий вражий стан.
«Ну что же ты сидишь молчишь, Кукан?
Три года жизни не короткий срок.
Рассказывай, разматывай клубок».
– «Да, было всякое, – сказал Кукан, —
не сразу улетучился дурман.
Вот – курсы трактористов. Верь не верь,
я не легко шагнул за эту дверь.
„Вдруг это грех, вдруг покарает бог!..“
Пятнадцать дней отважиться не мог.
Ну, как-никак решился, поступил.
Сам иногда дивлюсь, каким я был.
Что дальше?.. Наконец, на трактор сел.
Как видишь сам, окреп, поздоровел.
Дела у нас с женой пошли вперед.
И то сказать, где труд, там и доход».
Он говорил о том, кем был, кем стал,
как бы тетрадь передо мной листал.
Как рос он, как менялся с каждым днем,
как чувство класса пробуждалось в нем.
И вдруг, рванув рубашку на груди,
сверкнул глазами, выдохнул: «Гляди!
Вот здесь, пониже. Как? Добротный шрам?..
От бая, от хозяина – салам!
Ужалил, змей! Актив и партбюро
пришли к нему отыскивать добро.
Позеленел, затрясся Шариф-бай,
сказал: „Смотри, щенок, не прогадай!“
А через день – за пазуху кинжал —
и в камышах на зорьке поджидал.
Я шел, стеречься не видал причин.
И вдруг как на колючку наскочил.
Успел узнать, успел схватить его…
А что потом – не помню ничего.
Очнулся на кровати, еле жив:
„Где мироед проклятый? Где Шариф?!“
Исчез Шариф. Искали – нет и нет!
И все-таки попался, мироед.
Он как хитрил? Усы, бородку сбрил,
очки потолще на нос нацепил.
Ушел от нас подальше налегке,
стал счетоводом в горном кишлаке.
Таился, притворялся целый год,
пока не разгадал его народ.
Да, здесь борьба порой была жестка,
немало мы повыжгли сорняка!..
Вот так-то…» – заключил рассказ Кукан.
Неторопливо расстегнул карман…
«Ну что, поэт, получится дастан?» —
и книжицу ударника достал.
«Смотри, – сказал он, посветлев лицом, —
вот знак того, каким я стал борцом.
Борцом за качество, за урожай,
борцом за то, чтоб цвел родимый край.
А знаешь, как живу? За прошлый год
на трудодень мне дали семь пятьсот!»
«Да, брат, – сказал я, – ты живешь не зря».
А за окном уже взошла заря.
Добротная, подобная горе,
корова замычала во дворе.
Запел петух, за ним – округа вся…
День трудовых свершений начался.
Кукана путь – десятков тысяч путь.
Рассвет, который вспять не повернуть.
В дастане этом – бой за счастье масс.
Герой дастана – победивший класс.
Наш мудрый вождь, наш авангард в борьбе
родная партия ВКП(б).
Поля сражений – грудь родной земли.
Всю грязь, всю нечисть мы с нее смели.
Сгорели звери баи, начадив.
Все страны мира слышат наш призыв:
«Эй, труженики, хватит вам терпеть,
вставайте, стройтесь, капиталу смерть!»
Друзья, не всё, что я хотел сказать,
мне удалось вместить в мою тетрадь.
Ну ничего! На съезде, будет час,
Кукан-ака дополнит мой рассказ.
1930–1933
Перевод В.Липко
ВЫШИВКА
Эта вышивка,
льющаяся, как ртуть,
сверкающая серебром
и позолотой, —
чью изнуряла
чистую грудь?
Чьих
рук
работа?
Чья печаль,
терпеливо втыкая иголку,
пришивала жемчужины
к этому шелку?
Жемчужины
на желтом пламени роз,
подобные каплям
скорбных слез…
Чей талант,
продав себя за копейку,
растрачивался
на эту тюбетейку?
Но кто же в мире
достиг идеала?
Взгляни
на рисунок
позорче.
Минусов тут
не так уж мало,
хоть в целом он
не испорчен.
Какая-нибудь рисовальщица,
старая-старая,
вывела старый
иракский узор.
Рука у нее была
усталая,
усталая с давних пор.
Вышивальщица
расцветку составила наскоро:
фисташковый,
желтый,
капустный…
А молодежи сейчас
нравится красное.
И – чтоб не прозрачно,
а густо.
Стежка
местами груба,
негожа,
околыш заметно великоват,
верхушка излишне остра…
Но кто же,
кто же тут виноват?
Рисовальщица?
Разве ее не простишь?
Много детей,
бессчетно внуков…
Начала узор —
заплакал малыш:
бросай кисточку,
иди баюкай.
С вышивальщицы тоже
спросишь не очень.
Дел по хозяйству
невпроворот.
За шитье берется
поздней ночью,
когда
весь дом
уснет.
Обстирай всех,
накорми всех.
Завтрак,
обед,
ужин…
А со стежальщицы
и вовсе
спрашивать грех:
вчера
похоронила
мужа…
Помню —
мы были тогда мальчуганами —
на улице бродили
плечистые парни,
задорные,
форсистые,
чванные —
один другого шикарней.
На каждом
по нескольку
поясных платков,
расшитые тюбетейки
набекрень.
Стучат подковками
высоких каблуков,
усами пронзают
солнечный день.
Старики на таких
смотрели, млея:
«Ах, красавец!
Ой, молодец!
Такой на улаке
всех одолеет.
Узнать бы,
кто у него отец…»
Сегодня
у нас
мера иная.
Сто лет жизни
этому
рабочему парню!
Руки в мозолях,
глаза пылают…
Первый на нашем заводе ударник.
В нем и достоинство
и удальство.
Он с другом вступил
в соревнование.
Металл оживает в руках его,
ревет,
как лев
раненый.
Других
рабочих парней
вдохновив,
он их повел
за собою,
и был ликвидирован
в цехе прорыв,
и план перевыполнен
вдвое.
А слышали вы
про его жену?
А слышали вы
про его сестру?
Им тоже
почет по праву,
им тоже
плечи выпрямил труд,
дал
и силу
и славу.
На фабрике
первые
среди ткачих —
талантливые,
искусные…
Побольше бы нам
девчат таких,
побольше бы нам
парней таких,
множащих
мощь
индустрии.
Нет,
не торчащие в небо усы,
не тюбетейка,
что ярко расшита, —
основа достоинства и красы,
основа
славы джигита.
Достоинство в том,
чтоб жену свою —
Кундуз,
Хайри,
Халпош,
Зульфию
освободить
от тяжких забот,
лишающих сил,
вгоняющих в пот:
от стирки,
варки,
от целого ряда
пустых суеверий,
нелепых обрядов.
Женщины!
Славьте
новый рассвет.
Старому быту
скажем «нет»!
Скиньте чачваны
позорные, черные!
Вас ожидают
квартиры просторные,
вам
радушно
откроют объятья
магазины готового платья,
вас
ожидают обеды
в новых,
незакопченных,
чистых столовых.
Ваших малюток
ясли ждут,
вас
фабрики ждут
и заводы.
Свободный
для общего блага труд —
бодрость
на многие годы.
Ваши способности,
сдавленные в клетке,
вбитые
в тюбетейки,
ковры,
пояса,
должны теперь
служить пятилетке, —
тогда засверкает
ваша краса.
Хватит!
Покончим
с наважденьем веков.
Пускай,
почетом и славой
увенчаны,
радуясь жизни,
цветут у станков
наши спутницы —
женщины.
Пусть им поют
заводские гудки.
Час пробужденья
светел.
Пусть
кумачовые их платки
вольный
ласкает ветер.
А вы,
тюбетеек расшитых любители,
в кепках рабочих
ходить не хотите ли?
1930
Перевод В.Липко
ЮЛДАШ1
Тала-Таш,
ты от мирного взора далек,
не дождаться дождя
с раскаленных небес.
Не играет река,
и последний листок
уронил
оголенный,
обугленный лес.
Кобылица не ржет,
и не блеет овца.
Всюду стон,
всюду боль,
всюду смерть
и беда —
им не видно конца.
Страх изводит сердца.
Камни катятся с гор.
Тяжек путь беглеца.
И мутнеет вода.
И от голода ноги
тяжелее свинца.
Как чинара, подрубленная топором,
рядом кто-то упал.
И погасли глаза.
Не смолкает орудий назойливый гром,
свирепеет басмаческая гроза.
По девичьим телам,
что еще горячи,
подгоняя коней
разъяренным бичом,
ошалело несутся в карьер
басмачи.
И сверкают подковы
над белым плечом.
Подогнулись колени.
Ноет тяжко спина.
А тела беглецов
точно сжаты в горсти.
Этих губ омертвевших
страшна
белизна.
О, как страшно во мраке
по кручам брести!
Помутнела от запаха пороха
кровь.
В обагренное небо
уставили взор..
Упадут,
подымаются,
валятся вновь.
Заплетен, как клубок,
бездорожья простор.
Сын теряет отца,
мать не сыщет детей.
Всюду тяжкая боль,
стон сжимает сердца..
Корку хлеба найди
и беги!
Жизнь свою береги,
сын, лишенный отца!
2
Обрывается камень
с угрюмой скалы.
Он Юлдашу послужит подушкой в ночи.
Стал ты жить меж развалин,
в объятиях мглы,
где бесформенной кучей легли кирпичи.
Все глухие углы,
все пустые котлы,
и сараи,
и пасть неостывшей печи
беспризорного манят приютом
в ночи.
Все холодные ветры
несутся к нему.
Он под снегом колючим
продрог и промок.
Он, как ножик в кармане,
уткнется во тьму,
и умолк, и затих,
и свернется в клубок,
навсегда предоставлен себе самому.
Каждый поезд на станции
подан ему.
Средь камней городских
он прирос, как грибок.
Ему пыльная улица —
школа и дом.
Там и дружбу
и скудную пищу
найдешь…
К непривычной судьбе
привыкает с трудом
беспризорный,
раздетый,
разутый
Юлдаш.
Он добытчик
чужих кошельков
и часов.
Он отличный бегун,
и насмешник,
и лгун.
Виноград
и урюк
он хватает с весов,
а, попавшись, —
из рук
ускользает, как вьюн.
По бутылкам стучит,
как по тысяче струн.
И танцует,
и свищет на сто голосов;
любит фокус и трюк,
хоть отчаянно юн.
И уздечки ворует
с коней и ослов.
Озорник.
Над красоткой
с накрашенным ртом
посмеяться умеет
и остро и зло.
Он в подвал опустевший
вползает кротом,
он нырнет в подворотню,
как птица в дупло.
Озорней
и грязней
паренька не найти.
О, как просто в те годы
было сбиться с пути!
Так бы жил он
и жил,
бедовал,
не тужил…
Но нежданно
облаву
затеял детдом.
И, забытый подвал
в темноте окружив,
молодых сорванцов
к новой жизни позвал.
3
Сколько ласковых глаз,
сколько бережных рук
удивленный Юлдаш
в интернате нашел!
Сколько верных друзей,
сколько славных подруг!
Как легко здесь дышать!
Как тут жить хорошо!
Всё настойчивей
звонкое пенье пилы,
перестук молотков
и удар топора.
Как светлы
все углы,
нет ни пыли,
ни мглы.
За работу
берется с утра
детвора.
Здесь простор
для души
и простор для ума.
Здесь не надо стучаться
в закрытую дверь.
Страсть к работе
в сознание входит сама, —
всё осмысли,
осиль,
изучи
и проверь…
4
Мне хотелось бы дать
долгожданный покой
всем,
кто эти страницы
упорно листал,
кто читал
эту повесть
строка за строкой
и читать ее
без передышки
устал.
Много времени
поваром я прослужил
в интернате,
где вдруг очутился Юлдаш.
Я Юлдаша любил,
я с Юлдашем дружил.
А потом
я работать пошел
на «Сельмаш»
и Юлдаша всё реже и реже
встречал.
Боевой комсомолец
семнадцати лет,
он с азартом
себя к ремеслу приучал.
Большей радости нет,
чем встречать свой рассвет
так, чтоб голос твой
в хоре согласно звучал.
Он текстильщиком был.
Нерастраченный пыл
в этом юноше
ни на минуту не гас.
Неужели
меня он уже позабыл?
Где он трудится?
Где веселится сейчас?
Уж давно
не слыхал я о нем ничего.
Хоть бы меньше комарика
весточку вдруг
мне прислал как-нибудь мой
исчезнувший друг.
Но пришла наконец
долгожданная весть:
в Самарканде Юлдаш.
Он примерный боец.
Защищает он Родины славу и честь.
Храбреца не смутят
ни басмачский свинец,
ни внезапный огонь.
Ты границ наших,
враг зарубежный,
не тронь!
У Юлдаша
награда высокая есть —
символ
верных,
бесстрашных
и честных
сердец.
Орден Красного Знамени
золотой
на груди его
яркой сверкает звездой.
5
Годы шли,
но Юлдаша отец не забыл.
В годы голода,
в пору басмаческой мглы,
от селенья к селенью
он в горе бродил.
Борода его стала
вроде метлы.
Стал на вид он
как выходец
из могил.
Не на посох
склоняться бы старику,
а в объятья упасть
к дорогому сынку.
Слаб он стал
и беспомощен,
словно «дал»;
он Юлдаша искал,
он к Аллаху взывал
и, заслышав азан,
бормотал он Коран.
«Вы Юлдаша не видели?» —
говорил.
Вопрошал у людей,
у камней,
у могил.
И однажды обрадовали старика:
в Самарканде видали его сынка.
Сердце
словно согрето чудесным лучом.
Он спешит к Самарканду,
надеждой влеком.
6
Как в наряде военном
хорош
первоклассный боец,
наездник Юлдаш.
Ровно выстроены в ряд
скакуны.
Это красная конница,
гордость страны.
И, как признак того, что боец не трус, —
у каждого закручен
буденновский ус.
Эта армия
дружит с победой всегда.
Ее слава и подвиги высоки,
дисциплина тверда.
За Отчизну труда
постоянно
готовы к атаке клинки.
Если б не были спаяны
чувством единым
эти крепкие,
словно литые, ряды,
враг вошел бы
в твой дом,
надругался б над ним,
и никто бы не спасся
от лютой беды…
И ни я,
и ни вы
не снесли б головы.
Средь несчетных бойцов
как отыщешь сынка?
Застилает туман
глаза старика.
Точно бисер,
слезинки
роняют глаза.
Словно в блестках росы
борода у отца.
Только вытрет слезу —
набегает слеза.
Сотня славных Юлдашей
стоит перед ним.
Он смотрел бы на всех
добрым сердцем своим.
Вот он руки раскинул —
Юлдаша обнять —
и с улыбкой шагает
вдоль стройных рядов.
«Нет, не этот Юлдаш,
и не тот!»
И опять
он любого обнять
по-отцовски готов.
Жеребенка он ищет
среди жеребят,
соколенка,
что выпал
давно из гнезда,
ягненка, с которым
разлучила беда.
«Ваш Юлдаш на посту, —
старику говорят, —
а с поста
отлучаться нельзя никому».
«На посту?
Что за пост,
не пойму.
Я военного
не изучал языка.
Поспешите к нему,
пусть Аллах успокоит
отца-старика,
пусть скорей приведет
дорогого сынка».
Но смеются джигиты:
«Аллах ни к чему,
вы пойдите-ка сами
к сынку своему.
Вон стоит ваш Юлдаш
на почетном посту,
но к нему
приближаться нельзя никому».
– «Что ж он будет стоять
от отца за версту!
Даже если б гора
преграждала мне путь,
я пройду сквозь нее,
чтобы к сыну прильнуть,
чтоб склониться скорей
на сыновнюю грудь,
чтоб дыханье сыновнее
глубже вдохнуть,
чтоб с любовью
в родные глаза заглянуть.
Почему не могу я
к нему подойти,
чтоб навеки забыть
все печальные дни,
все чужие дома,
все чужие огни,
кишлаки,
где сыночка
мечтал я найти?»
И, не выдержав,
крикнул он громко:
«Сынок!»
И, живого волненья полно
и тепла,
это слово
к Юлдашу летит,
как стрела.
И в груди возникает горячий комок.
И, за словом своим
поспевая едва,
прямо к сыну
спешит удивленный отец.
Весь в слезах он,
и кругом идет голова:
«Неужели
нашел я тебя наконец?
Почему же, Юлдаш,
ты упорно молчишь?
Может, саблей тебе
отрубили язык?
Как высок ты
и статен,
мой смуглый малыш!
Почему ж ты молчишь?
Ты отвык
от меня?
Подойди,
положи мое сердце
себе на ладонь.
Как трепещет оно
и пылает в груди,
что огонь!»
– «Милый, добрый отец, —
отвечает Юлдаш наконец, —
я вас вижу, но я подойти не могу,
я стою на посту».
– «Что ж, мне так и стоять
от тебя за версту?»
В старом сердце
опять воцаряется мгла…
Но отходчиво
и незлобиво оно, —
то звенит,
как надтреснутая пиала,
то отцовского счастья
и света полно…
Все обиды отец
поутру позабыл,
он с Юлдашем стоит
на военном плацу.
Проявляя живой,
нерастраченный пыл,
с увлеченьем Юлдаш
объясняет отцу:
«Этой самой винтовкой
своей боевой
я немало в бою
уложил басмачей.
Поплатились
семнадцать из них головой.
В наш сияющий край
не проникнуть врагам.
Им от конницы нашей
не скрыться нигде.
Погляди-ка
на мой безотказный наган:
он со мной,
под рукою
всегда и везде.
Этим верным наганом моим
поражен был убийца детей Ибрагим!»
И старик,
удивленный Юлдашем своим,
говорит:
«Ой, сынок,
не погибни от пули шальной.
Будь я молод,
неплохо нам было б двоим
поработать
испытанной шашкой стальной,
рассчитаться с врагом,
в клетку вора загнать,
чтоб лисе неповадно
было кур воровать».
7
Славься, кровью вспоенное
знамя труда!
Развевайся
горячей зарей на ветру!
Пусть
с пятью остриями наша звезда
озарит
вековечную темноту.
Не сломить,
не осилить
великой страны,
где джигиты, Юлдашу подобные,
есть
для труда и войны.
Как один, сплочены,
мы всегда отстоим
нашей Родины честь.
Не возьмут нас
ни ложь,
ни угроза,
ни лесть.
Мы своей величавой Отчизне
верны.
Светит
алое знамя ее
с вышины,
как живая заря,
как победная весть.
1933
Перевод Л.Длигача