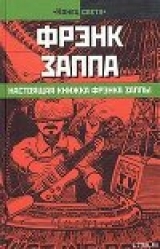
Текст книги "Настоящая книжка Фрэнка Заппы"
Автор книги: Фрэнк Заппа
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
ГЛАВА 8. Только о музыке
Информация – еще не знания, знания – еще не мудрость,
мудрость – еще не истина, истина – еще не красота,
красота – еще не любовь, любовь – еще не музыка.
Музыка превыше всего.
Фрэнк Заппа, «Гараж Джо», 1979.
Папа, ты кем работаешь?
Задай мне этот вопрос кто-нибудь из моих детей, ответ был бы таков: «То, над чем я работаю, называется композицией». Но так уж вышло, что я пользуюсь любым материалом, кроме нот.
Композиция – это процесс создания системы, очень похожий на зодчество. Если умеете этот процесс осмыслить, можете стать «композитором» в любой сфере.
Вы можете стать «видеокомпозитором», «кинокомпозитором», «композитором-хореографом», «композитором в социальной инженерии» – кем угодно. Дайте мне что-нибудь, и я вам приведу его в систему. Вот кем я работаю.
Общую концепцию моей работы с различными средствами выражения я обозначаю термином «Проект/Объект». Каждый проект (в любой сфере), или связанные с ним интервью, является элементом большого объекта без «специального названия».
Связующий материал в Проекте/Объекте можно представить так: писатель придумывает персонажа. Удачный персонаж начинает жить собственной жизнью. К чему ограничиваться одной компанией? Он в любой момент может возникнуть в будущем романе.
Или: Рембрандт добивался отображения собственного «видения», всюду подмешивая коричневую краску – в его «красном» непременно имеется примесь коричневого. Сам по себе коричневый не так уж замечателен, но именно в результате Рембрадтовской мании и явилось то самое «видение».
Что касается Проекта/Объекта, можно обнаружить то «пуделя», то «отсос» и т. д. и т. п. Это вовсе не значит, что я одержим «пуделями» или «отсосами»; эти слова (как и прочие, столь же малозначащие), наряду с яркими образами и мелодическими темами, то и дело встречаются в альбомах, интервью, кинофильмах, видеоклипах (и в данной книге) лишь затем, чтобы свести воедино всю «коллекцию».
Рама
В искусстве всего ценнее Рама. В живописи – в буквальном смысле; в других видах искусства – в переносном, поскольку без этого простенького приспособления вы никогда не узнаете, где кончается Искусство и начинается Реальный Мир.
Все должно быть заключено в «коробку», иначе что это за дерьмо на стене?
К примеру, если Джон Кейдж говорит: «Я прижимаю к горлу контактный микрофон и пью морковный сок – это моя композиция», – то получившееся бульканье с полным основанием считается его композицией, потому что он заключил его в рамку и так сказал. «Как хотите, но я желаю, чтобы это было музыкой». Все остальное – дело вкуса. Без объявленной заранее рамки останется лишь парень, глотающий морковный сок.
Итак, если музыка превыше всего, что же такое музыка? Музыкой может быть что угодно, однако ничто не станет музыкой, пока кто-то этого не пожелает, а слушатели не решат воспринимать это как музыку.
Большинство людей с такой абстракцией жить не могут или не хотят. Они говорят: «Дайте мне мелодию. Мне эта мелодия нравится? Напоминает она другую мелодию, которую я люблю? Чем она более знакома, тем больше она мне нравится. Слышите эти три ноты? Эти три ноты я могу напеть. Мне очень, очень нравятся эти ноты. Дайте мне ритм. Незатейливый. Дайте мне ХОРОШИЙ РИТМ, под который я смогу танцевать. Он должен быть таким: «бум-бап, бум-бум-БАП». Если он будет не таким, мне он очень-очень не понравится. И еще он нужен мне прямо сейчас, а потом напишите мне еще таких же песен, и еще, и еще, как можно больше, я ведь и вправду торчу от музыки».
К чему трудиться?
Я любил рисовать на нотной бумаге черные кружочки. По шестнадцать часов кряду я горбился в кресле, макал перо в тушь и выводил палочки и точки.
Ничто не могло выманить меня из-за стола. Я, может, вставал перекусить или выпить кофе, но в остальном на недели, а то и на месяцы прирастал к креслу и писал музыку.
Мне страшно нравилось, потому что музыка звучала у меня в голове, и я все твердил себе, что мои творения – просто первый сорт.
Сочинять музыку и слышать ее в голове – совсем не то, что просто слушать.
«Музыку на бумаге» я больше не пишу. Стимул пропал, когда мне пришлось столкнуться с симфоническими оркестрами.
Антропология симфонического оркестра
По своему богатому опыту дирижера, солиста оркестра и простого слушателя я знаю о всеобщем и повсеместном злоупотреблении властью, зависящем от того, в чьи руки она отдается в данный момент. Оркестр, осознающий свою власть над дирижером, к которому он может испытывать неприязнь по любой причине, от отсутствия музыкальности до простой необщительности, нередко пользуется этой властью так же безжалостно, как и дирижер, употребляющий власть лишь потому, что ему не нравится цвет лица скрипача или как тот сидит во время игры. Ученые мужи могут сколько угодно рассуждать об «авторитете» дирижера, о его «работе с палочкой» и «знании партитуры», но в действительности управление оркестром осуществляется чаще всего на куда более прозаической основе экономических отношений.
Оскар Левант, «К вопросу о невежестве» (1942).
По утверждению некоторых критиков, я занимаюсь извращенной формой «политического театра». Может, двадцать-тридцать процентов моих текстов подобные темы и затрагивают – остальную же мою деятельность можно, не рискуя ошибиться, описать как «любительскую антропологию».
К примеру, когда настоящий антрополог изучает племя, он должен съесть миску червей, напялить юбку из травы и сойти за своего. Со мной было нечто подобное, когда я ошивался в «Мадд-клубе», а еще – когда работал с симфоническим оркестром.
Музыканты, играющие на струнных, – одно племя; на медных духовых – другое; на деревянных духовых – третье, оно подразделяется на «кланчики». (Мозги гобоиста отличаются от мозгов кларнетиста, которые отличаются от мозгов флейтиста, а те, в свою очередь, – от мышления фаготиста.) Ударники – и вовсе особое племя.
Внутри этих племен и подплемен я обнаружил специфические заботы – к примеру, струнные больше всех в оркестре переживают из-за своей пенсии.
У скрипачей, по-видимому, особые тяготы, виолончелистов не затрагивающие. Чтобы научиться играть на скрипке, требуется много времени, – и что вы получаете в награду, изрезав себе все пальцы? Стул в девятнадцатом ряду и пиликанье всех нот подряд в поте лица, а какой-нибудь малый, которому лучше удаются политические интриги (или отсосы), сидит на стуле номер один и прибирает к рукам все клевые сольные партии.
Большинство альтистов – неудавшиеся скрипачи. Лишь немногие выбрали альт из любви к нему – большинство попросту понизили в должности. Это еще в начальной школе происходит. (Прижимать подбородком массивный альт ребенку не так-то просто – иногда выходит нелепая осанка.) Тех, кто не вписался в скрипичную группу, изгоняют в страну альтов.
На мой взгляд, у флейтистов и арфисток такой скверный характер, потому что им приходится исполнять заоблачную ангельскую музыку. Валторнисты также весьма высокомерны – они вынуждены играть дерьмо, пригодное разве что для выпускных вечеров.
Литавристы? Куда там – они себя считают «особенными», поскольку их ударные способны издавать звуки различной высоты. (Замещать литавриста не разрешается ни одному ударнику оркестра – на литаврах играет только литаврист.)
В школе мне попался учебник, где тромбонисты описывались как «оркестровые шуты» (поскольку автора сверх меры забавляло, что взрослый человек зарабатывает на жизнь, двигая взад-вперед смазанную трубу и оставляя под стулом лужи слюны).
Когда Шенберг ввел в современную оркестровку тромбонное глиссандо, глубоко оскорбленные критики объявили, что звук этот непристоен, а значит, для концертных залов неприемлем.
Музыканты, играющие на определенных инструментах, не выносят, когда их сажают рядом с музыкантами, играющими на других инструментах, поскольку звучание тех оскорбительно. Пребывая в Оркестровой Стране, я смотрел на этих людей и на их инструменты, пытаясь понять, что за неведомые силы их подтолкнули к такому выбору.
В отношении скрипки у меня создалось впечатление, что это попросту семейный инструмент (как в итальянских семьях, где беспомощных детей насильно подчиняют аккордеону), и человек вынужден учиться на ней играть.
Думаю, не так уж много случаев, когда родители требуют, чтобы дети учились играть на ударных. То же касается фагота. Мало кто из родителей мечтает о том дне, когда малыш Уолдо очарует соседей, дуя в коричневую штуковину с железякой на боку.
Фагот – один из моих любимых инструментов. Есть в нем нечто средневековое – как в те времена, когда такие звуки издавало все. Некоторые одержимы бейсболом, что, по-моему, непостижимо, но я хорошо понимаю человека, которого волнует игра на фаготе. У фагота бесподобный звук – ни из одного инструмента такого не извлечешь.
Я не думаю, что музыканты сразу же начинают беспокоиться, «как я буду зарабатывать на жизнь игрой на этой штуковине?» Их очаровывает звучание инструмента, и со временем они мутируют в жертв «поведенческих традиций».
Мы ненавидим ваши точки
Когда композитор передает партитуру в оркестр, в большинстве случаев смотреть на нее никто не желает. Вам не понять всего ужаса этой процедуры, если вы сами не переписывали партитуру вручную: если вам не приходилось месяцами (а то и годами) сидеть и рисовать точки.
Процесс составления партитуры – нескончаемый труд. Вы утыкали точками сотни страниц, проверили, не ошиблись ли где, а затем кто-то должен переписать партии.
На каждой странице партитуры дирижеру сообщается, что в каждый момент должен делать каждый музыкант оркестра.
На вычерчивание одной страницы полной оркестровой партитуры на сорок пять секунд исполнения порой тратится до шестнадцати часов.
Прежде чем оркестр сможет исполнить то, что вы написали, переписчик надевает зеленый козырек от света, закатывает рукава и говорит: «Ну что ж, возьмемся за карильон». Он смотрит в партитуру и выписывает оттуда лишь то, что необходимо делать мистеру Карильону, мгновение за мгновением, до самого конца. Потом он принимается выписывать каждое мгновение указаний мистеру Колоколу – и так далее, для каждого инструмента в оркестре.
За это переписчик получает деньги – много денег. Кто платит? Разумеется, композитор.
У меня в подвале есть чулан, битком набитый оркестровыми партитурами, – итог почти пятилетних трудов пяти штатных переписчиков. Выплаченное за это время жалованье составило около трехсот тысяч долларов, и после всего этого услышать хоть одну вещь я мог, лишь потратив еще более крупную сумму, чтобы нанять оркестр для ее исполнения.
Благодаря песням типа «Дина Mo-шум», «Титьки и пиво» и «Не ешь желтого снега» мне удалось набрать деньги на подкуп компании тунеядцев, которая с превеликим трудом исполнила «Каникулы Мо и Херба», «Боба в дакроне» и «Дутое великолепие» (впоследствии выпущенные на альбомах «Лондонский Симфонический оркестр, части I и II») на концертах, по звучанию напоминавших первоклассные «пробные записи» того, что в действительности содержится в партитурах. Как вышло, что мне пришлось обратиться к услугам этих молодцов? Ну, это длинная история…
Оркестровая глупость № 1
В 1976 году организаторы наших рок-представлений в Австрии («Штиммунг дер Вельт») предложили мне дать концерт с Венским Симфоническим. Я согласился. Два-три года отрабатывались детали соглашения, потом началась непосредственная подготовка к концерту. Финансировать его должны были городские власти Вены, Австрийское радио и Австрийское телевидение, не считая немалых затрат с моей стороны (написание партитур и партий).
Когда было официально объявлено о предстоящем концерте (кажется, в июне или в июле), письменного договора с вышеперечисленными правительственными организациями еще не существовало. Как выяснилось, человек с Австрийского телевидения, обещавший ассигновать 300 000 долларов (которые покрывали расходы на трехнедельные репетиции, доставку нашей аппаратуры, перелет и размещение музыкантов и технического персонала, а также их жалованье – мне за все это не платили), на самом деле не имел на это полномочий, и начальство известило его, что сумма уже вложена в другие телепроекты. Оставшиеся спонсоры еще готовы были внести деньги, однако пропавшие 300 000 долларов требовалось получить из другого источника.
Мой менеджер вылетел в Европу и почти месяц лихорадочно метался по всему континенту, пытаясь набрать недостающую сумму. Тщетно. Учитывая его переезды, питание, гостиницы и межконтинентальные телефонные переговоры плюс затраты на переписчиков (не говоря уже о тех двух-трех годах, что я потратил на сочинение музыки), к моменту отмены концерта я уже истратил 125 000 долларов наличными.
Оркестровая глупость № 2
Вторая история такова: в 1980 году в Амстердаме директор Голландского фестиваля пришел ко мне в гостиницу и сообщил, что организаторы хотят устроить «специальное исполнение моей оркестровой музыки» с участием «Резиденти-оркестра» (из Гааги), а также исполнение других вещей, поменьше, Нидерландским духовым ансамблем – все эти концерты состоятся в рамках «специальной недели» фестиваля.
Я сказал ему, что уже получал подобные предложения в прошлом (включая одно от Симфонического оркестра Осло, чьи музыканты решили, что репетиции удастся впихнуть в два дня), и в красочных выражениях поведал венскую историю.
Я сказал, что было бы просто чудесно услышать музыку на концерте, но поскольку ее довольно много, а материал весьма сложный, я не намерен обсуждать этот вопрос, если не гарантируются по меньшей мере трехнедельные репетиции, и никоим образом не собираюсь больше вкладывать в подобные замыслы собственные деньги.
Он меня заверил, что они жаждут воплотить замысел в жизнь, вопрос о графике репетиций можно утрясти, и мало того – ВСЕ РАСХОДЫ они берут на себя!
Голландский фестиваль вложил сумму, в пересчете составившую 500 000 долларов. Были заключены соглашения с «Си-Би-Эс» на запись и выпуск пластинок, наняты новые переписчики, наняты музыканты из Соединенных Штатов для исполнения партий, подлежащих звукоусилению, нанят технический персонал для ухода за аппаратурой (концерт должен был состояться в зале на восемь тысяч зрителей) и объявлено рок-турне по Европе (для частичного покрытия расходов на перевозку аппаратуры и жалованье приглашенным американцам – я снова работал бесплатно) – и все это в качестве подготовки к очередному летнему оркестровому концерту, который ждала печальная участь его предшественника.
Что произошло? Ну, для начала рассмотрим экономическую сторону подобного проекта. В нем участвует множество музыкантов, и всем нравится получать деньги (это еще мягко сказано). Кроме того, поскольку требовалось звукоусиление, нужна специальная аппаратура, чтобы звучание в зале вышло как можно чище. (Зал назывался «Ахой» – чудесный образец голландской закрытой арены для велосипедных гонок с бетонным полом и круглым наклонным деревянным треком). К тому же намечалась запись музыки, требующая дополнительных затрат на аренду аппаратуры, жалованье звукооператоров, дорожные расходы и т. д. и т. п.
Деньги, выделенные голландским правительством, покрывали расходы на жалованье голландским музыкантам за репетиции и концерт, а также стоимость аренды репетиционного зала. Все прочие расходы, как водится, моя забота.
Я должен был найти способ оплатить аппаратуру для звукозаписи, услуги звукооператора, сеансы записи (сверх платы за концерт) и всю дальнейшую подготовку альбома к выходу в свет (монтаж, оформление и прочее). После подписания договора с «Си-Би-Эс» эта проблема решилась.
Далее: как оплачивать репетиции и дорожные расходы американским музыкантам, а также их жалованье за концертное выступление? Мы выкрутились, наметив четырехнедельное рок-турне между первыми репетициями оркестра (неделя до 20 апреля) и всеми остальными (вторая половина мая, перед самым началом концертов).
Группе, которую я намеревался привезти из Штатов, предстояли в общей сложности семнадцать недель работы – в основном репетиции, не считая четырех недель рок-концертов, одной недели концертов с оркестром и пяти дней записи. Девять человек в группе, каждому за семнадцать рабочих недель заплатят 15 000 долларов плюс дорожные расходы, питание, гостиницы и так далее.
Незадолго до начала репетиций в Соединенных Штатах Винни Колаюта и Джефф Берлин позвонили нам в контору и попытались заключить тайные сделки о повышении жалованья им лично, сказав при этом: «Остальным не говорите».
Услышав об этом, я решил обойтись на концерте без электроинструментов и тем самым сэкономить немало времени и кучу денег на переезды музыкантов, а заодно избавиться от хлопот с репетициями. В силе оставались планы выступлений чисто акустического оркестра в менее вместительных залах. Оставались в силе и планы записи альбома… пять дней записи после концертов.
Примерно через неделю после неудачного налета американских музыкантов в нашу контору пришло письмо от руководителя «Резиденти-оркестра». Кроме всего прочего, там говорилось, что оркестровый комитет (группа музыкантов, которая представляла членов оркестра в спорах с администрацией) нанял адвоката и готов начать переговоры о гонораре, полагающемся ИМ за запись пластинки.
Поскольку я уже получил в «Си-Би-Эс» деньги для выплаты им по соответствующей таксе, подобное требование было попросту нереальным: я никогда не слышал, чтобы музыканты требовали от композитора отчислений за исполнение написанных им произведений, и мне показалось нецелесообразным создание опасного прецедента, который мог повлиять на заработки других композиторов, вынужденных потакать этому сборищу алчных ремесленников.
Вскоре директор оркестра и тот организатор Голландского фестиваля, который предложил всю затею, прилетели в Лос-Анджелес, чтобы окончательно утрясти все детали.
Они явились ко мне домой около полуночи. Примерно в половине второго я заявил, что у меня нет ни малейшего желания видеть их жалкий продажный ансамбль, и я ни при каких условиях не разрешу им исполнять мои произведения. Они довольно поспешно удалились.
Некоторое время спустя было установлено, что все эти межконтинентальные забавы довели мои «вложения в серьезную музыку» примерно до 250 000 долларов, а я так и не услышал ни единой ноты.
Итак, вот они, народ… две оркестровые глупости: умозрительный двойной концерт для неслышных инструментов на двух материках, великолепно исполненный самыми выдающимися музыкантами нашего времени.
Фрэнк Заппа, журнал «Мьюзишн» № 36, сентябрь 1981 года.
Извлек ли я урок? Куда там!
Для всех, кто когда-либо считал меня тупицей (если не хуже), данный раздел станет лишним подтверждением их правоты. Голландскую сделку благополучно похоронили, и на горизонте замаячила еще одна… в Польше… более того, с двумя разными оркестрами в Польше и с одним неизменным результатом: МУЗЫКИ НИКАКОЙ – ЗАТРАТЫ ОГРОМНЫЕ. Так или иначе, в конце концов, я сказал: «От этих европейских оркестров – сплошной геморрой».
В большинстве проектов участвовали власти – когда муниципальные, когда государственные, – то есть проект предлагали «официальные лица», которые якобы и должны были за него платить.
Тогда-то я и решил взять быка за рога, самому за все заплатить и поработать с Настоящим Американским Оркестром.
Мы заключили соглашение с Сиракьюзским Симфоническим. Наметили дату: 30 января 1983 года в Линкольн-центре. Музыка должна была исполняться и записываться в Соединенных Штатах.
Так или иначе, ПОСЛЕ заключения договора кому-то из «руководящих кругов» Сиракьюзского Симфонического пришло в голову УДВОИТЬ согласованную плату с помощью целого свода маловразумительных «правил местного профсоюза». Сиракьюзцы назначили себе цену куда выше рыночной.
Поэтому я сказал – точнее, на сей раз уже закричал: «нахуй! Я не намерен подчиняться каждому сумасшедшему вымогателю из американских профсоюзов!» – и решил нанять оркестр «Би-Би-Си» (или равный ему по уровню) в Англии. Мы позвонили в оркестр «Би-Би-Си». Он был ангажирован на пять лет вперед.
Это был как раз подходящий оркестр, поскольку он специализировался на современном репертуаре. НО он был занят. Поэтому мы позвонили в Лондонский Симфонический – и сначала там ответили, что ОНИ тоже заняты.
Они как раз заканчивали фонограмму к фильму и намеревались взять двухнедельный отпуск, а потом приступить к записи ЕЩЕ ОДНОЙ фонограммы.
А Лондонский Симфонический оркестр целиком и полностью зависит от музыкантов – это «кооператив». ОНИ решают, кто станет дирижером и что они будут играть. Когда им предложили мой план, они проголосовали за него и за отмену отпуска, поэтому я взялся за дело. После тридцатичасовых репетиций мы отыграли один концерт и приступили к записи.
Первое незначительное бедствие: не удалась задуманная схема размещения музыкантов. Помещение, которое мы сняли, оказалось меньше, чем на присланном мне плане (на чертеже отсутствовал стационарный киноэкран, отобравший у нас восемь футов в глубине сцены), и пришлось подыскивать для записи другое место.
Мы обзвонили все «крупные концертные залы» – везде заранее наметили какое-то рождественское дерьмо. Попробовали залы помельче – та же фигня. Свободных нигде не было, и мы остановились на «Туикнэм» (киностудии, где раньше снимали фильмы про Джеймса Бонда) с устаревшим павильоном звукозаписи и никуда не годной акустикой.
Там хватало места для ста семи музыкантов, но звучало все чудовищно. Короче, мы принялись рассаживать оркестр. Нам предстояло сделать первую в истории мультиканаль-ную цифровую запись симфонического оркестра.
Но до записи мы обязаны были выступить с «концертным исполнением», дабы не нарушать требований союза насчет репетиций (см. главу 7 «Боже, храни околесицу»).
Катастрофа как она есть. Лондонский Симфонический дает концерты в омерзительно «современном» зале «Барби-кэн». Сцена слишком маленькая, оркестр в полном составе не умещается, компанию музыкантов (главным образом альтистов) приходится отправить по домам, предварительно им заплатив.
В «Барбикэне» имелось уникальное место – буфет за кулисами для членов оркестра. Бар неплохо снабжался и работал весьма эффективно. У оркестра была возможность наклюкаться там в наносекунды. В антракте Лондонский Симфонический покинул сцену и воспользовался услугами этого замечательного заведения. Вернувшись к следующему произведению, многие совсем спеклись, как, впрочем, и моя музыка.
Запись Лондонского Симфонического
Настал черед записи. Пытаясь забыть, что произошло накануне вечером, я надел продюсерский шлем и приготовился опровергать законы физики.
Сначала валторны (восемь штук). Мы поставили к ним несколько «Телефункенов Ю-47», но все тщетно.
Вся беда в ударных (шесть отдельных установок), размещенных в тылу, – рассеивалась уйма звука. Даже с жесткой кардиоидной моделью по полу катались сгустки низкочастотной каши, поэтому я сказал: «Я раньше никогда не цеплял к валторне МПД (микрофон – приемник давления), но что мы теряем?» Мы взяли большой «2 1/2», поставили его на пол позади валторнистов – получилось.
Высоко над литаврами болтался КМ-84. Махнув на него рукой, мы, чтоб увеличить контур одной из пластин МПД, взяли плексиглас 4x4 фута, прислонили его к стене за литаврами и добились великолепного звука.
Для каждого инструмента мы использовали Положенные Микрофоны, но при акустических свойствах этого отвратительного помещения микрофоны попросту не работали. К примеру, мы подвесили над дирижерским пультом два АКГ-414 для более объемного звучания, но получился только неприятный комнатный звук, типа: «Эй, хотите послушать кондиционер? Милости просим».
Музыканты хотят, чтобы их инструменты звучали (по меньшей мере) ВЕЛИКОЛЕПНО, – они пишутся уже долгие годы и привыкли видеть массивные, серые, серьезные микрофоны. («Ух ты ж блин! Только посмотрите! С таким микрофоном я буду звучать БЕСПОДОБНО!») ПОТОМ является кто-то, вешает у них над головами пластиковый свод с МПД, и они давай хныкать: «МОЙ ТЕМБР! МОЙ ДРАГОЦЕННЫЙ ТЕМБР! У меня же будет ПЛАСТМАССОВЫЙ звук!»
Оркестр уже выпустил когти – обстановка резко отличалась от той, в которой он привык работать. Не концертный зал, а захудалый, пыльный павильон. Не БОЛЬШОЙ СЕРЫЙ МИКРОФОН, а пластиковый пузырек над головами (или кусок пластиковой коробки на полу). Не СЕРЬЕЗНЫЕ ТОЛСТЫЕ ПРОВОДА, а КРОШЕЧНЫЕ ПРОВОДОЧКИ. Обо все эти штуковины немудрено было и споткнуться (тем более, раз музыканты так любили алкоголь).
Микширование Лондонского Симфонического
При записи объемного звучания в помещении всегда образуется такой как бы «СГУСТОК». Он бывает и плохой, и хороший. Чем больше стереопар при объемном микшировании, тем вероятнее вы станете свидетелем «АККУМУЛИРОВАНИЯ СГУСТКА».
В процессе записи надо было уравновесить звучание, чтобы выделить диапазон, в котором играет инструмент, и одновременно нейтрализовать сгусткообразование. В данном помещении ОПАСНАЯ ЗОНА располагалась на 200 и 63 Гц. Обе частоты следовало убрать.
При микшировании, в качестве частичной компенсации за безобразное помещение, мы решили рассматривать каждый музыкальный фрагмент как отдельный «ЭПИЗОД», причем каждый такой «ЭПИЗОД» мог происходить в любой воображаемой среде под его настроение (вроде сценического света). Тут-то МЕРТВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ нежданно обернулось благом – мы могли с нуля безнаказанно рисовать цифровую «искусственную акустику».
Набор воображаемых сред создавался с помощью цифрового реверб-процессора «Лексикон 224-Икс». У каждого воображаемого мира – свои характеристики. Каждый фрагмент мы микшировали так, будто он звучал в своем собственном акустическом пространстве.
Кроме того, с таким микшированием всплыли детали инструментовки, которых попросту не слышно при обычной записи «два микрофона у дирижера над головой». Особенно в наушниках – такое впечатление, будто сидишь посреди оркестра, а размер зала и текстура стен меняется вместе с музыкальным характером фрагментов.
«Человеческий» фактор
В 1986 году, когда я выпустил «Джаз из преисподней», – альбом, записанный на синклавире, – многие рецензенты, особенно британские, нашли его холодным и лишенным «человеческого» фактора. Так что я с большим удовольствием выпустил в следующем году «Лондонский Симфонический оркестр, часть II» – он битком набит явными «признаками человеческого фактора».
В последний день последнего сеанса я пытался записать вещь под названием «Истинное благородство». В правилах профсоюза оговаривался короткий перерыв после каждого часа работы, и на последнем часу вся группа трубачей покинула территорию студии «Туикнэм», оккупировала бар через дорогу и вернулась с пятнадцатиминутным опозданием.
Тем временем остальные музыканты сидели в студии и дожидались возвращения своих приятелей-трубачей. Может показаться, что пятнадцать минут – вроде совсем не много, однако на профессиональном сеансе звукозаписи с участием ста семи музыкантов пятнадцать минут – это ОЧЕНЬ ДОЛГО. Каждая секунда на счету – и оплачивается Кучей Долларов. И хотя вещь к записи была совсем не готова, я никак не мог заставить оркестр поработать сверхурочно; наверстать потерянные пятнадцать минут в конце сеанса я не мог ни за какие деньги.
Музыканты играли так скверно и наделали столько ошибок, что потребовалось сорок корректировок (в произведении на семь минут). Пряча подальше фальшивые ноты, мы перепробовали все мыслимые микшерские трюки.
Краткая история технологии звукозаписи
Ныне имеется аппаратура, позволяющая артисту регулировать тембр, каждой отдельной ноте или пассажу придавая психоакустический или эмоциональный «заряд» (к примеру, простым изменением цифровой эхо-программы).
Когда я начинал работать в студии, эквалайзеры (схемы регулировки тона) встречались крайне редко. Компрессоры представляли собой грубые приборы, вносившие в программный материал неимоверные помехи. Когда аудиоаппаратуру усовершенствовали и сделали более или менее бесшумной, в обиход вошли новые звуки и новые способы работы со звуковыми блоками. (В результате, помимо прочего, изменился общий тембр коммерческих трансляций.)
Рок-н-ролльная пластинка пятидесятых – монозапись. В большинстве случаев первые записи делались с единственным микрофоном – и для ансамбля, и для вокалиста (вокалистов). Микширование – акустическое следствие расстояния между микрофоном и певцом, микрофоном и барабанщиком, микрофоном и басистом и так далее. От того, насколько вы далеко от микрофона, зависела ваша «роль» в смикшированной записи.
То, что на пластинке пятидесятых считалось «приемлемым звучанием ударных», ныне попросту смешно.
Поскольку в то время цифрового эха не было, «аромат» и длительность реверберации в песне определялись акустическими свойствами помещения, где производилась запись.
Эхо (или его отсутствие) отражало географию «воображаемого ландшафта», в котором посредством микрофона «фотографировалась» песня. Студии, где имелись помещения с хорошим акустическим эхом, ценились особенно высоко. Некоторые вошли в легенду благодаря своему «хитовому звучанию».
Шестидесятые принесли с собой некоторые новшества; самые заметные – фузз-тон, усовершенствованный электрический бас, усовершенствованные гитарные усилители и микрофонная технология.
Изощренность микшерских пультов позволяла оператору объединять микрофоны в любом количестве и создавать, таким образом, звуковые иллюзии, в акустическом мире немыслимые – это вам не микширование, заданное расстоянием между исполнителем и микрофоном.
При канальном микшировании можно поставить микрофон к большому барабану, микрофон к малому, к духовым и так далее – а потом их объединить. В природе нет такого места, где человек мог бы стоять и собственными ушами слышать такое звучание всех этих инструментов. Эти искусственные законы акустической перспективы стали нормой.
В итоге некоторые инструменты просачиваются в смикшированную запись даже без «прослушивания» их через микрофон. Такие звуки (обычно синтезаторы, электрический бас и/или гитара) вводятся непосредственно в пульт через «директ-бокс».
Появилась аппаратура для цифрового воссоздания среды. С ней продюсеры звукозаписи могли строить «воображаемые помещения» (о чем я уже рассказывал) и микшировать в них.
С несколькими такими устройствами звукооператор может создать целую галерею «воображаемых помещений». Тогда каждый отдельный голос или инструмент в смикшированной записи существует одновременно в разных, изолированных друг от друга воображаемых акустических средах.
Цифровое звучание
Чего я всегда терпеть не мог в звукозаписи: независимо от качества звука в динамиках аппаратной, переносишь музыку на аналоговую ленту и приходится мириться с шипением.








