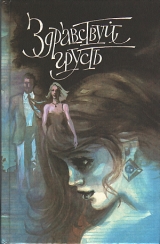
Текст книги "Хозяин дома"
Автор книги: Франсуа Нурисье
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Два часа ночи. Ветеринар – вернее, его заместитель, который сообщил нам, что доктор Альдебер уехал отдыхать, – по телефону невнятно нас обругал. Женевьева спросила, как он советует, можно ли дать лекарства, которые у нас под рукой, он ответил: «Один черт», – и повесил трубку.
Когда я хотел уложить Польку на кровать, она заскулила еще жалобней. В глазах ее выразился ужас: без сомнения, здесь-то ее и настигла беда. Она поползла было в сторону ванной. Я отнес ее туда, и она долго, жадно пила. Ее опять стало трясти. Тогда я лег рядом с ней прямо на полу, укрылся одеялом и край его натянул на согнутую руку, так что над собакой получилось подобие шатра.
Она, видно, не могла толком сомкнуть веки, должно быть, глаза налились кровью. Дрожь унялась, но изредка все тело сотрясала внезапная судорога, задние лапы оставались вытянутыми, мышцы словно окоченели. Так вы глядят освежеванные кролики, чьи тощие ноги будто навек застыли посреди прыжка. Обессиленную, ее клонило в сон. Короткие спазмы уже не выводили ее вполне из этого оцепенения, которое могло незаметно завершиться смертью. Женевьева сидела на корточках подле меня. Я все гладил Польку по спине – медленно, размеренно: это была и ласка, и массаж, самый бережный способ показать ей, что она больше не одинока в беде. Время длилось, длилось, порой его разбивал на части колокольный звон. Женевьева погасила свет, осталась только одна лампочка в коридоре. Мы не обменялись больше ни словом, но нам стало спокойнее.
Быть может, я задремал? Вдруг до меня дошло, что Полька пробует пошевелиться; она повернула ко мне голову, потом протянула ее в темноту. Я спустил ее на пол, и она потащилась к двери, невыносимо было смотреть, как она силится ползти. Опять я начал расспрашивать ее, подбодрять словами. Потом отнес ее к лестнице, и тут она коротко тявкнула. Тогда, как бывало уже столько раз в эти ночи, я стал босиком спускаться с лестницы, но теперь я прижимал к себе Польку, скрюченную, смятую недугом, а ведь она была такая длинная и так этим гордилась! Завидев дверь, ведущую во двор, она снова тявкнула. Женевьева отворила дверь. Я поставил собаку наземь у самой травы. С неба падали крупные теплые капли: подступала гроза, которой ждали весь день, вдалеке вспыхивали молнии. Полька сделала два или три неуклюжих шажка, чуть присела и помочилась в какой-то нелепой позе, закинув к нам голову, заложив уши назад. И повернула обратно, двигаясь словно бы чуть свободнее. Но у порога остановилась, и ее опять начала бить дрожь. Мы отнесли ее наверх, осыпали похвалами и ласками, точно щенка, которого впервые приучают к чистоплотности.
Немного погодя стало светать. Над пустошью на горизонте прорезалась огненная полоска. Женевьева уснула, но я слышал, как она стонет и тяжело ворочается во сне. К семи утра мы были уже на ногах. Полька, завернутая в одеяло, куда мы сунули грелку, внимательно следила за нами.
Небо, промытое ночной грозой, обещало ослепительный день, когда около восьми мы позвонили у двери ветеринара.
Будьте уверены, я и сам додумался, только про это его, пожалуй, всего трудней было спрашивать. Вы уж, верно, поняли, с таким человеком говорить не просто, он вам навстречу не пойдет. И заметьте, вообще-то ничего тут неловкого нет, всякого можно спросить, чем он занимается… Но это вообще, а вот с ним… Все равно как про детей. У нотариуса, когда подписывали купчую, я вдруг подумал, как же так. Ничего не сказано, какая у него профессия. Он даже засмеялся, когда про это помянули, – пишите, говорит, «собственник», как при Луи-Филиппе… Так что ничего я не узнал. Ладно. Конечно, мадам Фромажо, супруга моя, толковала что-то про телевидение, но мало ли кто там выступает – и профсоюзники, и политики, и про вулканы, и какой-нибудь круглый стол, почем я знаю. Она-то на артистку смахивает. А насчет него я вам скажу, деловые люди не ходят с волосами чуть не до плеч, да еще с немытыми… хотя все на свете меняется. Киношник? Им в такую глушь зарываться ни к чему. Набрался я храбрости. Он был в духе, как захохочет. «На все руки, – говорит. – Дорогой мой Фромажо, я писатель на все руки». Потом, верно, по лицу понял, как меня огорошило. И давай объяснять, даже очень любезно. Только я все равно почуял, что сунулся куда не надо, что это тема опасная. Тут и она подошла и стала слушать. Я, мосье, не такой уж психолог, но неловко стало до того – дышать нельзя… А дело было в гостиной. Я к ним почему пришел – надо было дать ему подписать бумагу насчет общности владения. И вот он то ли злится, то ли измывается – поди пойми! Мол, будьте покойны, Фромажо, я работаю. Не святым духом живу. Точнее, как это называет моя жена, она иногда не стесняется в выражениях, я мараю бумагу. По заказу мараю. На высокие темы. И тут он пошел сыпать всякими штучками, затрудняюсь вам пересказать. Чего только не наговорил – тут и герцог де Линь[6], и девичьи сердца, и какие-то виллы неведомо где, и Верден, и отцовские тревоги… Как плотину прорвало. Чувствую – вроде он шутит, а вроде это и правда. Я прямо не знал, куда деваться. Не помню к чему, а только я вам уже говорил – никогда не известно, чего от него ждать. Кажется, просто валяет дурака, а если вдуматься в эту его болтовню – все верно. Но до чего умеет сбить с толку! Ввернешь словечко о том о сем, не успеешь разойтись, хвать – он уже перескочил на другое… Мол, вы думаете, Фромажо, я человек состоятельный? Ошибаетесь, мой дорогой, ошибаетесь. Просто я изворачиваюсь, как все на свете. Первым делом смотрю, на сколько выписан чек. (Об этом я тоже не забываю, будьте уверены). Они меня, видите ли, не поймали. Слишком поздно. Тантьемы[7], жетоны, проценты, четырнадцатый месяц… (Я вам все это пересказываю вперемешку, с пятого на десятое. Я ж говорю, как плотину прорвало. А она как ни в чем не бывало подает нам выпивку. Да-да, она подливала масла в огонь!) Хорошая жизнь – это как автобусная линия… Адреса. Кварталы. Адреса один другого лучше. Думаете, конечная станция – Порт Дофин? Нет, дружище, конечная станция – Левый берег. Дом – первый класс, господин агент по продаже недвижимости. На парадной двери резьба… Наяды, тритоны… А теперь – сами видите… (И он обвел рукой гостиную – гляди, мол: по стенам драпировки еще толком не натянуты, висят кое-как, кресла эти, всё малость колченогое, потрепанное, чего уж там, в их вкусе, верней сказать, в их духе). Согласитесь, если каждого юнца спрашивать, где он хочет быть первым, в деревне или в Париже, так в провинции не останется ни одного великого человека! И вот таким манером – двадцать минут без передышки. Винегрет какой-то – и похвальба, и колкости, и печальное, и потешное. Сам я был не в своей тарелке, про это уж и не говорю, влезли бы вы в мою шкуру, а главное, за нее душа болела. Но у нее и выдержка же! Умеет женщина владеть собой, ничего не скажешь. Преклоняюсь. Мне и четвертой части не пересказать, что он наговорил. И про двоюродного брата, который взял верх в какой-то семейной тяжбе. И про Флобера, который что-то там написал. И про орден Почетного легиона, вот, мол, некоторые с орденами, а переходят на сторону рабочих, голосуют за независимых… Попробуй тут разберись, что к чему. По чести вам скажу, у меня и охота пропала разбираться. Во-первых, от этой его дурацкой болтовни у меня голова кругом пошла, а во-вторых, возле меня на столике лежали газеты. Я одну прочитал, там была заметка про благоустройство Лангедока. Тут он стал зубоскалить, и я так понял, что он, верно, сам пишет в газетах. Что ж, по-моему, это не позор. Ну ясно, кто в бульварных листках промышляет, тем я не доверяю. Это все вранье и вымогательство. А есть солидные журналы, роскошные, в такие писать не стыдно. Собрался я уходить, чувствую, голова кружится, и никакой больше охоты с ним рассуждать. Вот так-то! Простились мы в тот вечер довольно холодно. Пошел я и чувствую, смотрит она мне вдогонку огромными своими глазищами, прямо насквозь спину буравит. С лестницы сходил – цеплялся за перила. Не помню, как очутился за рулем, чудеса, да и только. Сами знаете, каково это – натощак. Короче говоря, он журналист или вроде того. Очень может быть, что и по телевидению выступал. Мадам Фромажо, супруга моя, будет весьма довольна.
Мы поехали в город встречать Беттину. Аэропорт в это время года напоминает вокзал Перрос-Гирека или Ульгата в июле, году в тридцать пятом. Сетей для ловли креветок больше не видно. Но волосы ребятишек по-прежнему у корней выбелены морем и лбы – точно галька, которую обкатало и высмуглило лето. Отчего же теперь у жизни какой-то иной привкус? Десятилетия прошли над моим родным краем, как сон. Несчастья и смерть позабыты, ничего они не значат. Девушки стали еще красивее. У калитки по-прежнему стоят продавщица сигарет и шофер фирмы «Герц» (его желтая с черным бляха напоминает мне о поездках по Америке), а за ними в зеркале нас встречают два отражения: Женевьева – худощавая, загорелая, подтянутая, лицо уже готово просиять улыбкой – и рядом отяжелевший сорокалетний дядя. А, правда, я и забыл! Всегда забываю… Десять, двадцать лет назад во всех зеркалах, когда я к ним подходил, отражалось нечто, очерченное легкими вертикалями, в бежевых и серых тонах, и это был я. Хотя всегда замечалась некоторая сутуловатость. Теперь все это раздалось вширь, полотняный костюм обтягивает массивный торс и плечи, над толстощекой физиономией ветер треплет поредевшие космы. И это тоже я. Молодая сила, молодой задор, буйная светлая грива, которую не мог укротить ни один парикмахер, – вот что прежде всего поддалось усталости.
Довольно. Человек достиг зрелости, намечается плешь – поэзии в этом ни на грош, не так ли?
Наконец-то объявляют о прибытии самолета. Юная француженка Беттина возвращается домой, проведя месяц в Суссексе или в Брайтоне, – во всяком случае, там, где полагается. Все это старо, как мир. Она привезет с собой длиннейший шарф ослепительной расцветки – подношение какого-нибудь Боба или Чарли (а может быть, он куплен вчера в Лондоне?), две пачки сигарет «Бенсон и Хеджес» (и две недели она не пожелает курить ничего другого) и пристрастие к имбирной шипучке. В Лоссане ее навряд ли раздобудешь, придется Беттине отстать от этой привычки. Когда-то мои сестры, кузины и даже – столетия не прошло! – мои послевоенные подружки возвращались из таких путешествий, изрядно растолстев на сливках и пирожках. Хоть через прокатный стан их пропускай. А как они преклонялись перед британскими газонами! Но Беттина родилась в канун пятидесятого. За год, проведенный в Шексбре, она успела вдоволь полакомиться «швейцарским печеньем». Среди ее товарок по коллежу только уроженки Ближнего Востока еще находят утешение в сластях. Пирожными и тортами они усиленно залечивают сердечные раны, полученные где-нибудь в Гштаде или Вербьере. Вот и она.
Моя Беттина – тоненькая, точеная, нежно-угловата и молчалива. Она приветствует нас издали сдержанной улыбкой. Ждет, не глядя на нас, пока закончатся таможенные и прочие формальности. Женевьева и я, как истинные философы, тоже проявляем нашу радость в рамках столь томной сдержанности, что нам за это простится немало грехов.
Беттина подходит. Мы обводим ее тем взглядом, каким, возвратясь из дальних странствий, уже с порога окидываешь свой дом. И еще взгляд, каким обмениваются влюбленные после разлуки (после писем, тоски, всей страсти, что оставлена была на произвол судьбы), – чуть затуманенный удивлением или разочарованием, этого ей пока еще не понять. А сейчас, смеющаяся, целая и невредимая, она предстает перед своими владельцами. Владельцы очень скромны. Я знаю, Женевьева мигом подвела итоги: никаких признаков легкомыслия в одежде, прическа прежняя, строгая, вот только налет усталости на лице, пожалуй, чересчур оно бледное… А может быть, тут не обошлось без косметики? Она легонько проводит пальцами по щеке дочери, и тотчас Беттина угадывет ее мысль:
– Знаешь, в Корнуэлле так мало солнца…
Стало быть, это был Корнуэлл? Да, в самом деле: «Truro, Cornwall» – оттуда она присылала нам маленькие серые снимки: гранитные глыбы, соломенные крыши.
Мы выходим из здания вокзала под яркое солнце – и кажется, Беттина сейчас застонет от наслаждения: она подставляет его лучам лоб, лицо, сомкнутые веки так порывисто и непосредственно, куда охотней, чем несколько минут назад под наши поцелуи. И заявляет без всякого перехода:
– Знаешь, в Лондоне я встретила Ноэль, она вернулась из Шотландии, приедет погостить к дяде в Вар, я пригласила ее к нам, вы не против?
Надо будет освоиться с этой новой, неожиданной манерой, вывезенной из Корнуэлла, – Беттина трещит, как пулемет. А только месяц назад мы посмеивались над ее швейцарской медлительностью… Стремительный поток слов, прерывистый и все же однообразный, только подчеркивает, что с виду она совсем пай-девочка. Должно быть, в Англии она весь месяц провела среди юных парижанок, чудо-модниц из Пасси. Чему еще ее там выучили?
– Знаешь, – она открывает дверцу моей машины, – я там водила «триумф»…
– Какой же герой отважился пойти на такой риск? – спокойно осведомляется Женевьева.
– Никакой не герой, а миссис Стокфилд, невестка Дугласа, ты ее знаешь, папа.
(С этими словами Беттина гордо усаживается в машину; нет, мужчинам она ничем не обязана!)
– Хотя тебе «триумф» не понравился бы, все-таки нескладная телега.
Остаюсь в машине, пускай Женевьева с Беттиной ходят по магазинам без меня. В кронах городских вязов и платанов укрывается несчетное множество пернатого народа. Я опускаю стекла, и на минуту птичий щебет заглушает все уличные шумы. Моя жена и дочь проходят в полутьме, где солнце не так ярко; мне видно, что они оживленно беседуют.
Есть ли на свете слова, которыми можно без неловкости и угрызений совести говорить о собственной дочери? О теле собственной дочери? Может быть, тут просто повинны лето, летнее платье, или какая-то лень, которая разлита сегодня во всем – даже машины словно медлят в душных сумерках, – или какая-то разнеженность мыслей?.. Была ли Беттина так хороша в июне, когда я поехал забирать ее из коллежа в Веве? Тогда я не ощущал в ней этого порыва, наполняющего все тело, устремления ввысь – подняться и поддержать: так взывает колонна к орнаменту капители, так африканскую рабыню не давит тяжелая ноша, но заставляет неодолимо тянуться к небу, словно молодое деревце. Вот только сейчас, у аэровокзала, когда она, зажмурясь, подставила солнцу лицо, на миг, на один лишь миг испарились все следы воспитания и вышколенности: точно зверек или дикарка, вся она была – быощая ключом благодарность, радостный дар на жарком алтаре дня. Да, я слукавил, рассуждая о солнце и развивая архитектурные сравнения… А если честно, о теле я умею говорить только словами желания. Это они, самые верные, самые жгучие, пригодились бы мне, только произносить их надо по-особенному, напитать умиротворенностью, которая, казалось бы, с ними несовместима, наполнить, если угодно, наивностью. Не так просто рассказать о наивности мятежными словами. Моя нежность подмечает жадные и удивленные взгляды, обращенные навстречу Беттине, она их копит, ими питается. Я давно спрашивал себя, как я примирюсь (если примирюсь) с тем, что Беттина станет дичью, вот как сейчас, когда она в зыбких тенях идет по тротуару. Мне мерещились (на эту тему существует немало красочных семейных преданий) приступы удушающей ревности. А меж тем я с удивлением слышу в глубине души только горестную, но и нежную музыку. Говорят, старики вовремя изобретают для себя скуку, она помогает им умереть. Быть может, я изобрел самоотречение, которое поможет мне выносить красоту Беттины? Или, может быть, просто ее сила питается моей усталостью? Нет, во мне не закипает гнев, ни малейшего желания устраивать сцены; только сдержанное и, пожалуй, чуть насмешливое любопытство. Вот уж чего никак не ожидал! Опасная это штука – уловить точный оттенок чувства! Миллиардер уже завещал свою коллекцию музеям. Отныне все это изящество, весь потаенный жар у него лишь во временном пользовании. Уверяю вас, я смотрю рассеянным взглядом, как любитель, почти как проходящий мимо сосед… Я не хочу мучиться.
Они возвращаются. Обе оживлены, разрумянились – сообщницы по лавкам и нарядам. Так вот какой станет когда-нибудь моя Беттина? Жизнерадостная молодая женщина, четко постукивают каблучки, и весь облик отчетлив, и одежда, быстро усвоенная модная небрежность, и с мужчинами она будет говорить вот так же уверенно, весело, стремительно?.. И это она, моя молчальница! Женевьева села за руль, я отправляюсь на заднее сиденье.
– А знаешь, ты переменилась!
Промах. Непростительный промах. Только отец способен так по-дурацки попасть пальцем в небо. Лицо Беттины мгновенно замкнулось. Снова она – пленница своего возраста и своей сдержанности, строптивый лакомка-зверек, который умеет смотреть так холодно, отчужденно… Ох, как все это трудно! Женевьева безмолвно, одним лишь искоса брошенным взглядом измеряет глубину моей растерянности. И среди нашего надутого молчания принимается говорить о другом – о предстоящих делах, о Польке, о Лоссане. Она знает, несмотря ни на что, Беттина прислушивается, и я недолго устою перед искушением вмешаться. Беттине наплевать, что Робер приедет через три дня и что Ролан завтра возвращается из летнего лагеря – вот как, он три недели провел в Коссе?
– В хорошем виде он вернется! Будет работа его отмывать…
Тут она улыбается, она ясно представляет себе эту сценку: братишку оттирают губкой и щеткой! Веселые действа в ванной, которые перемежаются звонкими шлепками и заканчиваются потопом, – одна из самых больших удач в жизни нашего семейства. Подумав о воде и купанье, я решаюсь заговорить про бассейн: расчеты закончены, может быть, сегодня утром рабочие уже взялись за дело…
– Правда? Можно будет по-настоящему купаться? И нырять? Что же вы мне не писали? Представляете, какое купанье на мысе Лендс-Энд? И они еще хвастают, что их омывает Гольфстрим! Вот если бы…
Ее рука отыскивает мою. Она засыпает меня вопросами. Она презирает всякое обзаведение, роскошная машина миссис Стокфилд для нее телега – и вдруг… право, можно поклясться, что она в восторге от Лоссана. Или это она хочет доставить мне удовольствие? Я перебираю все, чем замечателен наш новый дом, и умолкаю, лишь заметив, что взгляд ее затуманился. Тут вмешивается Женевьева:
– Ты же знаешь папу, по его словам, это настоящий Версаль, а на самом деле все только строится…
– Так это надолго? Семь месяцев? Восемь? Пускай твой дом поскорей приходит в порядок… А я-то пригласила Ноэль…
Машина начинает петлять, взбираясь по косогору. Скоро выедем на плато. Вдалеке поднимается столб дыма: все лето в ландах вспыхивают пожары. Тут Женевьева – гениальный дипломат – включает радио, что-то там на длинных волнах.
– Ой нет, не надо! – кричит Беттина. – Этим я сыта по горло… Лучше расскажите еще.
Быстрая езда, свежий ветерок. Женевьева успокоилась, Беттина внимательно слушает – наконец-то можно разыграть счастливое возвращение под отчий кров, роли распределены, как положено в воспитательных целях, углы сглажены… и тут во мне поднимается смутное, пока еще очень смутное отвращение. Попался. Вот я и попался. Никто из нас троих не был вполне искренним. Каждый, как говорится, подлил в вино воды. Стоит ли глотать это бледно-розовое пойло? Наверно, еще до вечера Женевьева по обыкновению станет нервничать, а Беттина отмалчиваться. Изо всех сил я старался не поддаться чисто мужской недоверчивости, которая заставляет меня подозрительно приглядываться к собственной дочери. Все трое мы мурлычем песенку, пытаемся друг друга провести, но где при этом наши истинные «я»? Если я замолчу, если дам хоть немного воли мускулам и лицо мое застынет, через минуту-другую на лбу Женевьевы вздуется синяя жилка, а Беттина тоже умолкнет. Она уже молчит. Как? Она с таким блеском разыграла комедию, а ее не оценили?.. Нет, право, несносные люди… И эта жара, голая равнина, треск цикад, от которого хочется скрипеть зубами, – что это, пустыня? Ладно, если по правилам игры надо прикусить язык, они могут не беспокоиться, это я сумею. И первым делом напишу Ноэль, чтоб не приезжала.
А вашим, мол, сколько лет? Чего-чего, а этого вопроса я не ждал. Бормочу что-то, а он и говорит – без злости, вроде даже смеется и других призывает в свидетели – вот, мол, Фромажо не помнит, сколько лет его детям! Все давай хохотать. И я тоже, ясное дело. Потом говорю: три года и шесть лет. Двое мальчишек у меня. Он вроде задумался, а может, вспомнил о чем. Ну, мол, приятель, вы еще хлебнете с ними… Вот увидите, с молодежью найти общий язык – это не шутка! Так и сказал, как вам это нравится? Все только головами покачали. Такие разговоры им сильно не по душе. Вроде неприлично. Все равно как засветить лампу в головах, когда… ну, замнем. А потом он говорит: «Может, я и зря выдумываю. В конце концов, они просто звереныши, надо им дать волю, пускай перебесятся». (Да-да, так и сказал, поглядели бы вы на мосье Ру, его чуть удар не хватил!) Но это, мол, не так-то легко. Думаешь, меня должны слушаться, я лучше всех понимаю, ну и вмешиваешься. И все портишь, Фромажо, все только портишь. «Вот увидите, оставят они вас ни с чем…» Сказал он так, повернулся и ушел в дом. И все как воды в рот набрали – мосье Ру, и еще там были столяр с подручным. Всем не по себе. Как бы вам объяснить? Будто он взял да и разделся перед нами догола. Вот такой человек. Я-то уж начал к нему привыкать, но согласитесь…
В иное утро мы напоминаем вполне добропорядочное буржуазное семейство, а в иные вечера – чету пьяниц-англичан. Джин прозрачен, как вода.
Вчера явились Робер и Ролан – чтоб поберечь нервы, мы все это подогнали на одно время. Робера привезла Соня, за три недели в Ульгате его южный загар немного слинял. Все карманы у него полны песка. Если приложить к нему ухо, услышишь шум прибоя, точно в морской раковине. Ролан скрепя сердце ездил в летний лагерь со скаутами. Любое из этих двух слов – скауты, лагерь – приводит меня в ярость. Он это знает, и мы оба смеемся. Женевьева раскрыла его рюкзак – ну и запахи же оттуда поднялись! Ролан без умолку расхваливает Тарнские ущелья. Мальчик говорит о пропастях и всяких чудесах природы, точно о подвигах какого-нибудь выдающегося спортсмена. Всматриваюсь в его лицо – давняя тревога… Но нет, можно только радоваться. Общество этих парней в штанах по колено его не испортило, все то же обаяние и милая ленца, которую я так люблю.
Беттина в три дня разделалась с английскими впечатлениями. Сегодня утром она даже закурила «Голуаз». Отвратительный жест, и все же он меня успокоил. Беттина, от которой несет табаком, как от унтер-офицера, на мой взгляд, куда лучше, чем Беттина с заскоками. Увы, она упрямо носит только мятые платья, вынутые из чемодана. Женевьева – само терпение, кроткое, но стойкое, – наверняка ее переупрямит.
Каждый из троих, сделав над собой героическое усилие, долгие десять минут посвящает Лоссану. Робер думает только об одном – как бы поторопить рабочих, чтоб скорей доделали бассейн. Ролан полагает, что мы неплохо устроились, нет-нет, совсем неплохо, а Беттина, недавняя жительница Швейцарии, явно не может примириться с тем, что деревня чистотой не блещет. Первое августа, уж и не помню, когда мы выглядели столь образцовым счастливым семейством. Дом так и гудит; крики, смех, джаз, газеты, конверты от пластинок, запахи лака и растворителя и такой топот… кажется, вот-вот рухнет все, что успел воздвигнуть мосье Ру.
За три дня я постарел на десять лет.
Вторжение наших детей в Лоссан (три пары глаз, тридцать шесть лет, три то молчаливых, то насмешливых рта) застигло нас в самую горячую пору. Когда где-то что-то начинает барахлить, нам вовсе не нужны такие сви детели. Представляете, пароход еще не спущен со стапелей, а на борту уже появились пассажиры? Так и тут. Раньше, когда в моей жизни разыгрывалась очередная драма, обо всех прочих драмах, прошлых, настоящих и будущих, я начисто забывал, а вот стал главой семьи – и этот благословенный дар сыграл со мной злую шутку. Ничто не ладится; внезапно все пошло наперекос. Я забыл, какие дикие вопли испускает Робер, какую скуку наводит Ролан, как замыкается в молчании Беттина. Три эти реальные силы внезапно сокрушили мой воздушный замок. И вот все мы в тупике.
С тех самых пор, как в вечер нашего переезда расплакалась Роза, и до минут, когда мы в здании аэровокзала ждали Беттину, между мной и Женевьевой непрестанно струились живые токи: участливая снисходительность друг к другу, несчетные роднички юмора и дружелюбия. А за эти три дня мы ни разу не встретились взглядом – не хватало времени. Да, это, наверно, не пустяк – изо дня в день оставаться почтенным семейством. Я восхищаюсь Женевьевой и очень невысокого мнения о себе, но, как бы искренне ни отдавать дань уважения, это не заменит настоящего тепла. Будем честны и откровенны: от буйства детей у меня мороз по коже.
В выражении «нравственное здоровье» одно слово излишне. Вероятно, здоровье. Человек может ощущать свое отцовство как некий недуг, и вовсе не обязательно считать его за это прохвостом. Нежность иной раз не облегчает, а усложняет дело. Быть может, немало моих тревог, связанных с детьми, идет как раз от нежности – неуклюжей, скованной, чересчур разросшейся и почти безответной? Легкость отношений, непринужденность, веселый смех, который так украшает семейную жизнь, – это лишь нарядная оболочка; кто же даст себя провести такой малостью…
Уж не знаю, с ним тогда Бенист повстречался в «мистрале» или с кем другим, но только в Лоссане он его не упустил. Вот был цирк! Вам бы поглядеть, как Бенист к ним заявился. Он это называл открыть воду. А открыл настоящий балаган. За словом в карман не лез. Такими делами одним шутам заниматься, вот что я вам скажу. Я бы так не мог. Вообще-то надо было пустить в ход фильтр, чтоб очищать воду в бассейне. Бенист – заклятый враг всяких личинок и микробов. Он и свой-то водопровод не очень скрывает, любит пофорсить. По-моему, он все три дня не вылезал из Лоссана. Этакий важный специалист, чистенький, наглаженный, рукава закатаны, бицепсы так и играют, штаны в обтяжку, из немнущейся материи… А на женщин такое действует, вот провалиться мне на этом месте! Электромонтер, старик, готов был его удавить. Уж не знаю, как оно получилось, но только тут оказались шланги со всей округи. Реквизировал он их, что ли. И детишки тоже тут как тут. Лоссанские – девочки-то не было, только оба мальчугана – с утра пораньше в одних трусах. К семи часам Бенист на пять минут скрылся, потом, гляжу, является, ни дать ни взять победитель на конкурсе красоты. Знаете, как на рекламе: за тридцать дней – мускулы с гарантией! Крохотные плавки, белые, как до войны, вид самый что ни на есть бесстыжий. Такая мода, верно, в Алжире. Дочка ихняя на него поглядела, на Бениста, – ох, и красотка же! – шепнула что-то матери на ухо. И обе как захохочут! А наш атлет ничего и не заметил: божественный прыжок. Он уговаривал девушку раздеться, искупаться, вода, мол, отличная. «Я вас научу прыгать, не сгибая ног». Чего там, просто ему хотелось потрогать ее коленки…
Из глубины сада вместе с ветром – порывы его то относят звук в сторону, то швыряют прямо на дом – слышится гудение насоса: еще один источник шума, Роза ворчит и жалуется, что ей «всю душу выворачивает». Душа и вправду издергана, вывернута наизнанку, но этого никто не замечает. Во мне поселилась неуемная тревога, словно где-то скулят псы. Качают мазут. Уж наверно, кольчатый шланг змеится между кустами лаванды, £ мосье Андре, у которого особая страсть хвататься за все грязное и тяжелое, наверняка взялся помогать истопнику. А позаботился ли он огородить фаянсовые кадки? И посаженные весной кипарисы? Все так хрупко… Цветочные горшки и кадки трескаются и лупятся; каждый день мистраль обламывает ветки, в считанные часы они буреют, и кажется, что кипарис погибает. Никто никогда не принимает всех необходимых мер предосторожности. Может быть, они воображают, будто мир так уж прочен? Надо бы застыть неподвижно посреди своих владений и следить за каждой мелочью; а может быть, вернее ни на минуту не останавливаться, снова и снова обходить крепость дозором, следить, чтоб не рвалось, где тонко, не дать противнику застичь нас врасплох, здесь закрыть хлопающую дверь, там опустить занавеску от солнца. Хотел бы я стать сразу и часовым и патрульным. Зорко подстерегать из засады и в то же время носиться с места на место. Гуденье нарастает – или мне мерещится? Может быть, это ветер стихает. Все реже я слышу крики детей, чего-то они не поделили там, у бассейна, и переругиваются. Незачем подниматься и смотреть, я и с закрытыми глазами опишу эту сцену: Беттина спустила бретельки купальника и молча вытянулась на каменных плитах. Ролан притащил из своей комнаты проигрыватель и сейчас крутит на весь сад очередной привязавшийся мотивчик – пять, десять, двадцать раз подряд, досыта, как некогда крутилась неувядаемая «Венгерская рапсодия», заглушая голос мадам Пашабюльян. На этой неделе Ролан открыл для себя джаз тридцатилетней давности. Ну вот. Ветер далеко разносит обрывки голосов – то ли вопят пациенты в больнице Сент-Джеймс, то ли звучит «Сен-Луи блюз» – вечно я путаю этих святых.
– Старая штука, ей лет шесть, не меньше, – говорит Ролан и снова ставит ту же пластинку.
– Шесть лет! – не открывая глаз, Беттина пожимает плечами.
(Для первого встречного на улице – женщина. Здесь, с нами и с братьями, – насмешливая девчонка.)
Робер спит после обеда.
– Не могу вынести эту жару, – заявила Женевьева.
Среди листвы я различаю дрожащие, словно пламя в печи, алые и голубые буквы – ESSO или, может быть, TOTAL. Тот тип с мазутом, уж конечно, не может удержаться – болтает с мосье Андре, следит за счетчиком, а сам нет-нет да и покосится на грудь Беттины, на ее плечи. Поднимает глаза на дом, бормочет себе под нос: «Интересно знать, во сколько им это все влетело…» Беттина кожей ощущает… Нет, мне мерещится. Слышу всплеск: кто-то нырнул. С весны она как-то по-новому краснеет – медленно, постепенно, словно тень румянца опускается под загаром от висков до груди.
– Ты на меня брызгаешь! – кричит Ролан.
По дороге на холм взбирается трактор. Может быть, Женевьева где-то в доме помогает Розе смочить белье перед глажкой? Или укладывает в ящик игрушки Робера? Каждое лето глаза Женевьевы светлеют. С тех пор, как мы в Лоссане, во взгляде ее нередко мелькает (по крайней мере так мне кажется) доля того же страха, что затаился во мне, – я вновь открываю его на дне души, едва замолкает наконец гудение насоса, и вся прелесть этого дня мягко берет меня за горло, чтобы придушить. И давит, давит… Слышится смех, голоса, хлопает дверца, и сквозь листву я вижу – мимо скользят алое и голубое ESSO или TOTAL. Надо бы посметь жаловаться, разложить эту блаженную картинку на составные части, взвесить дозы времени, труда, сна, мужества, которые входят в эту смесь – тяжкий хмель, оцепенение и безнадежность, что берут меня за горло и стискивают, и в груди все дрожит от удушья, и все это у Женевьевы называется «хорошенько отдохнуть после обеда». Да, слишком жаркое нынче лето.







