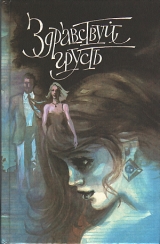
Текст книги "Хозяин дома"
Автор книги: Франсуа Нурисье
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Не успею я умереть, как выпустят новую модель «ситроена». Едва отвернешься – и вот… Сколько времени проходит – недели? Месяцы? Что-то изменится в очертаниях – может быть, кузов станет более обтекаемый? Или фары другие? Если только не придумают что-нибудь сверхновое, и тогда уже назовут другим именем, изобретут еще какое-нибудь хитроумное сцепление, поднимут скорость, устроят багажник чемоданов на десять, не меньше, а как же иначе, мосье, жизнь продолжается. Под Парижем все насквозь пронижут туннелями. Еще дальше протянут автострады. А уж платья… Те, кто умер году в сорок пятом и притом в таком возрасте, когда еще занимает эта ерунда, не подозревали, что их возлюбленные годом позже напоминали бы собственных бабушек – помните ту моду? Стоячие воротники, юбки до пят. А я верю только в приметы или в святотатство: в то повседневное и насущное, что исчезает бесследно, в дедовское кресло – память, которую продают с торгов.
Не следует давать волю воображению, ему опасно пускаться в эту сторону вскачь. Слишком много там провалов, пожалуй, закружится голова. Впрочем, не все сплошь черно в моих предположениях, хотя на другой день после смерти я стану одинаково равнодушен и к черному цвету, и к розовому. Могу, например, биться об заклад, что в глазах Беттины, моей молчальницы, я сразу вознесусь на высоты неслыханные. По лицу у нее ничего не прочтешь, но такая замкнутость обманчива. Уж наверно, на дне какого-нибудь ящика валяется моя фотография, которую она вытащит на свет божий, увеличит, вставит в рамку. И станет на нее молиться. Не завидую поклонникам Беттины, плохо им придется, когда я умру. Она сочтет, что ни один и в подметки мне не годится. Бедняги. До чего же их будет злить эта расплывчатая фотография на камине и холодное молчание девочки. «А ты сама-то читала его писанину?» Беттина разгонит всю эту желторотую шпану и кончит восторгами и упоением в постели какого-нибудь господина в летах, брюзги вроде меня, плешивого и склонного выпить лишнее. Глупая штука жизнь.
Продадут ли мои Лоссан? Сразу же, с перепугу, за бесценок? Или сначала года два будут упрямо биться и отступят с честью? «Ради детей я все сделал а, чтобы сохранить дом, и ведь Робер был так к нему привязан! Но, увы, это невозможно…»
Ох уж эта жестокость, обращенная на тех, кого больше нет! Раны, наносимые жертвам, чье тело и душа больше не способны кровоточить, рассудительный героизм живых… Как я все это заранее ненавижу! Да, я хотел бы, чтобы все осталось, как есть, на своих местах – тут домашние туфли, там вечная ручка… Пусть мой вязаный жилет отдадут на съедение моли, пусть превратят Лоссан в музей. Музей сугубо личный, без посетителей, без смысла и цели; как бы музей в себе; все оцепенело бы там вокруг моей тени, мимолетная жизнь моя, мотылек-однодневка, обратясь в прах, перешла бы в вечность… Все пугает меня, слишком пугает, и я не прикидываюсь бодрячком, не уговариваю друзей поскорее забывать, а вдов – выходить снова замуж. И раз уж поневоле приходится думать о том, как все пойдет и как переменится после меня, будьте так любезны, увольте меня от лицемерия! Дайте позубоскалить – я не знаю иного способа устоять, когда захлестывает вал.
Было воскресенье, и строители не работали, но я все-таки отправился в Лоссан. Приехал около десяти, в церкви как раз звонили к обедне, а под платанами затевалась игра в шары; некоторое время я бродил по стройке, дергал неподатливые двери, прибирал забытые инструменты. Потом поднялся колокольный перезвон, захлопали автомобильные дверцы, заурчали моторы – и я вышел на галерею. Деревня разом ожила. На улице перед входом в кафе было полно машин. Слышались громкие голоса. Те из мужчин, что сами не участвовали в игре, подзадоривали игроков. И вдруг словно бы все смолкло. Я говорю «словно бы», потому что на самом деле люди не замолчали, но в общем говоре пролегла борозда тишины – так расступается толпа из почтительности или страха, пропуская трех женщин в черном. В их лицах не было пи кровинки. Трудно было даже сказать, стары они или молоды. Ничего не замечая вокруг, они пересекли лужайку, где шла игра, миновали мой дом и удалились по дороге, ведущей в город.
И тут я вспомнил, накануне рассказывали, что несколькими днями раньше – я тогда был еще в Париже – автомобильная катастрофа унесла сразу четыре жизни из одной семьи.
Женщины в трауре прошли через толпу односельчан – в этой небольшой деревне, наверно, почти все друг с другом «на ты», – еще столь явно и зримо отмеченные тлетворной печатью смерти, что перед ними все стихало. Зачумленные, неприкасаемые. (Но, конечно, понемногу это впечатление рассеется.) Они и сами не пытались перекинуть мостик между окружающей жизнью и своим временным изгнанием.
Так в моей памяти накладываются друг на друга обрывки виденного и передуманного – наверно, потому, что материал их один и тот же, только по-разному обработан случаем. Не надо искать здесь иносказания. Не надо думать, будто то или это – символ, выражение чего-то другого. Одно другого стоит: всюду тот же страх и те же уловки, при помощи которых люди силятся страх обмануть. Стою на галерее, словно бы причастный к тому, что происходит в деревне, и в то же время посторонний (чтобы меня увидеть, надо задрать голову, да и тогда мне самое большее помахали бы рукой), стою и измеряю силы, которые ненадолго уравновесились во мне, заключили что-то вроде перемирия. Молитвы одних (тех, кто выходил из церкви), ужас других, что пугливо сторонились женщин в черном, и, наконец, вот эта стена у меня под рукой, инструменты, которые я хотел убрать: молоток, мастерки, ватерпас, кувалда. Вера, страх, труд; да, конечно, я просто старая кляча при черпальной машине и хожу на привязи все по тому же кругу. Разве пришел бы я сегодня утром на опустевшую стройку, если б не гнался – по-своему, тяжеловесно – за призраком? Много ли значит невозмутимое спокойствие домов – два-три жалких столетия, без счету заплат и заплаток, потемневшие от времени стены, – когда все в мире шатко и преходяще. А я, муравей, недоверчивая букашка, я все упорствую!
Не забыл ли я, описывая эти места, упомянуть, что над деревней возвышаются в каких-нибудь двух сотнях шагов одна от другой две звонницы? Одна при церкви, где над входом изображена библия, другая – при часовне, увенчанная крестом. Ну вот, все сказано. Три женщины в трауре, их лица, белые как мел, – это просто призыв к порядку, потому что я прикидываюсь глухим. Так говорите громче! Говорите со мной громче, кричите во весь голос! А вы только подаете мне двусмысленные знаки. Что же, в ноги вам кланяться?
В общем-то у нас с вами профессии немножко похожие. Я ж вам говорил, тут надо разбираться в людях… Признаюсь по чести, мосье, меня что увлекает в моем занятии, так сказать, человеческая сторона: варишься в самой гуще, извините за такие пошлые слова. Ведь ко мне кто только не приходит – и желторотые птенцы без гроша за душой, и люди с кой-каким положением, кому надо приличия соблюсти, и старики, кто вышел на покой, этих тянет на травку, на солнышко, а вчера вот приезжала вдова с дочкой… Это ж сама жизнь и есть! Люди мне доверяются. Иной закадычному другу, с кем годами знался, того не скажет, что мне в конторе за десять минут выложит, хоть Жозетту спросите. А как же иначе: дом не шутка. Когда коснется до денег, поневоле во все входишь, вроде духовника, догадываешься, как там в семье, что ладится, что не ладится. И вовсе я не охотник совать нос в чужие дела. Никого за язык не тяну… Просто уж так получается. Мы ведь отчасти лекари… виноват? Что ж, может, вы и правы… Иной раз я их даже останавливаю. Лишние откровенности при нашей профессии тоже ни к чему. Вывернется человек наизнанку, а потом пожалеет, на тебя же озлится – и, прости-прощай, сорвалась сделка. Я всегда говорю: наша забота – ком-мер-ция. Поэзия там, доверие – это все цветочки вокруг настоящего-то дела. Как я называю, человеческая сторона. Но дело – оно прежде всего. Вот по этому самому, как на духу вам признаюсь, такие люди мне в конце концов не больно интересны. У каждого своих хлопот вдоволь, верно я говорю? Разве что какой-нибудь случай из ряду вон. Но, конечно, когда любишь свое занятие, иной раз и увлечешься, войдешь в азарт. Говоришь себе: вот этим надо помочь, дай-ка я их поддержу, выслушаю, пускай разберутся, что у них там к чему, где правда, а где вранье. Ежели я это сумею, так у них начнется совсем новая жизнь. Про это всегда забывают. В нашем обществе, мосье, самый главный человек – кто торгует. Вот я сколько раз говорил, я не одни дома продаю. Счастье продаю, несчастье. Я, можно сказать, продавец жизни. Бывают такие люди, все-то у них идет через пень колоду, а поселишь их в красивой загородной вилле – хоп! – и свернули на другую колею… Встретишь через год – не узнать! А некоторые еще говорят, что мы больно много берем за комиссию… даже смешно слушать.
Дорога, что ведет через Пон-Сен-Жан и плоскогорье, пустынна. Я еду медленно, боковое стекло опущено, но в полях еще не пахнет весной. Приезжаю в Лоссан, и, едва успеваю заглушить мотор, меня охватывает тишина. Словно удивленная, полная недвижных деревьев тишина межвременья, когда одна пора года сменяет другую. Минутами издали донесется постукивание мельничного колеса, закудахчут куры мадам Блан, и опять вокруг под лучами солнца покой и безмятежность.
К моей машине подходит один из соседей – как же его фамилия? Скоро совсем позабудется обычай, что мне внушили с детства: здороваешься – снимай шапку.
– Как у вас там, тоже ни облачка?
– В Париже дождь, в Морване еще лежит снег, но реки уже разлились, я только что слышал по радио.
– A-а, радио…
Как он себе представляет, чего ради я приехал сюда в понедельник, в это тихое январское утро? Что думают об этом в деревне? Чувствую, что надо объясниться: «Вот, приехал посмотреть на свою стройку». Когда-то мама смеялась надо мной за привычку говорить: «Я учу свои уроки», «Мои занятия правом». Моя юриспруденция, моя стройка, мой дом: видно, я ничуть не верю, что мне и впрямь что-то принадлежит, если так усердно обклеиваю эту собственность ярлычками притяжательных местоимений.
– Ну, они работают на совесть! Прежде мы говорили: старый дом… А уж теперь его старым не назовешь!
Он уходит, а я закуриваю сигарету и проникаю в свои владения через пролом в стене: не хочется звонить, хотя мосье Ру и приделал у входа звонок, не хочется сразу же вступать в разговоры. В самом укромном углу двора, у стены, пристроены каменный стол и скамьи. Зиме еще и месяца не исполнилось, а Лоссан уже обретает весеннюю повадку. Впрочем, я ведь раньше не знал, каков он весной. Я еще всему здесь удивляюсь – и ярости мистраля, и этому внезапному теплу, что дышит мне в лицо в январе!
Маляры растворили окна, мне слышно, как они поют и перекликаются. Обычно я не люблю слушать чужие разговоры, не дав знать о своем присутствии; страшновато: вдруг ненароком подслушанное слово больно заденет?
Вдруг очутишься лицом к лицу с этими чужими людьми, а без меня они совсем другие, может быть, враги мне? С какой стати миру относиться ко мне дружелюбно? Однако сегодня утром я никого не опасаюсь. По выговору понимаю, откуда родом парни, что работают там, наверху. Мастер и его сыновья – парижане; всех старше рабочий из Прованса, еще один – итальянец. Вот на балкон вышел мосье Ру. Значит, и он здесь? А я и не видал его машины. Похоже, он мне обрадовался. Теперь все выглядывают – кто с галереи, кто из окон. Ру и Тревуа спускаются, их голоса гулко отдаются на лестнице. Сейчас начнут мне толковать про дожди в Париже и про холод, расспрашивать, «как мне ехалось», жаловаться на столяра – уж такой копун, такая сонная разиня! – и превозносить слесаря, родом из Орана, который работает за четверых. Они выходят во двор и, жмурясь от солнца, идут пожать мне руку.
О таких минутах надо рассказывать медленно, не торопясь. Это не такой день, как все, не просто день, но передышка на обочине дней. Надо передать каждый штрих и каждый мазок этой картины: как появился мосье Фернандес, остановил свой трактор и подходит поздороваться; какой вдруг поднялся в ветвях птичий переполох; как подшучивают маляры над сыном Тревуа – в воскресенье празднуется его помолвка; как после уроков набежала из школы орава мальчишек, затеяли футбол, арка Лоссана у них – ворота, десятилетний цыганенок – вратарь. А мы втроем стоим на солнцепеке и рассуждаем: парадная дверь совсем разболталась; дерево было слишком сырое; и штукатурка у входа опять пошла пятнами от сырости; голубая краска, которую я выбрал, чересчур нежная, быстро выцветает. Как быть?
О, если б я только знал, как быть! Если б знать наверняка, что вот это и есть настоящая жизнь, что наконец-то я нашел ее – здесь, сейчас, она у меня в руках, перед глазами, осязаемая, несомненная. Вправду ли это жизнь, моя подлинная жизнь – то, что ощущаю я, прислоняясь к стене Лоссана? Быть может, я достиг если и не конечной цели, то хотя бы привала на пути, и можно передохнуть, предаться мечтам? Или и это всего лишь еще одно заблуждение, дань моде? Ведь на Западе все восьмидесятилетние старцы (если только они не родились под кровом предков – у него свои требования и свои радости…) мечтают пустить где-нибудь корни, сделать последнюю ставку на землю и камень. Сколько еще таких, кто сегодня утром, как и я, сосредоточенно разглядывает крышу своего дома – соломенную или черепичную, крытую шифером или дранкой? Они говорят: «Здесь будет комната Курта (или Питера, или Франсуа), а вон там – комната Сибиллы (или Герды)…» Они воображают, будто улизнули от извечной преследовательницы, и если в это сияющее утро перед ними встанет ее тень, они заново откроют для себя старую-престарую веру всех зодчих: «Останется после меня…» Какая ложь! И как хотел бы я не поддаваться этому соблазну. Мы больше не сажаем деревья, чтобы когда-нибудь потом они осеняли тех, кто будет носить наше имя, но не вспомнит о наших трудах. Никто больше не строит для потомков. Беттина молчит. Ролан и Робер только посмеются надо мной. Я поверил бы в бога, будь он хранителем домов, их непостижимой и неумирающей души. Но не кощунство ли взывать к богу наперекор самому себе? Искать у него защиты от им же установленного закона жестокости? Ибо надо мной учинена и вновь будет учинена жестокость, и эти стены будут у меня отняты. К чему притворяться, закрывать на это глаза? Я не сумею обжить дом, как не умел за долгие годы обжить собственную жизнь. И вновь будет длиться бегство. Короткая остановка впопыхах, на бегу, – совсем, совсем не то, что привал в пути. Жизнь – путешествие лишь для того, кто знает, куда придет. А для меня не существует царствия небесного в конце пути.
Крики мальчишек вдруг стали резать слух – перессорились они там, что ли. Кажется, и свет померк – откуда взялась эта туча? Мосье Ру, видно, устал, а может, он боится, что непогода его задержит?
– Все разговоры да разговоры…
Да, лучше молчать. И вернуться к работе.
– Это правда, Поль, что в воскресенье вы обручитесь? А когда же свадьба?
Стоило забыть, что зима на дворе, и тем быстрей пробирает дрожь.
– Ну, знаете, до свадьбы… Сперва еще надо в армии отслужить… И потом отец все обещает взять меня в компаньоны, но вы ж сами знаете, какой он… А там пойдут дети…
Счастье Поля повисло в воздухе, как и его слова, – впереди еще столько долгов и отсрочек, столько надо переступить порогов…
– …сами знаете, нынче, чтоб прожить, денег не напасешься!
И потом тут навык нужен, сноровка, такого опыта в полгода не наберешься. Я всегда говорю: мы растим капитал. Мой округ, мосье, у меня в руках вроде как скрипка, что ли. Ежели ты в своем деле виртуоз, так и продавать недвижимость – искусство. Мадам Фромажо, супруга моя, иной раз говорит: сколько ты разных историй узнал про людей, прямо для кино! И это знаете, верно, мы тоже режиссеры. Вроде вас, право слово!
Грузовик-фургон с прицепом, медленно пятясь и задевая за телефонные провода, втиснулся в узкий проулок (у одного вяза при этом сорвало нижнюю ветвь). И вот он стоит посреди деревни, задние дверцы распахнуты настежь, людям не так далеко придется таскать вещи. Мы смотрим на эту махину молча и, пожалуй, растерянно.
– Сотню кубометров берет, – нравоучительно произносит усатый шофер. – Это вам не игрушки!
Сотня кубометров: все, что сохранилось в Мезьере и в Нофле, у моей мамы и у родных Женевьевы, обломки прадедовского наследия, все, что мы, так и быть, пощадили и чему последним пристанищем служило мое прежнее жилье. Тут все вперемешку. Есть на что посмотреть. Распахнутые дверцы фургона являют нашим взорам кавардак из дерева, бронзы и мрамора.
Сердце у нас сжимается: перед нами обнажен костяк нашей жизни, она разложена на составные части, выпотрошены стенные шкафы, опустели чердаки, рассеялось очарование привычного глазу порядка и уюта. Какое же это барахло! Дощатая изнанка шкафов вся исчеркана, мелом и краской крупно выведены цифры, имена, неведомые инициалы – напоминание о дележах, быть может, о распрях, о просроченной плате мебельному складу… Все житейское убожество порой выставляется напоказ на городских тротуарах – как нот сейчас, в пыли, где собрались и молча глазеют деревенские ребятишки. Пока взмокшие грузчики всё не перетаскают.
И мы с Женевьевой сперва тоже застываем на месте, словно ноги наши вросли в эту пыль.
– Какое счастье, что детей здесь нет, – говорит Женевьева.
Всё вместили эти простые слова – и стыд, и удивление. И память… Детство мое потрясали катастрофы: продажа Беродьера, наш первый приезд в Париж, а потом все покатилось по наклонной плоскости; как страдала мамина гордость, как с каждым новым бедствием сильней расшатывались и скрипели ее бретонские сундуки, когда зубоскалы-грузчики, ворочая и швыряя их как попало на глазах у галантерейщицы и хозяина молочной, перевозили нас в кварталы все более скромные… Переезды надо скрывать от детишек. Скрывают же от них мертвецов. Я имею в виду похороны, запах цветов и тления. Потом будет вдоволь времени им все объяснить. В сороковом году меня отослали к Коко, играть в электрический поезд. Был ли он простужен, поссорились ли мы, уже не помню, но я сбежал оттуда раньше времени. Не забыть мне возвращения на улицу Бертоле: там еще стоял желтый фургон (кажется, они все желтые – традиция такая, что ли?), и я увидал посреди мостовой – не очень-то оживленным было в ту зиму уличное движение! – позабытую в суматохе мамину любимую лампу. Витую подставку украшал приделанный посередине диск довольно грубой работы, на него так удобно было класть ножницы. И всё венчал расписанный каравеллами абажур. Это было мамино заветное, только возле этой лампы она чувствовала себя в доме как дома. После обеда она устраивалась в кресле, что нам предоставила мадам Пашабюльян, и при ярко-желтом свете лампы коротала вечер за шитьем или вязаньем. Так вот что скрывалось за докучными словами: «Мой-мальчик-нам-надо-решиться-на-новую-перемену-в-жизни». Перемена в жизни – это попросту значит: подставка от лампы посреди мостовой на улице Бертоле, пустой фургон, перепачканный брезент, сваленный в кучу на тротуаре, на раскиданной соломе… Бурное море с каравеллами убрали, осталась только лампочка, в проволочной овальной рамке она выглядела по-дурацки, точно желток в белке. Сто пятьдесят свечей. Единственное расточительство, которое позволяла себе моя мама, помешанная на бережливости. Еще бы: эта лампа заменяла ей лето, солнце… Из дому вышли старики грузчики (молодежь была в плену), они делили между собой полученные деньги и уже высматривали, где тут поблизости бистро.
– Черт подери! – крикнул один. – Сейчас мы эту лампочку кокнем!
Вы завлекаете девчонку, дело еще не на мази, а все-таки надо это как-то обставить. Душ, тихий угол – без этого не обойтись. Вечером вы ее ждете, думаете – какая она придет? И даже страх берет, не явилась бы уж чересчур разодетая, раздушенная. В таких случаях приятней, чтоб они выглядели попроще. Это я просто для сравнения говорю. Вам будет понятнее. Новых людей тоже примерно так ждешь, воображаешь заранее. У меня, знаете, такое чувство – раз я им продал дом, вроде я за них в ответе. Оно и понятно, верно я говорю? Иной раз уж так разочаруешься… Я не злопыхатель, но как некоторые с домами обращаются! Новенький особнячок, только-только отстроенный, это ведь красота, что может быть лучше? Дом, участок – все как стеклышко, любо поглядеть. А потом они въезжают – и только диву даешься, все летит вверх тормашками. И мадам Фромажо, супруга моя, то же самое говорит. Вот у нас в доме: проветрено, всё на месте и в исправности. Не ровен час, зашел клиент со мной потолковать, ему ничто глаз не режет. В нашем деле всё так: одно с другим связано, одно за другое цепляется. А как пойдут игрушки, побрякушки, птички в клетке, салфеточки, статуэтки бронзовые, швейная машина… вы не представляете, мосье: хаос, погибель! В Лоссане, надо признать, поработали на совесть. Я туда зашел, надо ж было поглядеть, как и что. Хитрая это штука в нашем деле – нащупать линию поведения: и равнодушие плохо, и нескромность плохо. Рабочие еще не ушли. И, скажу вам, сперва я удивился, когда они выбрали этот дом, такая была похабная развалина, хоть брось, а тут, смотрю, он опять в полной форме: огромный, просторные залы, своды, стены, все выбелено, так все сурово, а камень рыжий, охристый, выходит отличное сочетание, – и вдруг подумал: «Надо отдать им справедливость! Хорошо, когда у дома есть достоинство. – А потом вдруг подумал: – Беда! Замучаюсь я, на них глядя!» Прямо скажу, монашеский стиль не по мне. Но что толку постную мину корчить, ежели видимость и суть не в ладах. Вот понапихают они сюда колченогой мебели с парчовой обивкой, прямо как в лавке у Пизенса… что тогда получится из этого дома? А назавтра или на третий день, смотрю, привозят их вещи… Тут я и сказал себе: Фромажо, дружище, ты как в воду глядел… Хоть и знаешь все это, и привык уже, но глядите – даже в приличных семействах уж такая нищета, такое убожество. Забавно, а? Стоит поглядеть на вещи с изнанки, с исподу… будто все спасаются бегством… Возьмите собаку – что она знает? Мы поворачиваем все казовой стороной, а ей виден горбыль, подкладка, пружины, грязь – оборотная сторона, нешлифованная. В тот день мне первый раз в голову пришло: в переезд у людей жизнь снята со всех подпорок, спущена прямо наземь, это, знаете, мир для дворняги – понаставлено столиков на одной ножке, так и хочется задрать лапу. Потом-то, конечно, все это опять кой-как подправят, наведут лоск, а все равно обман, одна видимость! Недаром тоска берет, когда смотришь, как парни перетаскивают туалетные столики да пуфики. Все это вроде хвори. Ведь люди как рассуждают: землетрясения, дорожные катастрофы – это, мол, припасено для других. А попадут сами в переделку – и опять все одинаковы: самолюбие их одолевает, хитрят, изворачиваются, по-всякому вам глаза отводят. Ну и тут тоже вроде этого. А как посмотришь на порядочную женщину, они, знаете, в этих случаях все на один манер утирают лоб…
Я предвидел, что людям захочется пить, и запасся вином. Роза купила вчера в здешней бакалее несколько бутылок. «Для грузчиков я взяла красного по два сорок». Но они просят минеральной и фруктовой воды. «Уж больно жарко, мосье!» И в самом деле, солнце теперь так раскаляет фасад, что, когда переступаешь порог, сразу пробирает дрожь. Мне кивают на усача: «В прошлое воскресенье он пришел вторым в кроссе „Пари-спринт“, вон как…» Я сперва не понял: они спортсмены.
К одиннадцати прицеп уже пуст, кое-что выгрузили и из фургона. Но на рабочих страшно смотреть – одни побагровели, другие мертвенно бледны. Предлагаю им съездить в город на моей машине, они немного удивлены, но находят, что это очень красиво с моей стороны. Они уже приметили «Станцию Лангедок». Смотрю, как они отъезжают: шофер старается мне показать, до чего он умелый и осторожный. Что ж, тем лучше. Роза нам приготовила ветчину.
Укрываемся в помещении, которое, может быть, уже сегодня вечером, а может быть, и через три недели, станет гостиной, валимся с ног. Где же кресла, подушки?
– Уф, какая жара…
Женевьева протягивает бутылку, я жадно тяну прямо из горлышка – глоток, другой, и тотчас мне как огнем обжигает все внутренности.
Так проходит день.
В перерыв люди отдыхают под деревьями, растянувшись на брезенте, которым укрывали мебель.
– Подлые цикады! – твердит усач.
Раздаются громкие хлопки – тщетная попытка отбиться от мух. Около четырех все снова берутся за работу, багровые, полные решимости поскорей со всем этим покончить.
– Давай поворачивайся, не валяй дурака!
Женевьева и Роза, точно дирижеры, направляют все это, сдерживают, умеряют. Иногда нам случается передумать, мы просим перетащить в другую комнату какой-нибудь комод, а грузчики воображали, что уже установили его на вечные времена, и лица омрачаются. Наконец семь часов, по сторонам смотреть противно, все вымотались, обессилели, по земле потянулись длинные тени – и вот кончено, четверо грузчиков (рукопожатие, ублаготворенность) отправляются восвояси.
И тут, хотя все устали и издергались, нас охватывает обманчивый прилив энергии, надо же «немножко навести порядок». Женевьева, Роза, мадам Жанна и я молча снуем взад и вперед с охапками простынь и занавесок.
– Хоть постели постлать, – приговаривает Роза.
А сама все машет и машет метлой, поднимая тучи пыли, и мы задыхаемся. Женевьева включила холодильник.
– По крайней мере сегодня вечером будешь пить холодное виски.
Но вечер уже настал, а я весь день отхлебывал из горлышка жгучий глоток за глотком, у меня и так голова кружится. Закат заливает весь дом алым светом. Вдруг зазвонил телефон – и трезвонит нескончаемо: аппарат поставили на пол, завалили занавесками, и теперь мы его никак не можем отыскать. Наконец добрались, но тут он умолкает. Роза взялась за чайную чашку, ручка осталась у нее в руке – и она в слезы. Пока Женевьева ее утешает, я выхожу на галерею подышать свежим воздухом; в саду, в винограднике, на дороге ничто не шелохнется; только три девушки тихо гуляют поодаль, обняв друг дружку за талию. Лет десять назад – нет, меньше, лет шесть или семь, перед тем, как родился Робер, – деревенская девушка еще метнула бы в меня быстрый взгляд, точно спичкой чиркнула, – вызов, брошенный просто так, от нечего делать… Теперь я только парижанин, который поселился в Старом доме. Какими взглядами они станут обмениваться с Беттиной! Мерзкий вкус у этой сигареты. Меня окликает Женевьева, в голосе улыбка:
– Иди посмотри, какого Роза нашла забавного зверя!
В своей будущей комнате встречает меня оживленная, веселая Роза. Женевьева оперлась коленом на кафельный пол и совсем уже собралась пощекотать черное насекомое, похожее на злющего паука, но его неподвижность внушает ей почтение. Она колеблется. Только этого не хватало!
– Он меня даже пугает, – говорит Женевьева. – Кто это?
– Очень милый скорпион. Просто красавчик скорпион…
Велика сила слов! Женевьева вскочила, Роза вскрикнула и зажала рот рукой.
– Ну чего вы?
Но меня бросает в жар и холод, точно при звуках военного оркестра. Движение Женевьевы не понравилось скорпиону, он молниеносно, свирепо ринулся было к нам (я словно узнаю эту хищную быстроту, хотя никогда ничего подобного не видел) и вдруг опять застыл, насторожился, готовый ко всему, нацелив хвост, изогнутый с необычайным изяществом.
– Так, значит, это…
По части знаков зодиака Женевьеву не собьешь, и, однако, ей все еще не верится, что это блестящее, точно лакированное, маленькое чудовище, которое уставилось на нас неразличимыми глазами, – самый настоящий скорпион.
– Откуда он взялся?
– Я подобрала с полу покрывало, которое мне дала мадам, и вот…
До Розы вдруг дошло:
– Он и в постель ко мне мог забраться!
К счастью, окно, выходящее во двор, открыто. Я трогаю камни ладонью – они обжигают. Пытаюсь как можно спокойнее объяснить: старые камни, жара, стройка, в доме давным-давно никто не жил… Понятно, первые дни придется… Натянем москитные сетки, будем осмотрительны… Роза с одинаковым сомнением поглядывает то на меня, то на скорпиона. Похоже, сейчас она спросит у меня расписание поездов на Шербур.
– Что же будем делать?
Женевьеве уже, видно, надоели мои туманные рассуждения. А я не могу остановиться.
– Убей его, – трусливо предлагаю я.
– Благодарю покорно. Предоставляю тебе эту честь…
Но меня захлестывает какое-то немного даже суеверное отвращение, и я уже знаю, что пальцем не шевельну, чтобы уничтожить эту тварь. Вот завтра, если появится еще один (но этого, конечно, не может быть), я сам его казню. А сегодня вечером, в багряных отсветах заката, когда у меня кружится голова и вокруг хаос, мебель поставлена как попало, вещи валяются на полу, словно тут на ночлег стали табором цыгане или описывал имущество судебный пристав, – нет, сегодня это свыше моих сил. Вспоминаю ночь, проведенную двадцать лет тому назад под Карфагеном: меж шатрами бедуинов гнались за смутными тенями полицейские, и при вспышках выстрелов галопом удирали крысы, огромные, точно псы. И еще Этьен рассказывал, возвратясь из Малайзии, как в хижинах китайских кули скорпионы величиной с краба по ночам жалили спящих младенцев… Внезапно в наш дом вторгается Восток с порчей и колдовством, со священными животными и смертным потом. Должно быть, я слишком много выпил.
– Ну что же? – повторяет Женевьева.
Тут явилась мадам Жанна и избавила меня от необходимости отвечать.
– Какой красавчик! – восклицает она, разглядывая гостя. Он и ее заворожил, но ясно, что ей все это не в диковинку и далее забавно. – Большущий! Наверно, у него гнездо в замочной скважине парадной двери. Они это обожают.
– Что, замочные скважины?!
Роза негодует, у нее круглые глаза. Нет, в ее родном Контантене…
Тут скорпиона осенило, и он безо всякого предупреждения бросился на мадам Жанну, а она мигом разъярилась и топнула по нему ногой в шлепанце – раз, другой, третий… Наконец-то он недвижим (ярость испарилась, словно его бросили на раскаленную плиту), и мадам Жанна наступает на него всей тяжестью, да еще поворачивается на пятке – так, гуляя в лесу, старательно затаптываешь окурок. Под подошвой отвратительно хрустнуло. Звук такой, будто сломали сухой сучок или раздавили чьи-то внутренности. Наконец мадам Жанна отступила на шаг, но от скорпиона осталась не бесформенная лужица, не грязное пятно, как можно было ожидать, нет, труп его выделяется отчетливым черным силуэтом на розовом кафеле: две изогнутые клешни, кольчатое туловище, хвост, заканчивающийся острым жалом – как бы символ всего скорпионьего племени. Нам вдруг почудилось (вслух этого никто не говорит, но думает, я знаю, каждый), что эту странную фигуру – паукообразные клещи, живое оружие, изобретенное природой миллионы лет назад, – нам уже не смыть, не вымести метлой, не счистить щеткой, она проникнет в кафель, неизгладимо запечатлеется в нем: яд, испускаемый этим жалом, наподобие кислоты разъест терракоту с золотистым и рыжим отливом, пропитает безобидный минерал злокозненной черной отравой. Странное предчувствие, прозрение, в следующие несколько дней его щедро подтвердят поразительные открытия – на каменных плитах под ногами, на стенах, на прямоугольной плитке, которой выложены коридоры и чердак, я снова и снова буду находить эти искривленные кресты, эти наконечники старинных копий, словно отпечатки ископаемых в доисторическом известняке, словно надписи, начертанные на стене рукой маньяка, магические знаки, что должны нагнать на кого-то страх либо отвести беду, десятки и десятки убитых скорпионов, камнеточцев, память о которых, видно, еще задолго до нашего переселения навек врезана в самую плоть этого дома.







