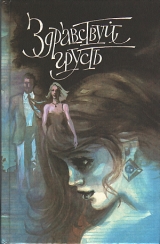
Текст книги "Хозяин дома"
Автор книги: Франсуа Нурисье
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Вот вам люди, ваше окружение.
Я пытаюсь в одиночку бороться со всеобщей небрежностью и хаосом. Ни минуты покоя. То и дело я вскакиваю: надо что-то проверить, закрыть, закрепить, погасить, подобрать. С натянутой учтивостью, ровным голосом я подаю советы; а изредка взрываюсь бешенством. Порою случай или стихия воздают неряхе по заслугам еще раньше, чем я успею вмешаться: разбивается стекло двери, хлопавшей на ветру, книга падает в бассейн, шелковый шарф в клочки раздирают собаки, перегорают пробки.
Не покладая рук, особенно по вечерам, я опорожняю пепельницы. Точно тень скольжу я среди друзей с проворством и усердием необычайным; высыпаю содержимое маленьких пепельниц в большие, больших – в ведерко; я уже не участвую в разговорах, я только и знаю, что охочусь за пеплом да собираю пустые стаканы, исподволь отнимаю у Розы и мосье Андре их обязанности: слежу за ставнями, за сухими листьями, за рытвинами на посыпанных гравием дорожках, подбираю среди цветов на клумбах игрушки – вскоре я уже ведаю всем, у чего есть свое место, что боится царапин, что нужно разглаживать, разравнивать, собирать в кучу, раскладывать, приводить в порядок. Надежно только то, что я сам проверил; только то чисто и опрятно, по чему я сам подозрительно провел пальцем. Я всегда забегаю вперед, а потом с удовольствием огорчаюсь, что все делается так медленно. Я сам на себя взваливаю черную работу – и втайне осуждаю других за нерадивость: почему они не утроили свое прилежание? В иные дни, когда, как весело сообщает Женевьева по телефону, «дом ломится от детей и друзей», я развиваю просто бешеную деятельность. Мне чудится, что удобство, здоровье, самая жизнь всех вокруг держится на одной-единственной ниточке, и я отчаянно за нее цепляюсь. Расстройство пищеварения, укусы насекомых, солнечные удары, всяческие оплошности, промашки, опоздания не обрушиваются на нас только потому, что я, неусыпный страж, всегда начеку и вовремя отвращаю все напасти. В эти дни Лоссан становится полем непрестанной и многообразной битвы, по пятнадцать часов кряду я воюю с присущей моим чадам и домочадцам и их ближним готовностью пустить жизнь на самотек, ибо это не сулит добра.
Примечательно, что с передрягами по части домашнего распорядка, чистоты и аккуратности, послушания и усердия обычно совпадают передряги внутренние: усталость, бессонница, нет сил работать, нет надежды пробить скорлупу, в которой замкнулись мои дети. На то, чтобы поддержать и сохранить Лоссан, я трачу главным образом силы, украденные у любви или у работы ради хлеба насущного. И тогда мне кажется, что мои усилия утвердить дом в его совершенстве и нерушимости, сделать его надежной опорой, эти сверхчеловеческие усилия таинственным образом искупают былую трусость, увертки и расхлябанность, которыми отмечено мое прошлое. Каждому полученному письму, что меня когда-то ранило, каждому неосуществленному замыслу, каждой разорванной странице, каждому неисполненному обязательству соответствуют забитые гвозди, завинченные скрепы, подстриженные кусты, выговоры нерадивым, старания, как говорится, поддержать порядок в доме. Поддержать Лоссан значит удержать мою жизнь. Я мечтаю запечатлев в Лоссане идеальную гармонию пространства, вещей, обычаев, освободить его от навязчивых гостей, сделать средоточием неизменно мирного ландшафта, навеки остановить для него ясный, весенний день, не тревожимый ни малейшим дуновением ветерка; я хотел бы видеть его таким уединенным и незыблемым, как это возможно лишь в царстве минералов, – вот тогда бы я, наверно, успокоился.
Как не могу я приняться за работу, пока не разложу все вещи на письменном столе в определенном порядке, так и жить в Лоссане тоже не мог бы, не защитившись хоть в малой мере от хрупкости и ненадежности дома (ведь даже дом хрупок и ненадежен) строгой неизменностью его убранства и уклада. Я мечтаю о блаженном покое, каким наслаждаются, должно быть, люди беззаботные и небрежные, о смятых подушках, о пыли и растоптанных шлепанцах. Да, я мечтаю обо всем этом, но не без презрения. Наверно, в таком вот коконе, в уютном гнезде, в теплом чреве, в мягком пушистом убежище другие обретают то же ощущение безопасности, какое я ищу в недвижной, геометрически правильной расстановке всех вещей. И я могу вообразить, что строгий ритуал наведения порядка, ритуал, в котором я черпаю утешение и поддержку, других выводил бы из равновесия. Я могу это вообразить, но что толку?.. Вот он, Лоссан, и я для того существую в сердце Лоссана, чтобы жизнь его шла и сверялась по моим законам, а не по законам тех, кому безалаберность не помеха. Мне (так я думаю и чувствую) порядок необходим, чтобы жить, все равно как правила языка необходимы, чтобы высказаться. Мою жизнь мне надо выразить словами, я не могу нечленораздельно ее пробормотать. Страх заставляет меня собрать все силы – и всеми силами я стараюсь сохранить отчетливость и чистоту той участи, которую избрал: предоставь я ее обступившей со всех сторон бестолочи и мути, все быстро поглотил бы подстерегающий нас ужас.
Ах, чувство долга, вот оно что… Ну ежели дошло до чувства долга… Это вы ищете ветра в поле, скажу я вам. Когда человек так и остается будто пришитый, с женой, с ребятишками, со всей этой домашней канителью – стулья расшатанные, повсюду раскидано грязное белье… оно, конечно, понять трудно. Только не стоит преувеличивать. Ежели хотите знать мое мнение, люди почему остаются? Потому что тяжелы на подъем. Конечно, со всяким бывает – вроде как в голову ударит или нутро переворачивается, верно? Но человек думает – не ломать же семью из-за первой встречной юбки. А на самом деле просто все уж больно ленивы. Вот чужие косточки перемывать – это им первое удовольствие. От злых языков не убережешься. Взять хоть меня, когда я нанял Жозетту, и то же самое, когда машину купил. Что машина, что девчонка – им это нож острый. А я сказал: «На чужой роток не накинешь платок». Мадам Фромажо, супруга моя, выше сплетен. Ну да, верно, Жозетта была девочка что надо. Почему «была»? Так ведь тут все решено, мосье. Она свела знакомство с одним малым из Сен-Мари. А я? Что ж, мне вон скоро стукнет тридцать пять. Машина работает полным ходом. Только можете поверить, ежели человек не удирает куда глаза глядят, так это потому, что жутковато, не знаешь, как спать в новой постели да куда положить зубную щетку. Порядочные женщины дело другое. Вы примечали, уж больно быстро они становятся рыхлые, дряблые. За собой не следят, да еще детишки… От подозрений я бы рехнулся. Я сроду доверчивый. А у таких людей, кажется, только и на уме что шуры-муры да разные забавы, так нет же, все наоборот. Понятно, я только про то говорю, что сам видел. Со стороны, знаете ли, судить трудно. Иной раз думаешь – интересно, как они на своем культурном языке рассуждают про девчонок и про всякое такое? Вроде как идете вы по улице, приметили хорошенькую, и вдруг вам скажут – через час она ваша, – чудно покажется, верно я говорю?..
Напрасно я смеюсь над Дианой-Алиной (а может быть, это извечный прием несчастных мальчишек – дергать девочек за косы?). Она так хороша, у нее огромные, непостижимые глаза, она вернулась и вернется опять, и она приносит мне чудесную боль, мученье, которому нет цены.
Настанет когда-нибудь день – ив последний раз мы навестим милые нам места. Настанет день – и я увижу озеро Леман в осенней дымке, серые, неяркие деревушки, серое море у бретонских берегов. Что-то иссякнет во мне – то ли силы, то ли радость, и тогда придет мудрое понимание, что пора со всем этим кончать, пора наглядеться досыта (а быть может, и до отвращения, чтобы больше не страдать), и тогда сумеешь уйти. Мне кажется, я обрету дар (горький дар – так надо ли этого желать?) в последний раз обласкать взглядом все, что мне дорого, все собрать и все рассеять по ветру одним усилием памяти.
Кажется, глаза ее полны не каких-то непостижимых загадок, а просто печали, может быть, она похоронила мужа или он пропал без вести? Может быть, за этим скрывается какая-то драма, разбившийся самолет, морская пучина, но ко всему тайно примешался разлад, одиночество. А я не люблю задавать вопросы. Старая привычка, я научился этому к двадцати годам и снова к этому вернулся: не следует слишком хорошо знать тех, кого любишь; не надо вводить в свою жизнь имена и образы, вокруг которых когда-нибудь – как знать? – цепким плющом обовьется страдание. Разумеется, нет и речи о том, чтобы полюбить Деа. Одна мысль об этом так бесплодна, так мучительна… Но Деа приехала, она здесь, и ржавый механизм, точно чихание остывшего мотора, дает мне знать, что не совсем еще вышел из строя.
Женевьева смотрит на Деа. Смотрит на эту воплощенную нежность, какая бывает только до тридцати (а мне с молодых лет кажется, что она давно устарела), и молчит. Каждой утонченной женщине присущи трогательная учтивость и беззащитность. Хочется обнять каждую женщину, которая не ведет себя, точно взъерошенная кошка. Надо бы засмеяться, положить руку Женевьеве на плечо, объяснить ей все это, но ведь она-то все это знает, ей объяснять незачем. Итак, помолчим.
Она знает, что красота Беттины меня и завораживает и мучит. (Но знает ли она, что в то же самое время плевать я хотел на красоту Беттины? Знает ли, что я плюю на молчание и на прелестное тело Беттины едва ли не в той же мере, как страдаю из-за них?) Женевьева знает, что лето, как говорится, выдалось тяжкое. Тяготят и дом и жара. Тягостен полученный урок – здесь я узнал, что, пожалуй, силы мне изменили, что я уже не так твердо стою на ногах и не так высоко держу голову. И она старается посмотреть на Диану моими глазами. Она спрашивает себя: «Каким образом Деа приносит ему боль или радость? Что он думает о ее лице и о ее теле?» Женевьева тряхнула волосами, зрачки расширились. Ей хочется понять. Для нее я человек без возраста – мы почти однолетки, не такой уж почтенный возраст. Я старый товарищ, я так давно делю с нею и смех, и ночи. И вот она смотрит, какими глазами я смотрю на Диану, – так мне порой случалось видеть, как прояснялось ее лицо, лучилось изнутри полузабытым светом, потому что мимо кораблем в море проходил человек, достойный любви. Но она оставалась на берегу. Оба мы остаемся на берегу подле нашего дома, как остаются муж и жена, если они не дикари: взявшись за руки, но каждый наедине со своими думами, смотрят они на проплывающие вдалеке паруса, и мечтают о возможных странствиях (а это все меньше – странствия, и все меньше они возможны), и твердят своей жизни «да», которое так быстро перестаешь возвещать во весь голос, которое понемногу начинаешь бормотать еле слышно, и, однако, звучит оно теперь совсем по-другому.
Вот так оно и идет. В такие минуты мужчина, если он курильщик, раскуривает трубку и берется за книгу, а женщина с иглой в руках склоняется над детским бельишком.
* * *
Не стоит спешить с выводами, ахать и возмущаться только оттого, что в Лоссане побывала (сколько раз – четыре? пять?) молодая женщина, с которой мы, как говорится, завели добрососедские отношения. Пожалуй, мы сдружились слишком быстро, на такое решаешься только в ранней юности. А мы уже вышли из этого возраста. Но большеглазые гостьи пробуждают в нас великодушные порывы. Даже старик размечтался бы перед женщиной с такой гордой, высокой грудью. Тем более если голос ее пронзает сердце (не говорят ли так и о раздирающем вопле, и об ударе молотка по пальцам? Все, что исходит от нее, причиняет мне боль).
Деа проходит по дому. Присаживается то здесь, то там, смотрит на то, на что надо, и так, как надо, не изрекает никаких глупостей. Когда она здесь, дом перестает меня пугать. Есть у нее такой дар, она и сама это знает и пользуется этим – сколько людей во скольких домах говорили ей, что она создана для этих стен?
Я хитрю, увиливаю, но придется заговорить и об этом: о ее теле. Мне нравится в нем скромность, но скромность эта захватывает и остается с вами, словно аромат духов. Мне нравятся ее платья – из гладкой ткани, чистых цветов, алые или желтые, они напоминают какие-то яркие фанты, они ничего не навязывают, но втайне неизменно пробуждают неотступные образы желания. Мне нравится, что в ее облике и поведении нет ни намека на сообщничество. И наконец, – ясно ли это? – все эти слова бродят вокруг да около, мне надо бы еще изобрести какие-то фразы, в которые удалось бы облечь ее движения и ее неподвижность. Жаркие сны, ночь вкрадчивых снов, завладевшая мною вплоть до бесцеремонного рассвета, – жжет и перехватывает дыхание все, что связано с ее телом, только с телом. Не все ли мне равно, что у нее есть еще и душа и память! В эти недели, полные отвращения, она помогает мне если не любить, то хотя бы терпеть шкуру, в которую я чувствую себя втиснутым, точно товар в упаковку, терпеть лоснящийся лоб и нос (непонятно, как она переносит хотя бы, что на прощание мы обмениваемся беглым поцелуем). Появляется женщина – и вновь тебе кажется, будто и ты тоже человек, и вновь работает чудовищная кухня: где-то в подземельях твоего существа вскипают алчность и воображение, а на вершинах – все, что в тебе есть благородного. Ибо понемногу становишься безупречен. Стар, глуп и безупречен. Пари держу, где-то эту красивую вдовушку, чьи глаза, быть может, в конце концов полны… полны планов… уже ждет какой-нибудь промышленный туз. Она вдруг начинает мне так мешать! Она так мне надоела! Пускай убирается, да поживее! Пускай куда-нибудь в другое место увезет свое лукавство, это изумление и всепонимание цвета лесного ореха, над которым трепещут ресницы и тяжелеют голубоватые веки – голубоватые не от косметики, но от усталости или от жадности; так жадны те, кто уцелел после катастроф, нимало мне не интересных, одиночки, что хотели бы переделать на свой лад мое одиночество, взвалить на меня задачу еще более трудную, из всех моих чувств отнять у меня то единственное, которое мне нужно в Лоссане, – яростное упорство.
– Надо бы все-таки подать весточку бедняжке Деа, – говорит Женевьева.
И Ролан подхватывает:
– А кто все-таки был ее муж? Летчик? Моряк?
И Робер:
– Ее муж был космонавт…
– В сущности, тебя, по-моему, всегда к ней не очень-то тянуло, – говорит Беттина.
(Нет, она сказала грубее – то ли «от нее тошнило», то ли «воротило» – слова невозможные для утонченных движений моей души.)
– А сколько ей лет? – это опять Робер.
– Двадцать восемь. – Женевьева, как всегда, точна.
– А тебе? – спрашивает меня Ролан тоном школьника, который обнаружил у приятеля плешь. – Тебе сколько?
– Сорок пять.
– Ах, сорок пять?..
– Да, сорок пять.
* * *
Чтобы по-настоящему узнать ланды, надо походить пастушьими тропами. Они вьются среди низкорослых деревьев и каменных выступов. На высоте человеческого роста топорщится пропыленная листва, все холмы быстро начинают казаться неразличимо похожими друг на друга, и в этом однообразии того и гляди потеряешься, но, по счастью, можно еще посмотреть на солнце и на далекие деревни, построенные каждая по-своему. В грозу тропы, выбитые стадами, обращаются в бурные потоки. А потом наступает жара, и они высыхают, каменеют, точно африканская пустыня, над ними проносится удушливо-жаркое дыхание ветра, запахи то сладкие, то едкие, как перец, и непрестанно дрожит необъятный хор еле уловимых, но неумолчных голосов. Кажется, даже среди ночи угадываешь звуки перепуганной жизни – она цепенеет либо мечется в ужасе, под землей разгораются страсти; кто-то алчно набрасывается на иссохшие, сожженные солнцем трупы; зорко подстерегают змеи; меж камней, сводя старые счеты, пожирают друг друга заклятые враги в сверкающих панцирях.
Зимою словно бы восстанавливается мир. И тогда подолгу бродишь, защищенный холодом и своей радостью. Но изредка, особенно по воскресеньям, трещат ружейные выстрелы. И вдруг навстречу, окруженные свитой рыжих псов, мчатся верхами мальчишки самого разбойничьего вида. Нет, они тебя не грабят. Как одержимые несутся они вдогонку за кроликом – не каким-нибудь вообще, а за старым знакомым, которого они, кажется, даже знают по имени, – и, запыхавшись от галопа, толкуют о нем, словно о хитрейшем и коварнейшем противнике:
– Говорят тебе, он поскакал вон туда…
Они свирепо пригнулись. Они идут в атаку, дикари, объявившие постыдную войну маленьким травоядным; предки их гордо выступали под солнцем и сеяли смерть, они же не признают изысканных правил этой игры – носятся напролом по кустарникам и косогорам, увлеченные этой нелепой травлей; и вот они скрываются беспорядочной оравой, все в поту, с разинутыми ртами; опереточные охотники, они готовы палить по всему, что прыгает и визжит, в том числе и по собакам, и свищет свинец, рассекая чуткую декабрьскую тишину.
Подлинная жестокость, неисчислимые, неутомимые убийства совершаются не руками неловких мальчишек, но у нас под ногами. По счастью, наши воскресные охотники об этом не подозревают.
До переезда в Лоссан я совсем позабыл о животных. Я не помнил, как безумен взгляд лошади – окаймленный белком страх, забыл, как мягким, пугливым движением все они – и собаки и лошади – изгибают шею, оборачиваются и молят, чтобы мы хоть малейшим знаком объяснили, какая участь их ждет.
И теперь, мне кажется, я вновь – так скоро! – стал подданным животного царства… Линялые глаза этих ублюдков – помеси дворняги с гончей; вялая рысца лошадей, на которых за десять франков в час трясутся ничтожества с усами счетоводов; внезапные обиды и нежности Польки; жизнь птах в саду; верность ласточек, гнездящихся в риге, – все это приносит мне и мучения и радости. Даже когда подыхают истребляемые моими трудами мухи и всякая насекомая мелочь, я смотрю на них теперь с подозрительным вниманием. Трудно сказать, в чем истинный смысл той чувствительности, что вдруг на меня напала. Между скупыми словами и щедрыми ласками, между отвращением, которое охватывает меня при одной мысли, что надо ответить на письмо, и неизменными заботами о настроении моей собаки словно бы установилось какое-то равновесие. Все происходит очень быстро, Лоссан точно соскоблил с меня или стравил кислотой тонкую пленку человеческого. Я все лучше разбираюсь в запахах и звуках. Все охотней лежу прямо на земле, на пригреве, но при этом обострилось мое отвращение к пыли, ко всему жирному и липкому. Теперь я без омерзения беру в руки многое, к чему год назад не осмелился бы даже мимолетно прикоснуться. Среди красочных представлений о старости иные еще недавно казались чистейшей фантазией, сугубо книжной выдумкой, а вот теперь я с ними свыкаюсь: шестидесятилетний чудак, обросший полуседой щетиной, облаченный в отрепья и облепленный кошками; пьяница и сквернослов, медленно догнивающий в недрах своего дома… Не то чтобы я стал в чем-то походить на эти карикатуры (хотя… как знать? Надо бы еще проверить!), но во мне обнаружилась некая слабость, похоже, что я готов отпустить вожжи, дать себе волю и махнуть на все рукой, – вот так человек и становится беспутным бродягой, перекати-полем. Вся соль в том, чтобы поглубже вдохнуть в себя подлинную жизнь, проникнуть в суть вещей, поближе к самой их сердцевине, в ту сокровенную глубь, где бродят и множатся силы жизни. Какой путь вернее? Лихой водитель спортивной машины, любитель и знаток древностей мало-помалу стушевывается во мне, уступая место соглядатаю собственного «я», неусыпному стражу моего же душевного спокойствия. Не стану торопиться с выводом, будто «Лоссан помог мне познать самого себя» и прочий вздор. Этот дом и край, и почти болезненное внимание, с каким я к ним поневоле присматриваюсь, действуют на меня, точно едкие кислоты. С меня спадает старая кожа, и, может быть, взамен нарастает другая. Домашнее животное пустили в лесную чащу, полную опасностей? Человека, что жил шумом и спешкой, погрузили в медлительность и тишину? Есть и это. Но главное – внезапная пустота, куда, как и я, еще больше, чем я, брошены мои близкие. Так с Беттиной, лето словно подчеркнуло ее и отставило поодаль – чего-то ждать. Так с Женевьевой – Лоссан навязывает ей долгие переходы во времени и в пространстве, и по дороге она не может не спрашивать себя, что же сталось с нашей нежностью. Состояние дома и клочка земли, столь важное для архитекторов и нотариусов, становится нашим душевным состоянием. Когда мы восстанавливаем стены и крыши, истребляем всякую нечисть, спасаем от разрушения камни, тем самым что-то укрепляется и во мне, в нас; или, напротив, при этом становится очевидно, что в нас отжило, износилось и чем стоит пожертвовать. Затея, на которую мы пустились, чтобы жить проще и спокойней, быстро осложняется. Жизнь становится труднее. Но, быть может, в ней открывается истина? Примерно это я и пытался установить, когда говорил, что рыжие глаза охотничьих псов, повстречавшихся мне среди пустошей, как и ошалелые, дикие глаза их хозяев (только по-иному), пробудили во мне спящую жалость.
Позвольте вам сказать, мосье, что я устал от ваших расспросов. Не тот я человек, какой вам нужен. До истины расспросами не докопаешься, тут мы с вами согласны, да ведь то, чего вы от меня добиваетесь, дело тонкое. Мы люди обыкновенные. Зря я. знаете ли, на это поддался. Вот на все на это – стал рассказывать да рассуждать, что к чему. Я уж вам как-то говорил, не нравятся мне такие мужья, которые не гасят лампу. На мой взгляд, есть в этом что-то нечистое. Понятно, я тут ни при чем! А все-таки чувствую, вроде и сам влип… О некоторых вещах говорить не положено, вот что я вам скажу. По-вашему, я болван, да? Вот послушайте, я сейчас вдруг подумал, каково-то ихней дочке все это выносить, толки всякие, намеки, если она кой-что поняла. Делаю из мухи слона? Вот и видно, что вы человек не сочувственный, ежели так говорите. Жестокое у вас сердце, черствый вы сухарь! Вам ничего не стоит раздавить человека. Его ли, другого ли, это уж разница невелика… А наш брат, знаете ли, склонен к чувствительности.
Проходили месяцы, я латал стены и душу, ощущал на себе смену времен года и вот теперь начинаю догадываться: Лоссан – плод моего воображения. Разве не так называют то, что взято из грез, но питается еще и памятью? То, что ускоряет полет мечты, расцвечивает ее, наполняет (так парус вздувается ветром) и золотит повседневность либо окрашивает ее в черный цвет?
В Лоссане я себе придумал дом. Всегда говорят: дом детства, семейный дом, загородный дом, вот и я придумал себе детство, семью, тихий край. Мне всегда недоставало прошлого. Давно хотелось где-то пустить корни, но не хватало решимости или, может быть, безрассудства, движения, каким вскидываешь на плечо дорожный мешок перед долгим переходом. А на сей раз, в Лоссане, я остановился. Меня ждала работа: фундамент и стропила, полы и крыша, парадная дверь и каменные плиты. И молчание детей или – хуже всякого молчания – долголетняя привычка вполуха слушать Женевьеву, рассеянное равнодушие ко всем остальным, к рассказам об окружающем мире и о других людях – эти шумы и отзвуки мне мешали; и вот я очутился перед стеной, перед горной цепью молчания. Мне пока не удалось, но я хотя бы понял, что рано или поздно надо будет от этого избавиться. Да, вот именно, это и есть самая важная работа.
Нельзя выдумать себе отца или мать. Тут нас удерживает внутренняя чистоплотность, одно из тех красивых чувств, которые нас принаряжают и от которых в жизни никакой пользы. Но дом! С десяти лет, с тех самых пор, как продали Беродьер (а он был безобразен), я мечтал о каком-то прибежище. Становишься взрослым, и все равно хочется каждый год, когда наступает июль, войти в решетчатые ворота на скрипучих петлях (на рождество их забыли смазать)… Я перелистал альбом воспоминаний.
Итак, я подновил детство. Убежище в ветвях деревьев, двоюродные сестры, поцелуи украдкой, одиночество в самой глубине сада – все это могло быть и под кровом Лоссана. Но ведь пьеса не была сыграна? Что ж, пусть у меня будут по крайней мере декорации. Это помогает мечтать. Мне казалось, завладев этим домом, я наконец перестану быть нищим, обделенным в чем-то очень важном: мне всегда так не хватало детства. В иные вечера, когда после этого нескончаемого лета на исходе дня вновь можно было насладиться долгожданной свежестью, я смотрел по сторонам – всюду порядок, все вычищено, вылизано, мягкие краски, ни одна мелочь не режет глаз… И мне чудилось, что я строил не на новом месте, мог же я и впрямь унаследовать дом предков, мебель, которую уже не замечаешь, потому что видел ее с колыбели, зеркала, в которых наши лица навсегда остаются детскими. Ну, а мама? Разве не могла она чинить наши рубашки, изодранные, когда мы лазили на те каштаны в конце сада, при свете вот этой красной с золотом лампы? Кажется, я помню маму в Лоссане, в давние-давние, доисторические времена – как мастерски она готовила фруктовые салаты и растирала нас, когда мы заболевали, и запирала от нас на ключ нескромные романы, и шила по вечерам не при той тяжелой стоячей лампе с каравеллами… Мать из классического романа? Нет, не то, лучше – хранительница ребячьих вольностей. Однажды она бы впервые пожаловалась: «Глаза у меня слабеют…» И, как многие старые люди, стала бы подальше отодвигать газету, на расстоянии вытянутой руки разглядывать детские рисунки, нацарапанные в те дни, когда на дворе гроза и не дают житья мухи, когда приходится спозаранку закрывать ставни и младшим велят прекратить беготню и заняться какой-нибудь тихой игрой.
В углу желтой гостиной стояло бы ее любимое ветхое кресло, теперь в нем спала бы Полька, и никто не осмелился бы сдвинуть его с места, тем более выставить на чердак. Были бы у нас особые обиходные словечки, были бы гвозди, на которые спокон веку вешают ключи.
Беттина вдруг объявила бы: «Мой матрас надо перебить, он, наверно, совсем засаленный!» Мы посмотрели бы на нее с возмущением, а она бы надулась, но только для виду, на самом деле она была бы счастлива. Дети любят поддерживать огонь в очаге. Детям совсем ни к чему родители – антиквары и декораторы. Дети не обладают тонким вкусом, и не так уж он им нужен. Им надо, чтобы жизнь началась задолго до них и чтобы каждая вещь отзывалась долговечностью. Когда продаешь дом, они плачут; когда покупаешь, они сбиты с толку.
И потом самый воздух, климат новых мест – прикидываешься, будто он тебе издавна знаком. Узнаешь с десяток слов здешнего наречия, перенимаешь выговор. Радуешься, когда лавочники встречают тебя запросто – мол, здравствуйте, мосье Дюпон… Новосел похитрее подхватывает там и сям клочки здешней истории, археологии; заводит у себя в библиотеке полку справочников, путеводителей, покупает мемуары какого-нибудь отставного полковника – здешнего уроженца. Все это долгий, нелегкий труд, подобный труду пахаря… По сравнению с ним усилия честолюбцев и снобов – чистые пустяки. Кажется, наконец ты достиг цели, черенок привился, тебя, как говорится, признали за своего, – вот тогда-то нечаянно слышишь, как говорят о тебе где-нибудь в мелочной лавочке или в кафе. Соседи называют тебя и твоих «эти городские…». Не по злобе, а просто так, для них это само собой разумеется. И сразу чувствуешь себя таким же безродным, бездомным бродягой, как в день переезда. Так, значит, ты не сумел сам себе рассказать сказку? И никого не убедил, что это чистая правда? Я же вам говорю: все это лишь плод воображения.
Говорил я вам про Румапьоля? Ну, который пишет полицейские романы? Так вот, он мне рассказывал – в один прекрасный день он на своем «ягуаре» на скорости сто шестьдесят в час врезался в платан, машину согнуло в крючок, платан измочалило. А он, заметьте, отделался одним переломом кисти. Да и то левой! Рассказывает он мне, а сам хохочет. Хотя правая рука, левая, это ему плевать: он свои книжицы стукает на машинке. Вот что значит у всякого своя судьба. А бывают, мосье, невезучие люди, так уж им на роду написано. Может, выпьете еще чего-нибудь?
Вести счет моим геройским поступкам – это я могу. Но могу и подсчитать, в чем и когда трусил. Вот уже двадцать лет я взрослый человек и вряд ли еще в чем-то заметно переменюсь. Я хорошо знаю, какая цепь действий и бездействия сделала меня тем, что я есть, и привела сюда, к повороту, где у меня появились досуг и потребность перестроить свою жизнь, освободиться, насколько возможно, от всего неистинного. Но вот беда, истина подчас предстает в мерзком обличье, а фальшь надевает личину добродетели. Нелегко разобрать, где правда, а где ложь, вот она, лазейка для притворства. Как оно завлекает, томное, умело волнующее, в нем есть что-то от продажной девки. Ночь за ночью, когда я работаю, а чаще в те часы настороженной неподвижности, которые следуют за работой либо перемежают ее, мне становится страшно – уж не лицемерю ли я? Это так легко! Взять хотя бы одиночество. Очень рано, еще совсем мальчишкой, я стал создавать вокруг себя пустоту. Чувствовал свою силу? Или попросту боялся соперничества? Несколько раз я порывал с прошлым и начинал жить заново – была это честность или просто безволие? Выглядело это так, словно я отказывался от видных постов, от громкого имени, от денег, от благополучия. Я уходил, отстранялся – и окрестил это свободой. А быть может, столь громким словом я только прикрывал страх перед борьбой? Четверть века я мечтал об уединении, о тишине, и теперь, наконец, у меня есть Лоссан, мечта сбывается. Вот она, моя крепость, защита от всех ветров; вот они, стены, укрепленные моими стараниями, и вся жизнь, наконец, от всего отгорожена, укрыта за бойницами, обособлена – позади только пустынные ланды да небо. Какой же улов день за днем приносят мои сети?
Боюсь, что все это сводится к нескончаемым плутням и самообману.
А если и впрямь столько лет я разыгрывал комедию, чем же мне теперь жить? Чего жаждать, к чему стремиться? И чем утолить жажду, какой глоток не будет отравлен?..
Я уверял себя и других, будто уважаю свободу моих детей – а не отдалил ли я их от себя ради собственного удобства? Я отверг честолюбие, отказался от карьеры – а может быть, просто побоялся, что ничего не сумею добиться? Может быть, я делал вид, будто целюсь чересчур высоко, чтобы промах выглядел почетнее? И может быть, я отказался от любовных похождений, презрел пошлые клятвы и случайные постели только с той поры, когда в усталом теле страх перед поражением оказался сильнее, чем жажда победы? Бог, нарушитель веселья, страж, хранитель дичи и лесов, оказался не по мне, но стоило ли его отвергать, да еще с таким жаром, лишь для того, чтобы позже, воздвигнув три скромные башенки, обратиться к суровому, трезвому богу собственников? Может быть, я пытался облапошить бога? Порой я ходил вокруг да около, избегая встречи с ним, так же как избегал слов, воздающих ему хвалу. А теперь все чаще нахожу удовольствие в нескончаемых диалогах с тишиной, с головокружительной бездной, – в беседах, которые так легко окрестить молитвой, и это звучало бы так возвышенно! Быть может, здесь, в Лоссане, я просто готовлю спектакль – свое обращение к богу?.. Дурацкая ловушка, хитрость, шитая белыми нитками, попытка провести бога, точно последнего простофилю. Если тут и кроется истина, то это самая мерзкая из всех моих уверток и уловок.







