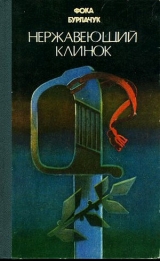
Текст книги "Нержавеющий клинок"
Автор книги: Фока Бурлачук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Десант
Самолет летел на высоте шесть тысяч метров. Под крылом громоздились белые облака, напоминавшие снега Арктики. Впрочем, на гигантскую пену они тоже были похожи. А еще на пуховики. Так и хотелось плюхнуться в них.
– Странно чувствуешь себя на высоте… Как-то зависимо… Сам себе не хозяин…
Эти слова ефрейтор Уткин услышал от соседа, толстоватого мужчины, державшего на коленях автосифон. Он боялся разбить эту стеклянную посудину и все время читал инструкцию по эксплуатации.
– Да, знаете, не хозяин, – повторил мужчина, вытирая платком вспотевший крупный лоб, хотя в самолете было нежарко. Сосед искал сочувствия.
Уткин улыбнулся и сказал:
– Я-то в своей стихии.
– Позвольте, – покосился с изумлением на него сосед, – ваша стихия, насколько я понимаю, море. Вы же матрос! – почти воскликнул он, взглянув на треугольник тельняшки Уткина.
Уткин снова улыбнулся:
– Я, папаша, десантник.
– Тогда понятно.
Мужчина откинулся на спинку сидения и замахал инструкцией, как веером. Некоторое время молчал. Затем он снова наклонился к уху Уткина.
– Куда же вы десантом? В отпуск?
– На целину, уважаемый. На самую что ни на есть целину.
– Понимаю, понимаю, – закивал толстяк, а про себя подумал: «Вот ты какой. Ищешь, где потруднее. Прыгал с парашютом, теперь давай ему целину. Гм… А мы, знаете, погрязли в мелочах. Лечу из Москвы, а Москвы не видел, все мотался по магазинам – жена приказала…»
…Уткин прибыл в Казахстан по комсомольской путевке. Это было начало освоения целины. В Казахстан ехали группами и в одиночку, поездами и самолетами, старые и молодые. Но больше, конечно, молодые, такие, как Петр Уткин, и знали о целине они так же мало, как о десантных войсках, поэтому, когда Уткин после долгих мытарств добрался до района и, запыленный, ввалился к секретарю райкома комсомола Коригину, тот был немало удивлен и обрадован.
– Ну, ну, это здорово, понимаешь, – говорил он, расхаживая по комнате и потирая руки. – Ты даже не представляешь, Петр, какая здесь развернулась работа. Грандиозная работа! Это хорошо, понимаешь, что едут к нам бывшие солдаты. Я хоть и не служил в армии, но знаю: военные – люди особенные. То есть, я хочу сказать, великолепные люди. Им все нипочем. Я имею в виду трудности. У нас уже работают танкисты, пехотинцы, артиллеристы… Есть два сапера. Теперь вот прибыл ты, из морской пехоты. Великолепно!
– Из воздушно-десантных войск, – уточнил ефрейтор Уткин и спросил: – А совхоз мой далеко?
Коврыгин засмеялся:
– По здешним масштабам – не очень. Даже, можно сказать, совсем близко. Километров шестьдесят.
Поживешь пока здесь, вечерком, если хочешь, в шахматишки сразимся, а там подъедут ребята, и тронетесь в путь-дорожку.
– Не понимаю, – недоуменно пожал широкими плечами Уткин.
– Что ж тут не понятно?
– Я спешил, а сейчас мне предлагают кого-то ждать? И вообще… Я ведь приехал работать, а не в шахматишки сражаться…
– Во дают десантные войска! Ты мне нравишься, Петр Уткин. Нетерпеливость твоя мне по душе, только как ты туда доберешься? Тебе бы сейчас самолет да парашют. Рра-аз – и на месте! Верно?
– Товарищ Коврыгин, я серьезно, – помрачнел Укин.
– А кто тебя там устроит?
– Сам устроюсь. Десантнику не привыкать, тем более лето на дворе.
– Ну, раз так… – Коврыгин потер руки и выглянул в окно. – Макаров! – окликнул он пожилого мужчину, возившегося возле автомобиля. – Никак в рейс? Куда? В «Прогресс»? Захватишь одного товарища в «Авангард».
Шофер что-то ответил. Уткин не слышал. Он слышал только, что говорил Коврыгин.
– Да нет, парень десантник, не волнуйся. Через полчаса мы его снарядим по всей форме. – Коврыгин вернулся к столу, сделал пометку в настольном перекидном календаре. – Этот день надо запомнить, – сказал он Уткину. – Дата все-таки! В «Авангард» выслан десант.
…Солнце уже склонилось к горизонту, когда Макаров остановил ЗИЛ.
– Приехали.
Уткин уже знал, что Макаров – фронтовик, а шрам на лице – «поцелуй» минного осколка.
– А где же совхоз? – изумленно озираясь вокруг, спросил его Уткин.
Макаров, не отличавшийся разговорчивостью, сбросил с кузова несколько тюков палаток, кое-что из инвентаря, махнув рукой в сторону четырехгранного столба, на котором виднелась надпись: «Центральная усадьба совхоза „Авангард“».
– Ты приземлился на главной улице, так что устраивайся, ефрейтор, обживайся. Буду жив, лет через десять в гости приеду. – Он посмотрел вокруг. – Ты только погляди, какая красотища!
ЗИЛ ушел, и сразу на Уткина навалилась тишина. Он несколько раз прикладывал руки к губам, во всю грудь кричал: «А-у-у!», любуясь звуками, перекатами, летевшими в степную даль…
«Эх, знали бы мои ребята, где я сейчас, вот было бы смеху», – подумал Уткин, заворачиваясь в палатку, а через несколько минут уже спал крепким сном. Ночью к нему несколько раз наведывался бурундук: обнюхивал, становился на задние лапки, словно спрашивая документ на прописку, и убегал.
Утром Уткина разбудил незнакомый голос. Он открыл глаза, выбрался из своего лежбища.
– Вы ко мне?
– К вам на прием, а секретарша не пускает, – шутливо сказал молодой курчавый парень в кирзовых сапогах и в распахнутой фуфайке. Он подошел к Уткину, протянул руку:
– Землеустроитель Рязанов. Я на несколько дней, а они на постоянно, – кивнул он в сторону троих. – Рекомендую: тракторист Борис Губин, доярка Галина Руденко и зоотехник Давыдов.
Ну и дела, подумал Уткин, коров нет, а доярка и зоотехник уже здесь.
– Хорошо, что приехали. Одному умереть можно от скуки…
– Оно и видно. Еле добудились, – съязвила девушка, и в этот момент степную тишину разорвало голосистое: «Ку-ка-ре-ку!» Галина подбежала к машине, вынула из корзины петуха.
– Ах, бедный мой Петенька, про тебя-то я позабыла.
– Пока нет коров, будете петуха доить? – насмешливо бросил девушке Уткин.
– А вы, товарищ ефрейтор, надои подсчитывать, да?
Языкатая, усмехнулся про себя Уткин, надо завтра же снять погоны.
Тем временем землеустроитель достал из планшета плансхему, разложил на траве.
– Посмотрите, товарищи. Вот ваша будущая усадьба. Как? Красиво? Это пока на бумаге, но в действительности будет не хуже. Да, чуть не забыл. Когда я уезжал сюда, секретарь райкома партии велел мне главную улицу, названную на плане Звездной, переименовать в Десантную – в честь первого целинника-добровольца. Так, собственно, и было задумано. – Рязанов похлопал Уткина по плечу: – Молодец, десантник. Чувствую, что здесь, как говорят, ты не пропадешь.
…Прошли годы. Знатный тракторист совхоза «Авангард» Петр Уткин возвратился с работы поздно, но дети еще не спали. Маленький Ваня сидел у мамы на коленях и требовал рассказать сказку. Галина знала много сказок, но Ваня просил рассказать ему (в который раз) сказочку про первого целинного петушка, который по утрам поднимал целинников на работу.
– А у твоей сказочки, мать, есть продолжение, но ты его не знаешь, – вмешался Петр. – Хочешь, Ваня, узнать, что было с голосистым потом?
– Хочу, хочу! – обрадовался малыш.
– Тогда слушай внимательно. Через год в совхозе организовали птицеферму, но ни один петух не пел так старательно, как мамин. А затем он начал чудить, будил поселок задолго до утра. Люди стали жаловаться. Однажды, уходя на работу, я прихватил нарушителя спокойствия с собою в поле, а вечером принес маме «фазана». Она тогда работала поваром в столовой.
– Ах ты, обманщик! – воскликнула Галя. – Ты же говорил, что это фазан. Надо же, столько лет скрывал!..
– В армии научился хранить тайну…
– Папа, а где же петушок? – широко раскрыл глаза малыш.
– Живет в степи, и не один. Таких, как он, много, но самый красивый – мамин. По утрам он будит степных жителей, чтобы не проспали зорьку.
Петр хотел еще что-то сказать, но старший сын включил телевизор.
Выступал директор целинного совхоза «Авангард» Высокий.
Он рассказывал о достижениях хозяйства, о ветеранах-целинниках. На экране поплыли знакомые кадры: высокие хлеба, молочная ферма, Дом культуры, сад…
– А сейчас вы видите нашу главную улицу, – сказал директор, и на экране появились дома, утопающие в зелени. На крайнем трехэтажном доме отчетливо виднелось: «Ул. Десантная».
В пору сенокоса
В самый разгар лета Дмитрий Алтаев, в новом офицерском кителе, с двумя звездочками на погонах, приехал в родное село. Приехал он днем, когда все были в поле. Мама и сестренка там же, подумал он, вдыхая горячий, чуть душноватый запах спелых хлебов, знакомый с детских лет. Несколько минут молча постоял во дворе, а вокруг была такая чарующая тишина!
Ключ от дома нашел в старом потайном месте. Вошел в избу. Тихо, прохладно… Ничего вроде бы не изменилось, но все как бы уменьшилось в размерах! Потолок, стены… Дмитрий остановил взгляд на фотографии отца. Батя широко и приветливо улыбался. Он умер после войны, вернувшись домой с тяжелой контузией. «Папа, а я уже лейтенант! – мысленно произнес Дмитрий. – Ты хотел, чтобы я стал офицером, и я стал им. Флягу твою возьму с собой».
Он открыл дверцу шкафа. На полке лежали отцовские награды, а рядом – свернутый кольцом солдатский ремень и фляга, на которой кончиком ножа было нацарапано: «Алтаев П. Ф. Сталинград, 1942». Фронтовая фляга и ремень отца, казалось, даже пахли по-особому, хранили в себе какую-то малость отгремевшей войны. Дмитрий вспомнил, как, бывало, мальцом, набегавшись за день, вконец уставший, засыпал, опоясанный ремнем, крепко сжимая в руке начищенную до блеска старую алюминиевую флягу.
…Вечером в доме Алтаевых было тесно. Одни пили чай за большим, покрытым цветной скатертью столом, другие сидели вдоль стен на диване и на стульях, третьи стояли в передней, и разговор вертелся вокруг одного: счастливая Прасковья, сынок на офицера выучился, жаль, Петр Федорович не дожил до этой семейной радости. Вспоминали, как бегал по оврагам Дима в отцовском ремне, с притороченной к нему флягой, играл с мальчишками в военные игры.
– Сызмальства у него тяга к военной службе, – изрек дядя Коля, брат Петра Федоровича. – Да и то правда, косить сено еще любил. Бывало, мы с его отцом соберемся на косовицу, и он за нами увяжется. Рано научился косой махать… – И удивленно мотнул головой: – Эт, уже офицер…
Услышав его слова, Дмитрий весело спросил:
– А сейчас косить возьмете, дядя Коля?
– Да хоть завтра, Дима, только, милок, мы раненько тронем. Еще до третьих петухов, а ты только в сон входить будешь. Али как? Встанешь? Так я заскочу за тобой…
Прасковья Гавриловна протестующе замахала руками:
– Чего выдумали?! Мальцу отдохнуть надо. Вон одни кости.
– Я и говорю, – отступил виновато дядя Коля. – Только экзамены сдал, а какие в военном училище экзамены – мы, Прасковья, немного представляем.
– Вот именно. – Мать с любовью смотрела на взрослого, возмужалого сына. На меня похож, подумала она и незаметно смахнула слезинки. Надо же, командир ракетного взвода…
– Ешь, сынок, ешь, – подкладывала ему горячие блинчики.
Дмитрию было приятно от того, что он уже дома, что сестренка Оля бросает на него горделивые взгляды и шепчется о чем-то с подружками; что льется в распахнутые настежь окна и двери степная, с запахами хлеба и трав прохлада… Нет, завтра он обязательно пойдет косить, о чем и дал знак дяде Коле. Тот понимающе кивнул: зайду, мол.
Одни гости уходили, другие приходили, и каждый считал своим долгом пожать руку лейтенанту: «С приездом, Дима. Вот радость-то матери». Пришел и школьный учитель Дмитрия – Иван Николаевич, широкоплечий, высокий, с уставшим лицом, с мешками под глазами. На фронте он был младшим политруком. Где-то в районе Старой Руссы ему оторвало левую руку, и теперь пустой рукав был аккуратно заправлен за пояс хорошо отутюженных брюк. Учитель обнял Дмитрия, пробасил:
– Рад, очень рад, хоть и очень беспокойное дело ты себе выбрал.
Люди прислушивались к тому, что говорил седовласый, уважаемый на селе учитель.
– Там все по регламенту, строго по уставу, не то что в колхозе: могу поспать, могу опоздать. Там строго.
– Уже привык, Иван Николаевич. Это мое любимое дело.
Иван Николаевич внимательно посмотрел на своего ученика, лицо его стало серьезным.
– Вот именно, любимое дело никогда в тягость не бывает. Но только времена какие-то тревожные настали. И дня не проходит, чтобы где-то не воевали… Теперь тобой, Дмитрий, гордится не только мать, а вся деревня. Вот и прикинь…
– Что верно, то верно, – поддержал его кто-то из односельчан.
Расходились гости поздно. Дядя Коля шепнул на прощание:
– Косу я тебе приготовлю. Утречком потихоньку в окошко потарабаню, а ты с вечера одежонку подходящую припаси.
Утром раздался стук, но не в окно, как было условлено, а в дверь. Ну, дает дядя Коля, недовольно поднялся с постели Дмитрий. Забыл, что ли? Грохает, будто пожар. Мать разбудил…
Мать уже открывала дверь. Еще не совсем рассвело, и Дмитрий едва рассмотрел в сенях маленькую женщину в длинном пиджаке. Он узнал Митрофановну, почтальоншу.
– Телеграмма твоему молодцу Распишись. И тяжело вздохнула.
– Что там стряслось? – тревожно спросила мать.
– Отзывают… Срочно.
– Да как же это?.. А, Димочка?..
– Военный, ничего не поделаешь, – ответила Митрофановна и, хлопнув калиткой, едва не столкнулась с дядей Колей, который держал в руках две косы, а за спиной у него висела брезентовая сумка.
Будить Дмитрия ему не пришлось, он только удивленно спросил:
– Что случилось? Дмитрий протянул телеграмму.
– «Срочно явиться училище Коновалов», – вслух прочитал дядя Коля и, посмотрев на племянника, спросил: – Кто же это Коновалов? Начальник? А почему такая спешка?
– Ничего страшного, – успокаивал заплаканную мать Дмитрий. – Вызывают на соревнования, только и всего. Когда я ехал сюда, меня предупреждали: «Не сможет Катков выступить за училище, готовься ты, вызовем». Значит, он не выздоровел. Вот и поеду я. Надеюсь вскоре возвратиться, только жалко: сенокос может закончиться.
Над дальним полем ярко розовело небо, под окном, в малиннике, уже шебуршились воробьи. День обещал быть безоблачным, в самый раз для сенокоса.
– М-да, – многозначительно произнес дядя Коля.
Он сидел на бревне и курил, поглядывая на раскрытую в избе дверь, из которой то и дело выбегали в сарай или погреб Прасковья и Ольга, собирая в дорогу Дмитрия. Дядя Коля не верил объяснениям племянника. Хитрит, чтобы мать не волновать, думал он, пуская колечки дыма, на соревнование не вызовут телеграммой, тут что-то поважней…
И когда Дмитрий вышел с чемоданчиком, а следом за ним мать и сестра проводить его на поезд (до станции недалеко), он опять с сомнением спросил:
– На соревнование, значит? Неделька тренировки, неделька…
– Ну что вы не верите, честное слово! – засмеялся Дмитрий. – Я даже шинели не беру с собой, а какой вояка без нее в поход пустится, а?
– Тоже верно, – взбодрился дядя Коля.
– Когда совсем буду уезжать, все свое заберу, да еще флягу отцовскую прихвачу. Пусть она всегда будет со мной.
– Хорошо, сынок.
Дядя Коля проводил их до крайних изб, свернул на тропинку, что ныряла вниз, в ивняк, и подумал: ах, туды его в корень, забыл спросить, какие же это соревнования.
Когда он спустился к лугу, подошли другие косари, поинтересовались: что это племянничек не успел приехать, а уже в дорогу?
– На соревнования по конному спорту вызвали, в срочном порядке.
Косари не спеша сняли лишнюю одежду, приготовились косить. Друг дяди Коли, Иван, не поверил:
– Не темни, Никола. Какие там у черта конные соревнования могут быть у ракетчиков? Неужели ракеты возят на лошадях?
– Никола забыл, в какой век живет. Наверно, во сне лошадей видел, вот и приплел их, – заметил кто-то из мужчин, и все дружно рассмеялись.
Дядя Коля и сам смутился оттого, что плохо придумал. Ответил:
– Шинель оставил.
– Ну, раз шинель не взял, – сказал Иван, – тогда все в порядке. А может, ей уже кончился срок и он оставил ее за ненадобностью?
Дядя Коля не стал больше возражать, понял, что на счет конного соревнования получился перебор. Широко размахнулся, но дело не пошло: кончик косы врезался глубоко в кочку, оставленную кротом, и он, ругаясь про себя, долго не мог вытащить его оттуда.
Где-то через недельку дядя Коля встретил в сельской лавке Прасковью Гавриловну.
– Есть весточка от косаря?
– Нет. Прислал телеграмму, что доехал благополучно, и более ничего.
– Может, скоро сам объявится? На две недельки, сказывал.
Прошло обещанных две недельки, сено уже было скошено и местами заскирдовано, а от Дмитрия – ни слуху ни духу. Прасковья Гавриловна стала волноваться. Но однажды вечером, после работы, дядя Коля, просматривая в постели газеты, вдруг радостно воскликнул:
– Ба! Неужели наш Дмитрий? Ну конечно же он! Вот так косарь, туды его в корень…
Жена спала в соседней комнате, и дядя Коля не стал ее будить, поднялся с постели, быстро оделся и, прихватив газету, поспешил к Прасковье Гавриловне. У нее уже не светилось. Осторожно постучал в окно.
– Кто там? – послышалось за дверью.
– Подымайтесь, подымайтесь, дело есть. Прасковья Гавриловна, хоть и испугалась позднего гостя, но по голосу определила, что пришел он с хорошей вестью.
– Нашелся твой косарь, Паша, – сказал дядя Коля. Развернул газету и прочитал: – «Лейпциг. На международных соревнованиях по стрельбе первое место завоевал Дмитрий Алтаев (СССР)». – И от себя добавил: – Вот тебе и конный спорт, туды его в корень!
Неотправленное письмо
В тот день генерал Рочев встал раньше обычного. Дома все еще спали, а он поднялся, накинул на плечи халат, вышел на кухню, зажег газ, поставил на плиту чайник, взглянул в окно. На улице моросил дождь. С листочков березки, что росла под окном, стекали дождевые капли. Казалось, что она плакала. Перемену погоды Рочев переносил плохо: подымалось давление, болела голова. «Пора на отдых», – подумал генерал. Возраст, а больше всего фронтовые раны, все чаще напоминали о себе.
Еще недавно Рочеву казалось, что впереди целая жизнь. Погруженный в ежедневные заботы, он не заметил, как ушли годы. За тучность и седую шевелюру сослуживцы прозвали его Дедом. Вчера он случайно узнал об этом. Собираясь позвонить, он поднял телефонную трубку и услышал голос подчиненного ему офицера: «Вот сейчас схожу к Деду, отдам ему документы, а потом зайду к тебе». Слово «Деду» показалось ему обидным, оскорбительным, он с досадой положил трубку. «Мальчишка», – невольно вырвалось у него, но потом он успокоился, вздохнул, покивал седою головой, подумал: «Да ведь это святая правда, в которой я сам боюсь признаться. Внук Сашка уже в институте».
Скрипнула дверь. На пороге появился майор с папкой в руке.
– Разрешите?
– Входите, входите, молодой человек, коль к Деду пожаловали.
И хотя сказал он это с улыбкой на лице, майор растерялся, покраснел, не зная, что ответить. На выручку ему пришел сам генерал:
– Ничего, не смущайтесь, все правильно. Я не обижаюсь. Дед, скажу вам, это почетно. В старину говорили, что мудрость приходит с сединой. Может, это не всегда так. И все же Кутузов совершил свой военный подвиг в шестьдесят шесть лет, а Гете написал первую часть «Фауста» в шестьдесят, а вторую – после семидесяти пяти. Вот так. – Рочев прошелся по кабинету и продолжал уже доверительным тоном: – Открою вам, что в своем кругу мы главкома называем Дедом, разумеется, не за лета, а за его беспокойный, ворчливый характер.
Постепенно майор обрел спокойствие и, уходя, попросил извинения.
– Нет, нет, юноша, я вас все-таки накажу. Извольте завтра утром вместе со мной отправиться в командировку. Отъезд в семь утра. Считайте, что пропал ваш выходной. Вот так, – с хитринкой в глазах закончил генерал.
…«Газик», надрываясь, с трудом пробирался по раскисшей лесной дороге. Выглянуло солнце, и листва на деревьях заблестела, запахло свежей травой и хвоей. В стороне от дороги взгляд Рочева зацепился за оставшуюся от войны воронку, дно ее было покрыто зеленым бархатным мохом. «Сколько же ей лет?» – подумал он и повернул голову к дремавшему на заднем сидении майору:
– Степан Никифорович, сколько вам было лет в начале войны?
– Пять, товарищ генерал, но я все помню.
– А что именно? – полюбопытствовал генерал.
– Помню день, когда уходил на фронт отец, а мать и бабушка голосили, как над покойником. Они, наверно, чувствовали, что видят его последний раз… А еще запомнилось, как летом сорок третьего года через наше село гитлеровцы вели группу пленных. Немцы были на лошадях. За селом они остановились покормить лошадей и самим перекусить. Мы, ребятишки, перегоняя друг друга, ринулись туда, а следом за нами потянулись взрослые. Несли кто кусок хлеба, кто яйцо, картошку или просто кувшин холодной воды. Немцы передачу для пленных брали, но людей близко не подпускали. Приковылял туда на одной ноге и наш сельский «немец» дядько Назар. В селе его так прозвали за то, что в первую мировую войну он, раненый, попал к немцам в плен и прокантовался там более трех лет. Жил где-то возле Дрездена, там и выучил немецкий. «Жизнь заставила», – говорил Назар. Назар подошел к конвою, поздоровался. Услышав родной язык, немцы оживились. Еще бы: в глухом украинском селе говорили по-немецки! О чем гутарил с ними Назар, мы, разумеется, не понимали, кроме слова «Дрезден», которое часто повторялось в их разговоре. Оказалось, что старший конвоя, пожилой дебелый ефрейтор с рыжими, прокуренными усами, был родом из Дрездена и теперь вроде бы встретил земляка. Как бы там ни было, но душа ефрейтора оттаяла, и он уже не отгонял людей от пленных. Помню, как мать и бабушка расспрашивали наших пленных солдат, не встречался ли им случайно Никифор Тихий (мой отец), и страшно удивлялись, что никто его не встречал: как такое может быть? За три года – и не встретить! Среди пленных был тяжелораненый, он неподвижно лежал на самодельных носилках, на которых его несли товарищи. Крестьяне попросили ефрейтора оставить раненого в селе. Назар перевел их слова. Немец несколько раз повторил «ферботен», не соглашался, но потом, подумав, уступил просьбе, однако затребовал выкуп: две курицы, пять десятков яиц и два килограмма сала. По тем временам выкуп был ужасно большой, но крестьяне не спорили. Быстро принесли куриц и яйца, а с салом произошла заминка. Такого количества сала ни у кого не оказалось. Начали собирать по кусочкам. Каждый кусочек ефрейтор ложил на широкую ладонь, «взвешивал» и говорил «мало». И так, пока не собрали, сколько он хотел. Женщины понесли на руках раненого в избу. Он, так и не придя в сознание, к ночи скончался. На другой день, когда его хоронили, двое немцев на лошадях возвратились в село за раненым. Они его хотели забрать, или, скорее всего, прикончить. Как выяснилось, раненый был коммунистом.
Майор замолчал. Молчал и генерал. Может, он вспомнил, как в начале войны ехал на фронт и был тяжело ранен. Он не знал, кто из двух девушек – медицинских сестер отдал ему свою кровь и этим спас его. Врачи так и сказали: «Благодарите ту девушку, что дала кровь. Она спасла вас…»
У небольшого мостика через безымянный, заросший камышом ручеек машина внезапно остановилась.
– В чем дело? – глядя на шофера, недоуменно поднял брови генерал.
– А вот, глядите, – шофер кивнул головой на дорогу впереди; там, высоко подняв голову, семенила лапами утка, а за ней, словно шарики, катились пушистые желтенькие комочки. Наконец они опустились на воду, и утка довольно крякнула.
– А если бы вы вели, скажем, танк, тоже остановились бы? – спросил генерал.
– Конечно. Не зря же говорят, что птицы и звери – братья наши меньшие. Кто-то из великих сказал: если во всем мире восторжествует любовь к животным, она станет залогом всеобщей человеческой любви. А где любовь, там нет места для зла.
– Согласен с вами, товарищ Мишин, ну, а как насчет охоты?
– Охота, по-моему, нужна для того, чтобы вырабатывать у животных бдительность. Как говорят: на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. А вот тех охотников, которые приносят по десять-пятнадцать уток, я бы под суд отдавал…
Машина приближалась к гарнизону. Уже было видно за зелеными деревьями отдельные домики. Генерал достал платок, протер влажный лоб и как бы подвел итог всему сказанному:
– Сигнал тревоги, братцы, звучит не только над животным миром, но и над самим человеком, он уже услышан, и будем надеяться, что разум победит. Вот так.
…Был воскресный день. Отметить день рождения части – полковой праздник – в клуб пришли солдаты и офицеры с семьями. Прибыли ветераны. До начала торжества духовой оркестр исполнял фронтовые песни, напоминая о суровых годах войны.
Нина Архиповна Спивак, врач-хирург гарнизонного госпиталя, полная, седая, но все еще подвижная, надела свои фронтовые ордена, медали и тоже направилась в клуб. По дороге ее перехватили, позвали в госпиталь по неотложному делу, потому она и задержалась. В клуб пришла, когда генерал Рочев уже заканчивал свое выступление. Свободных мест не было, но, заметив врача, сразу несколько солдат уступили ей место. Нина Архиповна генерала Рочева не знала, но голос его показался ей знакомым. Силилась вспомнить, где и когда она его слышала, но не могла. Генерал очень тепло говорил о тех, кто под боевым знаменем части прошел трудный фронтовой путь, о сыновьях и внуках ветеранов, пришедших им на смену. Особенно выразительные были у него жесты.
На сцене, на развернутом знамени, блестели боевые награды части. «Запомните, – сказал в заключение Рочев, указывая на ордена, – все они добыты большой кровью. Берегите и приумножайте славу нашего оружия. Вот так».
Нина Архиповна чуть не вскрикнула: она узнала генерала. «Конечно же, он. И сутулится так же, как тогда. Он, он!» – твердила Нина Архиповна и теперь с нетерпением ждала, когда закончится вечер, она подойдет к генералу, и они вспомнят август сорок первого…
После торжественной части сразу же начался концерт художественной самодеятельности. Генерал сидел в первом ряду, Нина Архиповна поглядывала на его иседую шевелюру и с нетерпением ждала окончания концерта. Объявили очередной номер, на сцену поднялся прапорщик Калюжный. Зазвучала песня. В это время в распахнутую дверь клуба стремительно вошел дежурный по части с красной повязкой на рукаве и громко крикнул:
– Тревога!
Песня оборвалась. Солдаты и офицеры поспешили к выходу. Из репродукторов монотонно неслось: «Тревога, тревога, тревога».
Вскоре заревели моторы. Гарнизон опустел. Начались военные учения, о которых на второй день сообщили газеты.
Нина Архиповна возвратилась к себе в квартиру, присела к столу, обхватила голову руками. Память возрождала давно минувшее.
…Воинский эшелон, безостановочно минуя станции и полустанки, спешил на Запад. Ему давали «зеленую улицу». Навстречу шли порожние составы, иногда – санитарные поезда, и тогда все бросались к окнам вагонов. Хотелось увидеть тех, кто уже побывал в аду войны и выжил, пусть искалечен, без руки или ноги, но все же выжил.
Бойцы и командиры ехали все вместе в теплушках. В четвертом вагоне, вместе с красноармейцами было две девушки – медицинские сестры Нина Спивак и Валя Дунаева. В красноармейском обмундировании и больших, не по ноге, кирзовых сапогах они чувствовали себя стеснительно, неловко, а еще смущались от всеобщего внимания своих попутчиков. Обе девушки были стройные, голубоглазые, словно родные сестры. Только Нина чуть постарше и выше ростом.
За несколько минут до отправки эшелона к ним в вагон заскочил молодой высокий офицер.
– Здравствуйте, товарищи. Будем знакомы. Я ваш политрук, – представился он и, присев на опрокинутый фанерный ящик из-под махорки, что стоял у нар, сказал: – Попрошу каждого из вас рассказать нам кратко о себе. Начнем с вас, товарищ боец, – политрук кивком головы указал на красноармейца, который стоял справа от него.
– Рядовой Тимофеев Яков, – представился тот, – по специальности тракторист, призван из запаса. Срочную служил в 1936–1938 годах.
Красноармейцы рассказывали о себе, а политрук делал в своем блокноте пометки. Дошла очередь и до девушек. Первой поднялась Нина Спивак. Она сказала, что кончила школу медицинских сестер, в армии не служила. Красная как рак девушка опустилась на нары.
– Замужем? – поинтересовался кто-то из ребят. Нина не успела ответить.
– А вы что, невесту подыскиваете? – отпарировал политрук.
В вагоне рассмеялись.
После знакомства политрук достал из полевой сумки газету, прочитал вслух последнюю сводку Совинформбюро. Сообщения были нерадостные, и кто-то из ребят не сдержался, высказался в адрес Гитлера нецензурными словами. Политрук вскочил со своего места как ошпаренный:
– Материться даже в адрес врага советскому бойцу непозволительно. Это недостойно, тем более в присутствии девушек. Договоримся, товарищи, что это больше никогда не повторится. Вот так.
На вторые сутки, на рассвете, паровоз, неожиданно затормозив, издал протяжный гудок и остановился. На железнодорожном переезде стояла женщина-стрелочник с поднятым вверх красным флажком: путь впереди был разрушен.
Разбуженные внезапным толчком бойцы повскакивали со своих мест, выпрыгивали из вагонов. Спать уже никому не хотелось. Встречая рассвет, в придорожных кустах оживали птичьи голоса.
Красноармейцы стояли группками возле своих вагонов, курили, обменивались предположениями о дальнейшем ходе войны, рассказывали всякие небылицы, но вскоре политрук затеял игру: кто-либо называет любую букву алфавита, а он с ходу отвечает шуткой, пословицей или стихотворением, начинающимся с этой буквы.
– Пожалуйста, на букву «т», – первым предложил Тимофеев.
– Трус и таракана считает за великана, – не задумываясь, ответил политрук. Тимофеев посчитал такую быструю реакцию случайной и предложил еще букву «н».
– Не тужила, не плакала – пошла Марта за Якова, – ответил политрук. Бойцы смеялись: совпало так, что имя Тимофеева, задававшего вопрос, было Яков.
Через некоторое время паровозный гудок известил, что путь открыт. Постукивая на стыках рельсов, эшелон снова устремился на Запад.
Бойцы готовились завтракать, доставали котелки и ложки, делили хлеб. В этот момент в небе с ревом пронеслись вражеские самолеты, строча из пулеметов. Вот мерзавцы, даже позавтракать не дадут, подумал политрук и, отодвинув дверь вагона, посмотрел вверх. Самолеты развертывались на второй заход. Их гул приближался, нарастал. Уже отчетливо слышался стук пулеметов и свист пуль. Политрук, посмотрев на побледневшие лица девушек, хотел сказать что-то утешительное, но успел только приоткрыть рот и тотчас опустился на пол: пули прошили его тело. Брызнула кровь. Девушки вскрикнули, растерялись. Пожилой сержант с прокуренными усами прикрикнул на них, потребовал оказать помощь. Нина Спивак дрожащими руками стянула с политрука окровавленную гимнастерку, начала его перевязывать. Подруга помогала ей.








