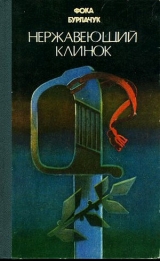
Текст книги "Нержавеющий клинок"
Автор книги: Фока Бурлачук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Екатерине Дашковой императрица пожаловала 24 тысячи рублей и назначила ее статс-дамой двора. Гвардеец Григорий Потемкин получил подпоручика гвардии. Не были обойдены и другие заговорщики.
Вскоре после переворота в Петербурге ходили упорные слухи о предстоящем венчании императрицы с Григорием Орловым. Но против всего этого, как укор, был живой Петр III, которого бдительно охранял Алексей Орлов. Бывший император удовлетворялся теперь тем, что ежедневно напивался.
7 июля 1762 года Григорий Орлов находился еще в спальне, когда ему доложили, что к нему прибыл брат Алексей. Накануне пьяный Алексей дрожащей рукой уведомлял «матушку нашу всероссийскую», что «… урод наш очень занемог и как бы сегодня не умер». Несколькими днями раньше Петр III почувствовал, что над ним нависла угроза. В записке к Екатерине просил пощады. Прошение подписал так: «Votre humble valet».[2]2
Преданный Вам лакей (франц.).
[Закрыть]
Григорий Орлов догадывался, зачем прибыл брат, однако, увидев его, с напускным гневом спросил:
– На кого же ты его оставил?
Алексей перекрестился:
– Царство ему небесное, Гриша. Что будем делать?
Григорий молча накинул на плечи шитый золотом атласный халат, еще недавно принадлежавший императору, озабоченно поглядел в окно, как бы ища ответ на вопрос брата, опустился в мягкое кресло и в свою очередь спросил:
– Расскажи толком, как все было.
– Что здесь сказывать, Гриша. Он уже был пьян, когда я налил ему еще стакан водки и незаметно бросил туда тот порошок, что намедни ты прислал. Он выдул полстакана – и ничего, весел, пытался какую-то походную песню петь да требовать Елизавету. Мы еще немного обождали, после чего я взял его за руки, загнул их за спину, а князь Федоров сунул ему в рот тряпку. Он садонул меня ногою в пах, но враз отошел… Что теперича будет, Гриша?
Григорий знал, что ничего не будет, но, сохраняя на лице озабоченность, сказал:
– Садись к столу и пиши повинную императрице.
– Да неужто я сумею?
– Прикончить императора сумел, а это не сумеешь? Садись, садись, я продиктую.
Алексей присел к столу, Григорий подал ему лист бумаги и перо, продиктовал:
«Матушка милосердная государыня!
Как мне изъяснить, описать, что получилось: не поверишь верному рабу, но, как перед богом, скажу истину. Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. И никто сего не думал, а как нам думать поднять руки на государя. Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князь Федоровым, не успели мы разнять, а его уже не стало… Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть ради брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневили мы тебя и погубили душу навек».
– Ну, вот и все. А теперь прочти вслух, – сказал Григорий и подошел к брату, остановился рядом. Когда Алексей закончил чтение, Григорий одобрительно произнес:
– Складно получилось. Перепиши еще разок, дабы помарок не было, чай не в полицейский участок пишешь, а императрице…
Григорий Орлов, желавший брака с Екатериной II, теперь подумал, что со смертью Петра III исчезли все препятствия к этому. Он дождался, пока брат переписал повинную, еще раз просмотрел ее, положил в папку и ушел к императрице. Ее он застал за утренним туалетом.
– У тебя что-то важное?
– Да, матушка, сказывают, Петр III сильно захворал, не пошлешь ли своего лейб-медика?
– Ха-ха, вижу, тебе его жаль, а для меня он более не существует.
– Ты права, матушка, нет его уже.
– Что ты сказал? – насторожилась императрица.
Вместо ответа Орлов подал ей покаянное письмо брата. И пока она читала, не спускал глаз с ее лица, стараясь разгадать ее мысли, но лицо Екатерины было непроницаемо. Прочитав повинную, она смахнула набежавшую слезу, молвила:
– А знаешь, друг мой, он всегда суеверно думал, что в России его погибель, и мечтал о родине отца…
Екатерина на миг задумалась, затем добавила:
– Распорядись сделать сообщение, что он скончался от сердечного удара… Да оно, собственно, так и было…
Орлов шел к императрице с намерением сказать ей, что более не существует препятствия к их браку, но ее слова «собственно, так и было» отталкивающе подействовали на него, и он промолчал, полагая, что вскоре она сама об этом скажет. Но время шло, а Екатерина больше никогда не вспоминала о браке.
Завладев императорской короной, Екатерина II постепенно охладела к своей подруге и спутнице по заговору – Екатерине Дашковой. Теперь она считала роль Дашковой в заговоре совершенно ничтожной, хотя вначале сама говорила Бестужеву: «Кто бы мог подумать, что дочь Романа Воронцова поможет мне сесть на престол?»
Дашкова не слишком огорчалась такому отчуждению. «Несмотря на то, что я была графиней Воронцовой по отцу и княгиней Дашковой по мужу, я всегда чувствовала себя неловко при дворе», – признавалась она. Да и могла ли Дашкова, с ее деятельным характером, довольствоваться положением статс-дамы при дворе? Разумеется, нет. Много лет спустя Герцен писал: «В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторной жизни из-под плесени московского застоя, что-то сильное, многостороннее, деятельное, петровское, ломоносовское, но смягченное аристократическим воспитанием и женственностью».
Может быть, Дашкова более, чем кто-либо другой из ее круга, чувствовала стон народа, закрепощенного самовластием, ошибочно полагая, что свободе должно предшествовать просвещение. «Просвещение ведет к свободе, – говорила она Дидро, – свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок». После того, как Дидро выразил несогласие, Дашкова привела замысловатое сравнение, уподобив крепостного слепорожденному: «Мне представляется слепорожденный, которого поместили на вершину крутой скалы, окруженной со всех сторон пропастью; лишенный зрения, он не знал опасностей своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал также птиц и иногда сам пел вместе с ними. Приходит незадачливый глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из ужасного положения. И вот – наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен: не спит, не ест и не поет больше: его пугает окружающая его пропасть и доселе неведомые ему волны; в конце концов, он умирает во цвете лет от страха и отчаяния».
Довод Дашковой поразил Дидро, но он не мог с ней согласиться, сказал: «Веревка, стягивающая шею всего человечества, состоит из двух шнурков, из которых нельзя разорвать одного без разрыва другого».
Независимая и решительная Дашкова на несколько лет покидает Петербург и отправляется за границу. Со временем, после возвращения, она возглавит две академии наук, а пока – чужбина. Отчуждение императрицы не могло поколебать ее любви к отечеству. В первые дни своего путешествия Дашкова остановилась в самой богатой гостинице Данцига и была поражена, увидав там на стене огромное полотно, на котором раненые и умирающие русские солдаты просят пощады у победителей-пруссаков. Нет, с такой несправедливостью она не может смириться. И, сняв картину, в течение ночи перекрасила мундиры победителей и побежденных, а затем водрузила ее на прежнее место.
Прикрываясь либеральными словами, Екатерина II укрепляла крепостное право. Крестьянам не стало легче оттого, что она заменила слово «раб» на «верноподданный». Верноподданные стонали от непомерных налогов, представляя собою сплошную массу нищих и обездоленных. А между тем царица похвалялась европейцам: «У каждого крестьянина в супе курица, у некоторых – индейка».
Турецкий уполномоченный на переговорах в Фокшанах Осман-эфенди, пользуясь инструкцией своего правительства, затягивал переговоры. Орлов злился, но поделать ничего не мог. Он рвался в Петербург, а переговорам, как нарочно, не было видно конца. Он уже подумывал послать нарочного в столицу и попросить замену, но в это время прибыл к нему гонец из Петербурга и тайно доставил письмо, в котором условленным кодом извещали, что в его комнаты поселился красавец Васильчиков и теперь неотступно следует за императрицей.
«Я так и знал», – простонал Орлов и, не медля ни минуты, умчался на перекладных в Петербург, бросив переговоры.
Ни сна, ни отдыха. Фаворит спешит, надеясь поправить, восстановить все на место, изгнать из дворца, ставшего ему ненавистным, Васильчикова. Он не мог представить себе, что его могущество и слава враз померкли. Нет, нет, такого коварства он не потерпит! Из-за нее он рисковал жизнью своей и братьев. Не будь его, не видать ей престола! Скорей бы добраться до Петербурга, а там он знает, что делать. Он поставит все на прежние места. Даже силой. Гвардейцы пойдут за ним, а несогласных он скрутит в бараний рог. Он не повторит ошибок Петра III.
Так думал отставной фаворит, мчась в Петербург. Он вспомнил слова императрицы, сказанные ему в день отъезда: «Ты имел достаточно доказательств моей верности». Сейчас они звучали словно насмешка. В голове Орлова постепенно рождался план действий на тот случай, если Екатерина не изменит своего отношения к нему.
Карета, в которой сидел Орлов, выкатилась на пригорок, остановилась: в одной из упряжек оборвалась постромка. Орлов выскочил из кареты, а следом за ним и его адъютант. И хотя было лето, поля вокруг не радовали глаз. Справа от дороги желтела редкая трава, на которой паслось стадо тощих овец. От села к экипажу примчалась стайка босоногих ребят. Остановились в нескольких шагах, с любопытством рассматривали знатных путников. Один из слуг хотел было их прогнать, но Орлов не позволил ему это сделать, подозвал ребят к себе и, к удивлению адъютанта и слуг, начал с ними беседовать. Оборванные и грязные ребята с удовольствием отвечали на его вопросы, а потом самый маленький, указывая на своего вихрастого друга, лицо которого было все в веснушках, отважился сказать:
– Господин генерал, у Сашка умерла мать, а отца вчерась на каторгу услали, он теперь один.
– Вот как, – сказал Орлов и, может быть, впервые почувствовал бесправие, царившее на Руси. Прежде он никогда над этим не задумывался, но его собственная драма сейчас побудила к этому, и он, достав кошелек, извлек оттуда серебряный рубль, протянул мальчонке. Мальчуган схватил деньги, упал на колени и попытался целовать его сапоги.
– Ступай, ступай, не надо, – сказал Орлов и подошел к указательному дорожному столбу, на котором значилось, что до Петербурга двести верст.
Орлов порядочно устал, это понимал адъютант, молодой гвардейский полковник, и предложил ему на очередной почтовой станции отдохнуть.
– Нет, нет, сударь, никакого отдыха. Заменим лошадей, попьем чаю – и опять в путь. Отдыхать будем в Петербурге. Теперь уже скоро…
Адъютант не узнавал своего шефа, он словно переродился. Говорил мало, все время был задумчив и угрюм. Прямо спросить, в чем дело, он, естественно, не мог, и все же, подъезжая к почтовой станции, адъютант словно про себя сказал:
– Как там наш Петербург, здорова ли матушка-императрица…
– Здорова, здорова, – подхватил Орлов. – С ней ничего не сделается, сударь. – И больше ни слова.
Адъютант понял, что причина расстройства его генерала – другая.
Во дворе почтовой станции была необычная суета. Орлов зашел в отведенную для него комнату, слуга последовал за ним.
– Вели подать холодного квасу да парикмахера зови, – распорядился генерал и стал расстегивать мундир.
В комнату постучали. Не успел он сказать «войдите», как дверь распахнулась, и на пороге появился маленького роста жандармский генерал с огромным животом, за его спиной остановились два солдата с ружьями.
– Позвольте, ваше сиятельство, – сказал жандарм и бесцеремонно шагнул в комнату.
– Что вам угодно? – разгневанно спросил Орлов. Жандарм кашлянул, неторопливо начал:
– Мне, ваше сиятельство, приказано сообщить вам волю императрицы и вручить от нее письмо, – молвил жандарм и подал Орлову письмо, которое тот, не раскрывая, бросил на стол, грозно уставился на незваного гостя:
– Я вас слушаю.
– Мне приказано известить вас, ваше сиятельство, что по воле ее императорского величества вам отсель в сторону Петербурга непозволительно сделать хотя бы один шаг. Вам надлежит отправиться к себе на подмосковную дачу и там безвыездно находиться…
Орлов ожидал всего, но только не этого. Он побледнел, лицо его перекосилось от злости:
– Куда мне ехать – я сам решаю, а того, кто попытается препятствовать, прикажу расстрелять на месте. Кто вас сюда послал?
– Их превосходительство Корсаков…
– А это что еще за чучело?
Жандарм с минуту мялся, не зная, что ответить, но Орлов наседал:
– Я вас спрашиваю: кто он?
Жандарм доверительным голосом прошептал:
– Сказывают, будто тепереча они вместо вас…
– Вон! – в ярости крикнул Орлов и шагнул к жандарму, чтобы вытолкнуть его прочь, но тот мигом скрылся за дверью.
Орлов схватил со стола письмо, дрожащими руками вскрыл его и, убедившись, что все, о чем говорил жандарм, исходит от императрицы, словно подкошенный, опустился в кресло у окна. Посоловелыми от злости глазами он глядел в окно, стараясь до конца понять постигшую его драму.
И все же я поеду в Петербург, решает он. В это время во двор въехала карета в сопровождении нескольких всадников. Карета остановилась, из нее вышел… Шешковский и направился к станционному смотрителю. Орлов понял, что императрица не намерена повторить ошибку Петра III…
Немного успокоившись, Орлов вновь перечитал письмо императрицы. «…Я никогда не забуду, сколько я всему роду вашему обязана и качества те, коими вы украшены, и поелику отечеству пользы быть могут…» Из письма отставной фаворит узнал, что императрица положила ему годовое жалование 150 тысяч рублей, выделила шесть тысяч крестьян, которых он может выбрать в казенных имениях, и сверх того наградила большим серебряным сервизом, который будет доставлен в Москву. Но непременным условием было: в течение года никуда не отлучаться от имения.
Орлов понял, что за вежливыми словами императрицы скрывается ее твердая воля, которую она никому не позволит нарушить, почему и выслала человека, обладающего «особым даром до точности доводить трудные разбирательства».
В комнату вошел адъютант, Орлов распорядился:
– Вели закладывать лошадей на Москву…
Несостоявшаяся дуэль
Предрассветную тишину Петербурга разбудили разнозвучные церковные колокола. Однако генерал Остерман-Толстой проснулся не от их заливного звона, а от боли в левой руке. Впрочем, руки как таковой не было, генерал потерял ее в 1813 году в августовском сражении с наполеоновскими войсками близ небольшого чешского селения Кульм, но боль нет-нет – да и навестит его, напоминая о прошлом…
Остерман-Толстой был человеком своеобразным, он «даже среди знаменитых сверстников умел себя выказать». Молодым офицером под командованием Суворова штурмовал Измаил, потом служил под начальством Кутузова. Особо отличился в кампании 1806–1807 годов, командуя передовым отрядом; он в течение пятнадцати часов сдерживал ошеломляющий натиск французов, возглавляемых самим Бонапартом. Адъютант генерала, будущий декабрист Волконский, вспоминал, что когда войска начали нести большие потери, Остерман-Толстой, как витязь, не слезал с коня, мотался по полкам, подбадривая солдат. В самый напряженный момент боя ему доложили, что войска несут большие потери от огня противника, спросили, каковы будут распоряжения, надеясь получить приказ об отступлении, но генерал ответил: «Стоять и умирать». Очевидно, это дало повод французскому генералу Коленкуру доложить Наполеону о стойкости русских войск: «Русских мало убить, их надо еще и повалить».
Потом было Бородино. Корпус генерала находился на самом ответственном участке между батареей Раевского и Багратионовыми флешами, где решалась судьба сражения.
И все же Кульм в памяти генерала стоял особо, не потому, что Александр Иванович был там тяжело ранен. Под Кульмом население Богемии, восхищенное доблестью русских, в знак благодарности за избавление от вторжения наполеоновской армии, преподнесло ему драгоценный кубок.
Приняв этот дар, растроганный генерал распорядился высечь на кубке имена русских офицеров, геройски павших под Кульмом. Вот и сейчас, проснувшись, князь словно наяву увидел молодого офицера-героя, погибшего последним в том сражении. А запомнился он потому, что в штыковой атаке храбрец сразил четырех солдат неприятеля на глазах генерала. Генерал силился вспомнить фамилию офицера, еще прежде отличившегося под Бородином и получившего награду из рук самого Кутузова.
Как же ему фамилия? – слегка заволновался Александр Иванович и, одевшись, по широкой лестнице спустился в Белую залу, где находился кубок богемцев.
– Каштановский, – вслух прочитал на кубке и облегченно вздохнул. – Погиб совсем юным. Он и ему подобные составляют славу отечества.
Затем медленным взглядом окинул стоявшие по углам бюсты Петра I, Румянцева, Суворова, Кутузова, задержался возле любимой картины, изображавшей Лейпцигское сражение. Прошел в библиотеку, занимавшую две смежных комнаты и имевшую хаотический вид: книги расставлены на полках как попало, многие то здесь, то там грудами лежали на полу, некоторые вообще не вынуты из упаковок. Найти нужную книгу было трудно, к тому же отсутствовал каталог. Остерман-Толстой задумал привести наконец библиотеку в порядок, пригласив для этой цели бывшего своего адъютанта поручика Лажечникова, будущего писателя, автора «Ледяного дома», одного из пионеров русского исторического романа. В то время Лажечников служил в канцелярии московского генерал-губернатора. Генерал любил поручика за его ум, эрудицию, скромность и яркий юмор. Приезд Лажечникова ожидался с дня на день.
Взор генерала остановился на собственном надгробном памятнике, изготовленном по его просьбе: он, Остерман-Толстой, лежал, опираясь на барабан; стрелки часов, вмонтированных в барабан, показывали время ранения генерала; рядом – оторванная рука. Кое-кто из друзей генерала втайне посмеивался над ним за причуду с памятником, но у Александра Ивановича на сей счет было свое мнение. Он утверждал: живущему все же любопытно взглянуть на памятник, который будет поставлен на его могиле.
Памятнику, конечно, не место в библиотеке, подумал генерал и велел слугам перенести его в соседнюю комнату. Зная своего бывшего адъютанта, как человека, которому присущ большой юмор, генерал не хотел, чтобы памятник попал на глаза Лажечникову.
По-прежнему перекликались колокола. Генерал поднялся на третий этаж, вышел на балкон. Утро дышало свежестью и прохладой, серая ночная пелена медленно сползала с окружающих строений. В это время послышался звук почтовых колокольчиков; он приближался, вскоре из-за поворота покаьалась закрытая карета и, повернув на Английскую набережную, остановилась у дома генерала. Вот и гость, подумал Александр Иванович, присматриваясь к коренастому поручику в мундире лейб-гвардии Павловского полка, вышедшему из кареты. Генерал сразу узнал своего бывшего адъютанта и не удержался от восклицания:
– Наконец-то! Милости просим, любезный Иван Иванович. Поднимайтесь сюда, вещи ваши занесут.
Прежде чем подняться на третий этаж, гость внимательным взглядом окинул дом, по праву считавшийся одним из самых красивых в Петербурге. Не зря же Пушкин потом в «Евгении Онегине» посвятит ему строки:
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом.
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам, и модных чудаков.
Гость поднялся, генерал единственной рукой прижал его к груди, поздравил с приездом и, зная, что тот первый раз в столице, сказал:
– Посмотрите, милейший Иван Иванович, нигде более вы не увидите такой красоты!
Со временем гость описал свои впечатления: «…Вид на глубоководную, широкую Неву с ее кораблями, набережными, Академией, биржей и Адмиралтейством привели меня в восторг. Я бывал в Берлине, Лейпциге, Касселе, Кенигсберге и Париже, но ни один из этих городов не сделал на меня такого впечатления. Правда, когда я в первый раз увидел Париж, я ощутил невыразимо высокое чувство…
Но чувство это было совсем не то, которое наполнило душу мою при приезде в родной город, созданный гением великого Петра.
– Прекрасно! Чудесно! – мог я только сказать…» В то августовское утро они долго стояли на балконе, любуясь величественным градом. Наконец генерал сказал:
– Пора завтракать.
– Александр Иванович, но мне не терпится взглянуть на вашу библиотеку.
– Нет-нет, всему свое время, любезный Иван Иванович. Прежде завтрак, а потом дела. Да и отдохнуть вам с дороги не мешает.
– Я не устал, Александр Иванович, – запротестовал гость и деловито спросил: – Работы в библиотеке много?
– Как работать будете. – Генерал сощурил глаза. – Наш город славится красавицами, а вы ведь холостяк. Думаю, месяца за три справитесь.
Когда хозяин и гость зашли в столовую, стол уже был накрыт. За завтраком генерал полюбопытствовал:
– Ну, как там Москва-матушка?
– Живет и здравствует, а о вас до сих пор ходят разные легенды.
– Любопытно, любопытно, что именно? – оживился хозяин.
– Буквально за несколько дней перед отъездом в одной порядочной компании кто-то из военных сказал, будто вы намеревались застрелить генерала Пфуля в самом начале войны с Наполеоном за то, что тот якобы своими невежественными советами императору ослаблял русскую армию.
Генерал рассмеялся, ответил:
– Последнее совершенно справедливо, а то, что хотел застрелить, – сущий вздор. Сейчас я вам расскажу. – Александр Иванович отпил из бокала вина, продолжил: – С Пфулем дело обстояло так. Этот худой, с морщинистым лицом и глубоко вставленными глазами немец, состоящий на русской службе, считал себя военным теоретиком и пользовался большим доверием императора. По характеру он был человек невежественный и самоуверенный, а теоретик, так сказать, голый, отрицающий всякую военную практику. Однажды, когда он предлагал императору явно нелепый план действий, я воспротивился и сказал, что для него Россия – мундир: он его надел и снимает, когда захочет, а для меня Россия – кожа моя… – Генерал взял чашку, протянул руку к шумевшему самовару, налил чаю, улыбнулся: – Пфуль пробыл в России почти пять лет и за это время, представьте, не выучил ни одного русского слова, в то время как приставленный к нему денщиком неграмотный малоросс Федор Владыко научился разговаривать по-немецки и часто выступал в роли переводчика. Смешно, не правда ли? Вот такие военные советчики были при императоре нашем. Они все могли погубить.
Лажечников, мечтавший о славе писателя и работавший тогда над «Походными записками русского офицера», извлек блокнот и на всякий случай записал то, что рассказал генерал, а потом спросил:
– Александр Иванович, вы помните, как в сражении под Бауценом вас, полумертвого от потери крови, вынесли с поля боя?
– Такое не забывается, а почему вы это вспомнили?
– Дело в том, что я намерен описать тот бой. И хочу вас о нем подробно расспросить.
– Стоит, стоит. Тогда мы захватили в плен семь тысяч французов вместе с их маршалом и штабом. Да что сейчас вспоминать, милейший Иван Иванович, это уже история. А вы не боитесь, что все, что напишете об этом бое, потом придется сжигать?
Генерал задал гостю этот вопрос потому, что в 1817 году Лажечников издал «Первые опыты в прозе и стихах», которые впоследствии сам скупал и уничтожал.
– Надеюсь, что нет. Теперь у меня славные советчики имеются: Батюшков, Жуковский, а недавно познакомился еще и с Денисом Давыдовым. Вот это глыбы, скажу вам!
– А с Пушкиным вы знакомы? У нас только о нем и разговоры. Кое-кому досталось от него. – Генерал понизил голос до шепота. – Даже супротив правителей злые эпиграммы пописывает. Очень смел.
– Многое о нем слыхал, кое-что его читал, а вот видеть, к сожалению, не приходилось. Говорят, его стихотворения, словно птицы, разлетаются по всему Петербургу.
– Это правда. Сейчас я, Иван Иванович, покажу одно его стихотворение, которое в списках, как вы смели заметить, летает по Петербургу…
Генерал поднялся, вышел в свой кабинет и вскоре положил перед Лажечниковым исписанный лист бумаги.
– Это недавно появилось, полюбопытствуйте. Гость прочитал вслух:
Полуфанатик, полуплут;
Ему орудием духовным
Проклятье, меч, и крест, и кнут.
Пошли нам, господи, греховным,
Поменьше пастырей таких, —
Полублагих, полусвятых.
– Извините мою невежественность, Александр Иванович, но о ком речь?
– Все здесь весьма ясно. Речь идет о святом отце Фотии, который при помощи Аракчеева вошел в высшие круги петербургского общества и получил известность как большой фанатик и изувер. Вот Пушкин и взял его на прицел… Скажу вам, Пушкин талант несомненный, но уж больно дерзкий… – Генерал, понизив тон, добавил: – Попадает от него самому императору…
– Вам приходилось его видеть?
– Пока нет.
– С вашего позволения, Александр Иванович, я перепишу эту эпиграмму. Повезу в Москву.
– Если к этому вы добавите, что список сделали не у кого-нибудь, а у генерала Остерман-Толстого, получится великолепно, – заметил генерал.
Хозяин и гость весело рассмеялись…
Святые отцы не любили поэта. Ходили слухи, будто митрополит Филарет жаловался Бенкендорфу на Пушкина за то, что в «Онегине» есть такие слова: «и стая галок на крестах»; в этом митрополит нашел оскорбление святыни. Цензор, которого хотели привлечь к ответу, сказал, что галки действительно садятся на крестах и в этом вина полицмейстеров, а не его.
…Ежедневно после завтрака Лажечников уходил в библиотеку и работал там до обеда. Затем отправлялся смотреть город, а вечером сидел за «Походными записками», которые приближались к завершению. Выходных дней у поручика не было, хотя генерал не раз делал ему замечания по этому поводу, но поручик отшучивался, говорил, что он не устает.
Месяца два спустя к генералу приехал другой гость, майор Денисевич, невысокого роста, лысый, с большими, навыкате глазами. Это был сын погибшего в войну генерала Денисевича, с которым в свое время дружил Александр Иванович. Но сын, в отличие от отца, был высокомерен, заносчив и неуживчив.
Александр Иванович предупредил Лажечникова, чтобы тот в разговорах с гостем был поосторожней.
Однажды поздно вечером, возвратясь из театра, майор Денисевич, очень расстроенный, зашел к Лажечникову: их комнаты находились рядом.
– Что с вами? – спросил Иван Иванович.
– Не рад, что был сегодня в театре.
– Какая нибудь неприятность вышла?
– Угадали. В театре рядом со мной оказался какой-то невоспитанный молодой человек. Ему, видите ли, не понравилась пьеса. Он нашел, что дурно играют артисты, громко кричал «несносно» и хихикал. Во время антракта в присутствии его знакомых я сделал ему замечание. И что вы думаете? Он, видите ли, счел себя оскорбленным и потребовал, чтобы я извинился. – Майор достал носовой платок, вытер испарину на лысине. – Ну, шельмец?! Сам нарушал порядок, мешал публике слушать пьесу, а я должен извиняться. Нет уж, увольте!..
Майор нервно зашагал по комнате.
– Чем же все кончилось?
– Он записал мой адрес и сказал, что завтра утром явится. Гм… Неужели явится? Нахал…
– Все возможно, если у вас так далеко зашло и он счел себя оскорбленным…
– Я уж и не рад, что связался с этим плутом.
– Не расстраивайтесь, все обойдется. Он уже забыл обо всем, а вы волнуетесь, – успокоил майора Лажечников.
На следующий день было воскресенье. Перед завтраком Денисевич снова зашел к Ивану Ивановичу и прямо с порога начал:
– Вы знаете, поручик, сегодня я видел дурной сон. Видимо, из-за вчерашнего расстройства. Попадись мне этот шельмец еще раз, я его не так отчитаю, – пригрозил майор.
Как только Денисевич вышел, в дверь постучали, и на пороге появился молодой курчавый юноша во фраке, позади его стояли два офицера с саблями.
– Позвольте спросить, майор Денисевич здесь живет? – спросил курчавый, блеснув проницательными глазами.
– Его комната напротив, – ответил Иван Иванович и последовал за гостем к Денисевичу.
Увидев майора, курчавый, стоя у дверей его комнаты, решительно сказал:
– Господин майор, я требую извинения, в противном случае – дуэль.
– Я дал вам адрес, молодой человек, не для того, чтобы вы явились ко мне с претензией, а для того, чтобы еще раз внушить вам, что вы вели себя вчера непристойно, – рассердился Денисевич. – Притом я – штабс-майор, а вы, видите ли, никому не известный молодой человек, разве я могу с вами драться?
– Можете! – настаивал курчавый. – Я русский дворянин Пушкин. Мои офицеры сие подтвердят, вам нет никакого стыда драться с дворянином…
– Раз так – я согласен, – как-то неуверенно буркнул Денисевич.
Лажечников, услышав знакомую фамилию, удивленно спросил:
– Позвольте, не Александра ли Сергеевича имеем мы честь видеть перед собой?
– Вы не ошиблись, господин поручик, я Александр Сергеевич Пушкин.
«Пушкин, Пушкин», – мысленно повторял Иван Иванович фамилию, которая день ото дня становилась все более популярной. Лажечников не мог допустить, чтобы роковая случайность погубила поэта. На дуэли он может быть убит, в лучшем случае – ранен. Нет, нет, нельзя этого допустить, – твердо решил Лажечников.
И вдруг его осенило. Повернувшись к Пушкину и офицерам, Лажечников сказал:
– Господа, прошу позволить мне переговорить с майором наедине. – И тут же к Денисевичу: – Пожалуйста, пройдемтесь, господин майор.
Денисевич ленивой походкой поплелся за Лажечниковым. Как только они оказались вдвоем, опередил его вопросом:
– Откуда вам, господин поручик, известна фамилия этого нахала? Уж не тот ли это стихоплет, которого ненавидит сам император?
– Нет, нет, – слукавил Лажечников.
Иван Иванович понимал: начни он убеждать майора, что Пушкин замечательный, многообещающий поэт, это не произведет на майора решительно никакого впечатления, тем более поэт, не жалуемый царским двором.
– Судьба, господин майор, столкнула вас с сыном всем известного в Петербурге дворянина. Его отец – личный друг императора…
– Тем лучше, – оживился Денисевич, – я получу известность, как только продырявлю курчавую башку его сына. – Майор с самоуверенной небрежностью отошел к окну. Лажечников не сдавался:
– Бог с вами! А вы подумали, что станет с вашей женой и детьми? Ведь после дуэли вас навечно заточат в острог! Одумайтесь! Сейчас от вас требуется самая малость: извиниться.
– Нет, нет, поручик. Я должен защитить честь офицера!
– Ваша честь останется не задетой, а благородство вы несомненно проявите.
Лажечников заметил, что майор засомневался в своем решении, и выбросил последний козырь:
– Ежели вы будете настаивать на своем, мне ничего не останется, как подняться к генералу и доложить ему. Надеюсь, он не благословит вас.
Майор хорошо знал крутой нрав генерала и побаивался его. Немного подумав, он заявил:








