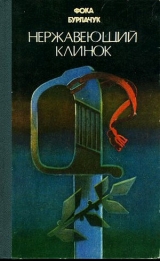
Текст книги "Нержавеющий клинок"
Автор книги: Фока Бурлачук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
– Подлец… Меня убить можно, но его – нет! Ленина никогда никому не убить…
Потом подошел к окну, взял портрет и сказал жене:
– Спрячь, пожалуйста, подальше. – Немного подумав, добавил: – Теперь надо ждать гостей. Они нас не оставят. Собери свои пожитки, отнеси к сестре и портрет возьми. Сейчас же, не откладывая. Я помогу тебе.
Соседка Ильи Васильевича слышала выстрел. Когда эсэсовец уволок свой мотоцикл, она забежала узнать, что произошло, и сообщила, что немцы в центре города повесили кого-то из бывшего руководства города…
– Это им даром не пройдет, – заметил Илья Васильевич. Подошел к книжным полкам, отобрал несколько книг.
– Это тоже надо куда-то спрятать.
– Дайте мне, Илья Васильевич, у одинокой, бедной женщины никто не будет делать обыск, – предложила соседка.
В тот же день Журавлевы отнесли кое-что к сестре Клавдии Николаевны, а когда возвратились домой, их дом уже догорал.
Местным полицаям удалось выследить Илью Васильевича: его арестовали и после зверских пыток бросили в тюрьму. Месяца через три к Журавлевой пришла незнакомая женщина, принесла записку из четырех слов, написанных рукой Ильи Васильевича: «Прощайте, завтра меня расстреляют». Клавдия Николаевна до утра не сомкнула глаз. А утром, чуть начало светать, она была уже в тюрьме. Кладбищенский служитель показал ей маленький холмик, в котором ночью, тайно, зарыли троих неизвестных. Клавдия Николаевна привела туда внука, сказала:
– Запомни, Петенька, здесь покоится твой дедушка…
Рассказывая, Клавдия Николаевна часто всхлипывала.
– Вот что, Мишенька, – закончила она, – подай мне, пожалуйста, тот узелок.
Ослабевшими руками она достала оттуда завернутый в бумагу портрет, протянула его Михаилу.
– Возьми, Миша, на память об Илье Васильевиче. Он очень дорожил им. Мне теперь его не сберечь… Пусть помогает тебе бить фашистов…
– Спасибо, Клавдия Николаевна. Закончится война, я привезу его обратно в наш город, – сказал Михаил, прижимая портрет к груди.
С тяжелыми думами возвратился Овчаренко в роту. Перед глазами неотступно стоял Илья Васильевич. Его трагическая судьба, несчастье его жены и малолетнего внука, горе всех тех, кого он видел в лесу, наполнили сердце тяжелым, как свинец, чувством мести.
– В расположении роты – начальник политотдела, – предупредил Овчаренко кто-то из солдат. Но он уже сам заметил полковника, стоявшего у танка в окружении солдат. Полковник, как всегда, рассказывал что-то интересное, солдаты улыбались. Овчаренко подошел к нему, чтобы доложить, но полковник резко оборвал его:
– Где вы ходите? Не своим делом занялись, товарищ старший лейтенант, вместо того чтобы готовиться к маршу…
Овчаренко стоял по стойке смирно, молчал. Он знал, что старшие начальники не любят длинных оправданий, а сказать о причине в нескольких словах он не мог. К его удивлению, полковник тут же сменил тон, сочувственно спросил:
– Как ее состояние?
– Положили на операционный стол.
Бумага, в которую был завернут портрет вождя, оборвалась. Полковник заметил рамку:
– Что это у вас?
– Портрет Ленина, – ответил Овчаренко и, освободив его от остатков бумаги, протянул полковнику.
Разглядывая знакомые, дорогие черты лица на портрете, полковник спросил:
– Где вы его взяли?
Овчаренко рассказал коротко об истории портрета, а когда закончил, полковник переспросил:
– Так говорите, что фашист в него стрелял?
– Да, но, к счастью, не попал. – Овчаренко показал на пулевое отверстие в нижнем правом углу рамки. – Теперь будет со мной в танке вроде как член экипажа…
– У вас прекрасная реликвия, товарищ старший лейтенант. Надо, чтобы о ней знали во всей бригаде. Если не возражаете, я попрошу армейскую газету рассказать об этом, – сказал полковник.
Вскоре после отъезда начальника политотдела прозвучал сигнал к выступлению. Бригада двигалась на запад.
Сдача теплых вещей в селе шла из рук вон плохо. Кроме пары теплых носков, что принесла двоюродная сестра Остапа Халимона, никто ничего не сдавал. Староста и два полицая, которыми он уже успел обзавестись, с раннего утра заправленные самогоном, мотались по дворам, угрожали, но это мало помогало. Особенно свирепствовал ефрейтор Отто Штрейхер, которого сами немцы прозвали Тихим Отто за то, что с начала войны он ни разу не вынул пистолета из кобуры. Он не любил шума. Тихий Отто разработал свой особый способ убийства и очень гордился этим. У него были свои планы. Он шарил по дворам, вылавливал кур, а если попадался поросенок, тоже не брезговал. Связывал веревкой поросенку задние ноги, перекидывал через плечо и так волок через деревню. Визг приводил людей в дрожь.
Однажды на Отю – так прозвали Отто Штрейхера крестьяне – напали собаки, он, несмотря на свою тучность и неповоротливость (чистый вес ефрейтора составлял сто два килограмма!), изловчился, схватил одну из собак за хвост и на глазах у изумленных ребятишек задавил ее. Еще когда Отто служил надзирателем в концентрационных лагерях, он и там не стрелял в свою жертву, а давил ее. С тех пор у него выработалась хищная привычка давить все живое: кошку или собаку, поросенка или курицу, но самое большое наслаждение испытывал он, когда случилось задавить человека. Это был садист самого высокого пошиба. Он любил повторять слова своего фюрера: «… мы оккупируем территории с весьма высоким процентом славянского населения. Мы обязаны истреблять его, это наша миссия…»
Если случалось, что Отто несколько дней никого не убивал, он ходил мрачный, тяжело сопел, ни с кем не разговаривал. В такие минуты его побаивались даже немецкие солдаты: старались держаться от него подальше и уж, конечно, ни в коем случае не спорить. Сам комендант побаивался ефрейтора. Правда, Тихий Отто устраивал его в той части, что мог все добыть. Слава о черных делах ефрейтора распространилась далеко за пределы деревни. Родители пугали его именем непослушных детей. Однажды, в феврале, бродя по селу, Отя заметил мальчика лет четырех, одетого в огромные сапоги, который неуклюже переходил улицу. Отя окликнул малыша: увидев чужака, мальчик испуганно остановился. Отя достал из кармана губную гармошку, приложился к ней губами. Глаза мальчика потеплели, он заулыбался. Отя протянул ему гармошку: на, мол, возьми. Желание получить такую красивую игрушку перебороло страх, и мальчик протянул ручку. В этот миг огромные пальцы Оти, словно клещи, сдавили ребенку горло…
Страх, вызванный деянием ефрейтора, был настолько велик, что некоторые жители Снежинки побросали свои дома и перебрались в другие деревни.
Мария Овчаренко жила в избе, которую ей построил колхоз после смерти мужа – первого председателя колхоза. Изба выделялась тем, что была покрыта светлым шифером. Она-то и привлекла внимание Оти. Он дважды пытался зайти туда, но безуспешно: каждый раз на дверях висел замок. Мария жила одна. Младшие сыновья, оба комсомольцы, ушли к партизанам и лишь при случае подавали о себе весточку.
Сегодня Мария пошла на другой конец деревни проведать сестру. Возвратилась во второй половине дня. На улице кружила пурга, в избе потемнело. Она достала лампу, протерла стекло, но зажигать побоялась. С тех пор, как в село пришли немцы. Мария из неосознанного страха не зажигала свет. Молча сидела, вспоминала пережитое, думала о сыновьях. Взглянула на ходики, что висели на стене, – было только без четверти пять – и решила все-таки зажечь лампу. В избе стало немного уютней, Мария подняла с пола кошку, что терлась у ее ног, посадила на теплую лежанку и вспомнила, что не закрыла двери на засов, – собиралась еще принести дров из сарая. Метнулась в сени и там нос к носу встретилась с Отто.
– Гутен абенд! – сказал Отя, вваливаясь в хату.
Мария от страха онемела. Несколько секунд стояла неподвижно; ей бы выскочить на улицу, а она, словно загипнотизированная, пошла следом за немцем в хату.
Гость без приглашения снял шинель, развалился на табуретке возле стола, разглядывал избу. Мария пришла в себя, решила во что бы то ни стало выбраться из дома. Пусть берет, что хочет, но оставаться с ним под одной крышей было выше ее сил. Но как только она ступала шаг к дверям, гость грозно останавливал ее окриком: «Цюрюк!»
Она поняла, что попала в западню, и лихорадочно думала, как из нее вырваться. Прикинулась веселой, стала толковать Отто, что сейчас сбегает за шнапсом, принесет яйки и они поужинают. Мария не знала, что Отя, в отличие от своих сослуживцев, глушивших самогон, не прикладывается к спиртному. Выслушав хозяйку, он несколько раз повторил «гут, гут», но, как только она порывалась к дверям, снова грозно рычал: «Цюрюк!»
Мария подумала: единственное ее спасение – это топор. Но топор лежал в сенях, а туда она не могла попасть. Мария остановилась у теплой лежанки, гладила рукою кота и глядела на немца. Ее поразили его руки: длинные, необыкновенно толстые пальцы, покрытые рыжей шерстью, словно у обезьяны.
Отто медленно достал сигареты, закурил, потом прошелся по избе, зачем-то посмотрел в окно, – на улице было уже совсем темно, – повернулся к хозяйке и сказал:
– Битте, кофе.
Мария, как могла, объяснила, что кофе у нее нет, есть чай.
– Битте, – повторил немец.
Мария бросилась на кухню, вспоминая, где лежит кухонный нож, – им она сможет защитить себя, но почти неслышно следом за ней на кухню пробрался Отто. Она увидела его страшные глаза, протянула руку к ножу, но в это мгновенье фашист схватил ее за горло, повалил на пол, прижал коленом ей грудь…
Отто неторопливо пошарил по избе, взял полушубок и старые, подшитые валенки, связал все веревкой и отложил в сторону. Затем собрал на стол кучу всякого хлама, облил из лампы керосином и поднес зажигалку…
Возле горевшего дома беспомощно толпились женщины и дети. Они еще услышали, как в комнате отчаянно пищал кот. Клим подъехал, когда рухнули стропила дома. Ни к кому не обращаясь, он спросил:
– А где Мария?
Ему никто не ответил. Тогда он высказал предположение:
– Наверно, сгорела, бедняжка…
…Бой за населенный пункт Гремучие Ключи, который значился на карте, а на самом деле был до основания стерт войной, закончился поздно вечером. Противник отошел, или, как выражалась геббельсовская пропаганда, «выравнял» свои позиции, оставив на поле боя много техники и трупов. В бригаду, наконец, доставили письма. Никто не знал, чего там больше: радости или горя, однако всем хотелось поскорей получить долгожданный конверт, а чаще всего – бумажный треугольник.
Получил письмо и Овчаренко, но оно насторожило: на конверте был не Ритин почерк. С горьким предчувствием открыл он конверт, извлек оттуда листочек бумаги, где незнакомой рукой было написано два слова: «Рита погибла» – и ниже неразборчивая подпись.
Письмо выпало из рук. Страшная весть на какое-то время словно парализовала Михаила. Мозг не хотел воспринимать случившееся. Михаил не мог представить себе, что Риты больше нет, что он уже никогда не услышит ее приятного певучего голоса, не увидит ее глаз и чарующей улыбки, не почувствует тепла ее ласковых рук. Погибла его мечта и надежда. Будь проклята, война!
Из оцепенения Михаила вывел радостный голос Воробина:
– Товарищ старший лейтенант, взгляните, пожалуйста, на моего карапуза! На меня похож, правда?
Овчаренко взял фотокарточку, безразлично посмотрел на нее и подтвердил:
– Да, очень похож…
Наблюдательный Воробин заметил, что комроты в расстроенных чувствах:
– А вам что пишут? – спросил он.
– Да вот, – ответил Михаил и подал Воробину записку.
Воробин знал, что у старшего лейтенанта есть невеста и что она врач. Прочитав сообщение, Воробин решил как-то успокоить командира, сказал:
– Война, товарищ старший лейтенант, ничего не поделаешь… Она хватает без разбора. Мы еще сами не знаем, что станется с нами. Конечно, жалко любимого человека, но впадать в панику нельзя… Вон у комбата Стахиева пропали жена и дочь… Отомстим…
Воробин ушел, но через несколько минут он опять пришел с флягой в руке.
– Товарищ старший лейтенант, давайте вашу кружку, отцежу из моего НЗ, может, на душе легче станет.
Овчаренко залпом выпил налитое, про себя сказал: «Земля ей пухом!»
Комендант Либерман, как всегда, поднялся очень рано. Была горячая пора, и нужно было присмотреть за работой. Немецкой армии необходимы хлеб, мясо, молоко, картофель и овощи. Все это должны производить на оккупированных землях колхозы, переименованные теперь в фермы.
Либерман побрился, выпил кофе, взглянул в окно. У забора уже сидели двое мальчуганов с пучками прутьев из лозы. Это были его постоянные поставщики «сырья», которое он называл «стимулятором». Позвал солдата-переводчика, велел забрать у мальчуганов «стимуляторы».
– Сколько? – спросил солдат.
– Двадцать, – разом ответили ребята.
Солдат не стал пересчитывать, обман исключался. Отсчитал марку мелочью, по пять пфеннигов за штуку, отдал ребятам, велев завтра принести снова. Прутья имели строгий стандарт, отклонение не допускалось: сто десять сантиметров длиной, ни на миллиметр больше или меньше. Так требовал комендант. Либерман садился на линейку, ложил рядом с собой прутья и отправлялся объезжать места, где работали люди. Если где-либо замечал плохую работу, останавливался, спрашивал имя провинившегося, доставал прут и отпускал несколько ударов по голове или по спине нерадивого, затем отбрасывал прут в сторону. Одним прутом двух человек не бил. Дневной расход прутьев колебался в зависимости от настроения Либермана.
С немецкой точностью Либерман вел учет «стимуляторов». В отчете об израсходовании денег была специальная графа: «Приобретение стимуляторов».
Комендант требовал и от старосты следить за работой, так как за последнее время саботаж возрос. Клим врал ему, будто он с раннего утра и до позднего вечера только этим и занимается. Сегодня Либерман решил проверить его работу и утром заехал к нему. Клим спал мертвецким сном, в избе пахло самогонным перегаром. Жена Клима по приказу коменданта с трудом разбудила мужа. Комендант закипел яростью. Он выскочил на улицу, выхватил из линейки прут и снова забежал в хату. Сначала Клим беспокойно мычал, а затем начал кричать, просить пощады. Но Либерман продолжал испытывать на старосте «стимулятор», пока прут не распался у него в руках, а затем уже на улице выхватил еще один прут и дважды огрел по спине хозяйку.
В один из августовских дней по Снежинке прокатился слух, будто в районе объявился Остап Халимон и теперь заправляет там всей полицией, носит немецкую форму с погонами лейтенанта. В войну ходили разные слухи, но этому люди сразу поверили: от Халимонов всего можно ждать. И то, что Кривой Клим направил двоюродной сестре Остапа Нине Ткаченко повозку дров, было тому подтверждением. А вскоре в деревню нагрянул и сам Остап. Верхом на лошади, в сопровождении двух полицаев он подъехал к отцовскому дому. Немцы встретили его любезно, пригласили к столу. Он опустился за отцовский стол, за которым не сидел столько лет.
Гость и хозяева поднимали тосты за великую Германию и ее фюрера, за господина коменданта и господина Остапа. Наконец Остап решил выбросить свою козырную карту. Осушив рюмку, не закусывая, он поднялся со своего места, раскрасневшийся, потный, и объявил, что имеет сказать что-то очень важное.
– Господа, – начал Остап. – Я хочу выпить за нашу нерушимую дружбу. И в знак этого преподношу вам в дар, господин Либерман, этот дом, в котором мы сейчас находимся. Дом моего отца, в нем я родился и вырос…
– О, это великолепно. Сегодня же напишу моей Ильзе, что у меня имеется собственный дом на Украине.
Комендант поблагодарил Остапа, а заодно сказал, что хотел бы получить от него официальный документ о передаче дома, все должно быть оформлено по закону.
– Я подпишу любой документ, – решительно заявил Остап и, немного подумав, вполголоса добавил: – Но желательно, чтобы господин Либерман заверил, что не обойдет меня своим вниманием на случай непредвиденных обстоятельств…
– Не понимаю, что вы имеете в виду? – спросил переводчик.
– Как вам сказать, – мялся Остап, – может ведь случиться, что по воле судьбы я окажусь у вас на родине. Ходят слухи, что на фронте не все благополучно…
Переводчик о чем-то поговорил с Либерманом, а потом повернулся к Остапу:
– Господин Либерман сказал, что друзей не бросают в беде, и он твердо верит в то, что такие обстоятельства не возникнут. Господин Либерман доверительно сообщает вам, что очень скоро на фронте появится новое немецкое оружие…
Командир партизанского отряда Бурка, именуемый среди партизан Дедом Кузьмой, сидел в землянке и уже больше часа слушал доклад Ивана Лебедя, который возвратился из разведки. Лебедь под видом нищего старца более двух недель бродил по селам, узнавал, где стоят гарнизоны, чем они вооружены, а также изучал деяния старост и полицаев. Лебедь обладал даром разведчика, от его наблюдений ничто не ускользало. Бурка внимательно слушал его, делал у себя на карте пометки, записывал в блокнот, запоминал.
Партизаны готовились помешать отправке на работу в Германию очередной партии молодежи, которую оккупанты «добровольно» набирали во время облав. От знакомого железнодорожника Лебедь узнал, что отправка их намечена через трое суток.
Бурка уточнил некоторые детали, спросил:
– В Снежинке случайно не был?
Лебедь спохватился:
– Да, я забыл доложить. В самой деревне не был, но был в соседних. Говорят, что там свирепствует ефрейтор-садист, душит людей без всяких на то причин, просто ради утехи. Не брезгует даже маленькими детьми.
– Вот как?.. – удивился Бурка. – А знаете, почему я спросил о Снежинке? Дело в том, что там при загадочных обстоятельствах погибла мать наших юных партизан братьев Овчаренко…
В это время, испросив разрешения, в землянку вошел Овчаренко-младший и доложил:
– Товарищ командир, задание выполнено. Немецкий ефрейтор Отто доставлен в лагерь…
…После успешного выполнения задания, отряд партизан, преследуемый карателями, отходил в лес. Шесть партизан прикрывали отход. Среди них братья Овчаренко – Наум и Сидор. Они залегли в канаве и вели огонь по гитлеровцам, пытавшимся перейти через железнодорожную насыпь. Когда основная группа партизан уже приблизилась к лесу, братья услышали цокот конских копыт: дюжина полицаев на лошадях спешила на помощь немцам. Впереди – главный.
– Смотри, смотри, да это же Остап, вот сволочь, – сказал Наум брату и приподнял автомат.
– Не смей! – грозно прошептал Сидор, но было уже поздно. Автоматная очередь прошила предателя, и он рухнул на землю.
– Теперь нам крышка, – сказал Сидор и достал гранату.
Озверелые полицаи спешились, начали окружать смельчаков. Завязался бой. Короткий и решительный. Убив двоих предателей, погиб Наум. Раненный Сидор истек кровью, но, когда к нему подбежал полицай, чтобы схватить его, раздался взрыв. Отважный партизан подорвал гранатой себя и своего преследователя…
12
Историю портрета, который был в танке Овчаренко, знали уже во всей бригаде. Часто факты со временем обрастают новыми подробностями и становятся легендами. Так случилось и с портретом Ленина. Иногда солдатские рассказы о портрете доходили до Овчаренко, и он только улыбался, понимая, что опровергнуть их уже нельзя, да и нужно ли?
После каждого боя личный состав бригады частично обновлялся. Одни убывали раненые и после лечения в бригаду больше не попадали, другие, как это ни прискорбно, попадали в графу безвозвратных потерь. Прибывшие на пополнение солдаты долго продолжают хранить любовь к своей прежней части, но со временем обретают новых товарищей и друзей, привыкают к ним, начинают гордиться боевыми традициями новой части. Биографию своей части солдаты также нередко приукрашивают, в результате чего получается, что во всей армии нет другой такой части и, конечно, в ней служат самые храбрые солдаты. Естественно: какому сыну чужая мать милее родной? А ведь часть – это та же семья, где братство куплено ценой жизни товарищей, ценой пролитой крови.
Как-то на привале Овчаренко услышал разговор двух солдат бригады. Одного из них он знал, а другой, очевидно, был новичок.
После обеда солдаты разлеглись на траве у своего танка, смотрели в светлое небо и вели спокойную беседу.
– Степан, – говорил старый боец, – а ты знаешь, сколько наша бригада уничтожила немецких танков? Более двухсот, браток. Понял?
– Постой, постой, – оживился Степан, – зачем загибаешь? Помню, ты раньше называл совсем другую цифру.
– То, браток, по предварительным данным, а теперь точно…
Старый солдат почувствовал, что хватил через край, и перевел разговор на другую тему.
– А о талисмане слыхал? – спросил он новичка.
– О каком таком талисмане?
– Так ты, браток, и этого не знаешь! Есть у нас ротный Овчаренко, с первого дня войны в танке портрет Ленина возит. Рабочие завода ему подарили, когда провожали на фронт. На портрете подпись самого Ленина, брат. Я сам видел.
– А при чем здесь талисман?
– Да при том, что в какие только переплеты ни попадал танк ротного, а на нем нет ни царапинки, словно завороженный, понял?
– Сказка, – усомнился Степан.
– Нет, браток, в бригаде каждый это знает, понял? Не берет немецкий снаряд танк старшего лейтенанта – и все тут.
Видимо, солдатам очень хотелось, чтобы это было именно так, ведь в танке – портрет самого дорогого на земле человека.
Конечно, пожилой солдат не мог не знать, что прошлой зимой в бою осколком вражеского снаряда в танке Овчаренко перебило гусеницу, но об этом он промолчал. А было так. Во время атаки Овчаренко бросился на выручку танку взводного. Выручить-то он его выручил, но в самый последний момент у его танка осколком снаряда сорвало правую гусеницу. Экипаж быстро оставил танк, выбравшись из него через нижний люк, и сразу попал в объятия мороза и сыпучего, как песок, снега. Когда они отползли от танка метров на пятьдесят, Михаил вспомнил, что второпях забыли взять портрет. Будь что будет, но он не может оставить его там. Решил испытать судьбу. Приказал экипажу выбираться с поля боя, а сам повернул назад, в сторону танка. Не успел он проползти и десяти метров, заметил, как танковый тягач, словно корабль из волн, выскочил из заснеженной балки и на полном ходу устремился к подбитому танку. Когда танк, взятый на буксир, спустился в лощину вместе со своим спасителем, Овчаренко облегченно вздохнул.
Стояла морозная ночь. Сосновые ветки, припорошенные снегом, освещаемые луной, выглядели сказочно нарядными. Ребята оборудовали землянку. Пол застлали толстым слоем сосновых веток, поставили печурку, затопили ее. Туда поочередно забегали обогреться и передохнуть. Так как места для всех не хватало, отдыхали сидя.
Поздно ночью Овчаренко тихо пробрался в переполненную бойцами землянку, остановился у дверей, подыскивая глазами место, где бы присесть. Глаза его радостно расширились: в углу землянки, рядом с тускло горевшей лампой-гильзой, висел портрет Ленина, тот самый, который был в танке. Чуть в стороне сидел сержант Воробин, он глядел в сторону ротного и довольно улыбался.
– Ваша работа? – тихо спросил Овчаренко.
– Моя, товарищ командир, – признался Воробин. – Пусть хоть несколько минут ребята побудут в домашней обстановке…
Окруженный теплом и приятным запахом хвои, приправленным дымом от тлевших в печке сосновых чурок, Овчаренко присел и тотчас уснул, но вскоре проснулся от ужасного сна. Во сне он видел деревенский пруд, на середине которого тонула его мать. Она, пытаясь спастись, хваталась руками за опрокинутую лодку, звала на помощь, но вокруг не было ни одной живой души. «Неужели ее постигла беда? – думал Овчаренко, смахивая со лба холодный пот. – Может, заболела и некому ей помочь…»
Овчаренко взглянул в сторону дверей, увидел на пороге рядового Константинова, поднялся, молча указал ему рукой на свое место и, осторожно ступая между дремлющих солдат, вышел из землянки.
…Гитлеровцы продолжали «выравнивать» свою линию фронта уже за пределами советской территории. Танковая бригада вела бои на земле Чехословакии. Впереди был город Ческе-Будеевице.
Рота Овчаренко получила задание – стремительным броском выйти на правый фланг обороны немцев и ударить по ним с фланга. В спешке наша разведка допустила промашку. Она не обнаружила немецких танков, закопанных на опушке леса вдоль дороги, по которой предполагалось идти роте Овчаренко. Грозный гул снарядов и мин, треск пулеметных очередей и вой самолетов разбудили утро. Заволакиваемые густым дымом и пылью танкисты ринулись вперед. Они уже были на полпути к цели, когда перед танком Овчаренко, словно из-под земли, вырос незнакомец в штатском. Размахивая шляпой, он настойчиво требовал остановиться. Приоткрыв люк танка, Овчаренко строго спросил:
– В чем дело?
– Товарищи, туда нельзя, там немецкие танки. Я покажу, где их можно обойти.
Овчаренко вылез из люка, помог мужчине подняться, а сам лихорадочно думал: «Не провокация ли это?» Но какое-то чувство подсказывало, что перед ними друг. Незнакомец указывал направление движения, и вскоре засада немцев была обойдена. Танк на минуту остановился.
– Кто вы? – спросил Овчаренко.
– Чех. Коммунист. Коминтерн…
Михаил обнял незнакомца.
– Спасибо, еще раз спасибо, – повторил он, а мозг лихорадочно работал: чем бы его отблагодарить? И вдруг его осенила мысль: – Константинов, подайте мне портрет.
Овчаренко взял дорогую реликвию, протянул ее чеху:
– Это самое дорогое, чем мы располагаем…
Чех дрожащими руками развернул бумагу и увидел портрет Ленина, прижал его к груди, на его глазах появились слезы:
– Спасибо. Я знал Ленина… Коминтерн…
После боя солдаты окружили командира, и на их глазах он прочитал немой вопрос: как же теперь мы без портрета?
Вечером командир бригады, подводя итоги боя, сказал:
– Что касается роты Овчаренко, то, думаю, вы, товарищи, согласитесь со мной, что она действовала сверх похвалы…
– Ему талисман помог, – бросил реплику кто-то из офицеров.
Ежедневные сводки Совинформбюро радовали солдатские сердца. Наши войска успешно продвигались на всех участках фронта. Полковник Шауров на своем «газике» носился по подразделениям бригады, добрым словом воодушевляя бойцов. Но сегодня он прибыл в батальон с другой целью. Накануне пришел приказ о назначении его в другую часть, с повышением. Заехал проститься с офицерами и солдатами, с которыми пройден долгий боевой путь. Поздравив Овчаренко с присвоением ему капитанского звания, он спросил:
– Какие вести из Ленинграда?
Оказывается, помнил о малолетнем внуке Журавлевых, потерявшемся летом прошлого года.
– Пока ничего не известно, – ответил Овчаренко и тайно устыдился своего ответа, потому что еще не написал письмо в Ленинград дочери Журавлевых. Несколько раз собирался написать, да все откладывал. Сообщить человеку радость – легко и просто, а как сообщить горе, к тому же такое огромное?..
Нигде люди не сближаются так быстро, как на войне, в бою. Бой раскрывает человека, обнажает все его достоинства и недостатки. Говорят, чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Может, это верно в мирной жизни, но не на войне. Здесь все на виду.
Шаурова с первых дней полюбили в бригаде за его простой, веселый нрав. Он знал по имени и отчеству всех офицеров бригады, знал по фамилии многих солдат. Весть о том, что Шауров уезжает из бригады, быстро разнеслась, и солдаты вслух высказывали свое сожаление. Вот и сейчас, как только Шауров вышел из машины, его обступили солдаты. Им хотелось услышать его всегда интересный рассказ о событиях на фронтах, остроумную шутку. И хотя звание комиссара было давно упразднено, в бригаде полковника Шаурова звали только комиссаром.
Повеял южный ветерок, и сразу потеплело, ветер разогнал тучи, небо прояснилось. Полковник беседовал с солдатами.
К группе собравшихся подошел солдат Евдокимов, которому несколько дней назад был вручен орден Славы II степени. Полковник взглянул на него, заулыбался:
– Вот, товарищ Евдокимов скоро получит еще один орден Славы, полным кавалером приедет в свое село. От девчат отбоя не будет…
Неожиданно прозвучала команда «воздух». Послышался гул приближающихся самолетов.
– По местам, ребята! – распорядился полковник и отошел под высокую сосну.
Солдаты бросились во все стороны. Затрещали зенитки. Полковник взглянул на небо и увидел, как вражеские самолеты сбросили бомбы. Черные точки, быстро увеличиваясь, стремительно неслись к земле. Шауров сделал еще несколько шагов вперед, залег возле сосны. Сотрясая землю, начали рваться бомбы. Враз все вокруг затянуло дымом, запахло гарью, воспламенились верхушки деревьев.
Отбомбившись, самолеты улетели. Овчаренко стряхнул землю с комбинезона, протер запорошенные глаза, посмотрел туда, где лежал полковник, но его там не было. Наверно, успел куда-то отползти, подумал он. Сделал несколько шагов к воронке, образовавшейся на месте сосны, но, почувствовав боль в правой ноге, присел на землю, снял сапог. Открытая рана залила кровью портянку. И вдруг, словно ножом, полоснули по сердцу слова: «Комиссар убит!» Забыв о ране, Овчаренко бросился туда, откуда раздался голос, и увидел бездыханное тело полковника.
Шаурова убило взрывной волной, не оставив на теле ни одной царапины.
В тот же день поздно вечером с группой других раненых Овчаренко привезли в полевой госпиталь. Пожилой хирург с усталыми глазами осмотрел его рану и назначил операцию.
Овчаренко не раз приходилось видеть раненых, но то, что он увидел в госпитале, поразило его. Каких только калек здесь не было! На фоне их свою рану он считал ничтожной. Да оно, по сути дела, так и было. Овчаренко глядел на врачей и думал: каким же мужеством и нравственной силой должны обладать эти люди в белых халатах, беспрерывно видящие страдания и муки людей, которых им предстоит лечить не только от физических недугов, но и от душевных заболеваний. Некоторые тяжело раненные впадали в отчаяние, теряли веру в жизнь. А врачам надо было вернуть им эту веру. Овчаренко ловил себя на мысли, что прежде он недооценивал труд врачей, считая, что их труд ни в какое сравнение не идет с трудом солдата…
Через несколько дней после операции Овчаренко санитарным поездом отправили в тыл.
Бывший дом отдыха, расположенный в живописном месте, недалеко от областного центра, был переоборудован под госпиталь. Внешне здесь мало что напоминало о войне. Вечерами улицы городка освещались электрическим светом, от которого давно отвыкли фронтовики. А главное – не было слышно ни противного воя снарядов, ни надсадного гула самолетов. Но это только на первый взгляд. Война и здесь, в глубоком тылу, повсюду показывала свой страшный оскал: опустели полки магазинов, обеднели меню в столовых, люди ходили в изношенной одежде, удлинилось время рабочих смен. В госпитале все, от главного врача до няни, работали по десять-двенадцать часов в сутки.








