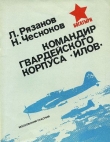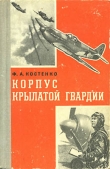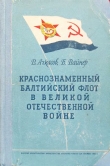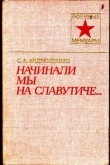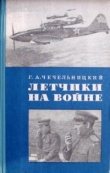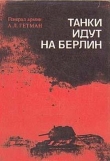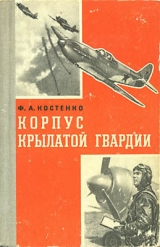
Текст книги "Корпус крылатой гвардии "
Автор книги: Филипп Костенко
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
* * *
В ноябре и первой половине декабря из-за плохих метеоусловий части корпуса боевой работы не вели. Наземные войска 1-го Прибалтийского фронта, не получая нужной поддержки с воздуха и застигнутые наступившей оттепелью, в результате которой проходимость боевых и транспортных машин резко снизилась, при попытке наступать успеха не имели.
Воспользовавшись затишьем на фронте, противник ежедневно совершенствовал свою оборону. Его авиация боевой работы тоже не вела, лишь отдельные пары осуществляли воздушную разведку.
Полоса плохой погоды длилась долго. Стояли густые туманы, висела низкая облачность, постоянно выпадали осадки. По 20—25 суток летчики не могли подняться в воздух. Такие перерывы отрицательно сказывались на [228] летной подготовке, особенно молодых пилотов. И как только погода улучшалась, на всех аэродромах возобновлялась боевая работа. Техники и механики готовили самолеты, летчики изучали задания и по готовности вылетали на прикрытие боевых порядков войск фронта, действий штурмовиков и бомбардировщиков, наносивших удары по войскам противника.
Авиация 3-й воздушной армии уничтожала живую силу и технику окруженной группировки гитлеровцев.
После длительной паузы войска 1-го Прибалтийского фронта 27 января 1945 г. перешли в наступление на мемельском направлении. В результате успешного наступления они полностью ликвидировали вражескую группировку мемельского обвода и 28 января штурмом овладели городом и портом Мемель.
С освобождением Клайпеды было полностью завершено освобождение Советской Литвы.
В конце января и первой половине февраля 1945 г. части обеих дивизий корпуса всем составом перебазировались с мемельского на либавское направление. Теперь 1-й гвардейский иак базировался на аэродромы Бахновода, Вайноде, Илакяй. Штаб корпуса расположился в Илакяе.
Более пяти месяцев войска 1-го Прибалтийского фронта вели упорные бои с курляндской группировкой противника, отбивая деревню за деревней, хутор за хутором.
Авиация 3-й воздушной армии использовала малейшее улучшение погоды для нанесения ударов по обороняющемуся противнику.
Части 1-го гвардейского Минского истребительного авиационного корпуса за этот период произвели 2694 боевых вылета, провели 62 воздушных боя и сбили 74 самолета противника{57}.
Зимой боевое напряжение летных частей несколько спало, но, несмотря на это, в отдельные периоды нашим летчикам приходилось вести ожесточенные воздушные бои. Так, 21 февраля 1945 г. восемь Як-9 65-го гвардейского Краснознаменного, ордена Суворова III степени истребительного авиационного полка, ведомые гвардии капитаном Адилем Гусейновичем Кулиевым, вылетели на [229] прикрытие штурмовиков в районе мыза Вирга, мыза Пурмсаты. Восьмерка шла развернутым фронтом звеньев с интервалом между звеньями 400 м и с превышением одного звена над другим 50—70 м. В четверках пары имели интервал 100—150 м.
В 15 час. в районе цели появились истребители противника – десять ФВ-190, шедшие выше группы Кулиева. Истребители врага шли также развернутым строем четверок, а в центре строя отдельно держалась пара. Противник заметил «Яковлевых» раньше и попытался использовать такой важный тактический фактор, как внезапность. Но станция наведения «Ракета-10» своевременно заметила готовящуюся атаку и предупредила об этом Кулиева. Гвардии капитан повел свою группу навстречу противнику. В процессе сближения он набрал высоту и атаковал ведущего первой четверки сверху. «Фокке-вульф» стал уходить из-под атаки, резко снижаясь, но, видимо, не рассчитал высоту, врезался в землю и взорвался.
Ведущий второй нашей четверки Герой Советского Союза гвардии капитан А. И. Попов, отбивая атаку на своего ведомого, с дистанции 50—70 м меткой очередью сбил второго ФВ-190. Гвардии лейтенант Т. А. Бычков сбил третьего.
Потеряв три самолета, вражеские истребители вышли из боя.
В это же время в другом районе восьмерка Як-3 66-го гвардейского иап под командованием гвардии майора А. В. Кривушина прикрывала действия штурмовиков и бомбардировщиков. В процессе барражирования ведущий второго звена гвардии капитан П. С. Луговцев заметил восьмерку ФВ-190, которая вывалилась из облачности. Луговцев доложил об этом майору Кривушину и атаковал замыкающую пару самолетов противника. Заметив это, четыре «фокке-вульфа» стали в вираж, а две пары нырнули в облака. Луговцев атаковал и сбил замыкающего ФВ-190, а ведомый гвардии капитана гвардии лейтенант А. С. Андращук атаковал и сбил ведущего этой же пары.
Пара гвардии старшего лейтенанта Н. Г. Сопелова вела бой с четверкой, которая кружилась в вираже. В первой же атаке Сопелов зашел в хвост замыкающему «фокке-вульфу» и поджег его.
Так группа гвардии майора Кривушина уничтожила [230] три самолета противника, не допустив их к наносившим в это время удар штурмовикам.
Однако неверно было бы думать, что теперь нашим летчикам воевать стало легко, поскольку они завоевали господство в воздухе. Нет, боевые успехи по-прежнему добывались в ожесточенных воздушных боях с потерями летчиков и самолетов. Вот характерный пример.
15 августа 1944 г. шестерка «яков» 64-го гвардейского истребительного авиаполка под командованием Героя Советского Союза гвардии майора П. И. Муравьева по вызову с КП корпуса вылетела для прикрытия боевых порядков войск. В районе прикрытия шестерка встретила большую группу ФВ-190. Считать их было некогда. Позже с земли передали, что «фокке-вульфов» было тридцать два. Муравьев, как всегда, не брал в расчет соотношение сил, а занимал удобное положение для первой атаки и вел своих товарищей в бой. И на этот раз он подал команду «В атаку!» и первым решительно ринулся на врага. Завязался тяжелый, неравный бой.
После первой атаки гвардии лейтенант А. Н. Чаленко увидел пару ФВ-190, которая скрытно заходила в хвост самолету ведущего группы. Резко развернув свой самолет, он пошел в лоб на фашистов, отсекая их от командира. Но и в хвост истребителю Чаленко пристроилась пара «фокке-вульфов». Эту атаку отбил ведомый Чаленко гвардии лейтенант И. Е. Лапин. Чаленко продолжал сближаться с врагом. Расстояние сокращалось молниеносно. Еще мгновение – и машины столкнутся. Но нервы у гитлеровца не выдержали, и он первым отвернул в сторону. Спустя несколько секунд Чаленко обнаружил, что он отсечен от своей группы: более десяти ФВ-190 зажали его в тесное кольцо и, методически атакуя, пытались уничтожить.
Оценив обстановку, советский летчик понял, что в создавшемся положении нужно драться до конца. Бой принял стремительный характер. Вот в прицеле ФВ-190. Чаленко неистово нажал на гашетки. Свинцовые трассы прошили черный силуэт. «Фокке-вульф» перевернулся на брюхо и беспорядочно пошел к земле.
В стороне пятерка «яков» под командованием Муравьева вела яростный бой с многочисленной группой самолетов врага. Беспрерывно атакуя, наши летчики вынуждали фашистов отойти за линию фронта. [231]
Чаленко, оставаясь один во вражеской стае, отбивал атаки и в удобный момент сам нападал на противника. Вот еще одна удачная атака – и второй стервятник закоптил густым черным дымом. Казалось, советский истребитель заговорен, но вот длинная пушечная очередь прошила фюзеляж, «як» затрясло.
Чаленко резко взял ручку управления на себя, затем так же резко отдал, но самолет на эти действия не реагировал. Значит, перебита тяга управления. А фашисты продолжали наседать. Самолет Чаленко еще держался в воздухе. Секунда, другая, и вот из-под приборной доски вырвался язык пламени. Загорелось обмундирование летчика. Смерть стояла рядом, но гвардеец еще жил и боролся, он хотел еще посчитаться с ненавистным врагом. Высотомер показывал 2000 м – вполне достаточно для прыжка с парашютом. Летчик приподнялся над сиденьем, с силой оттолкнулся ногами, но, к несчастью, зацепился парашютом за фонарь. Сильная струя воздуха опрокинула его на спину и прижала к фюзеляжу самолета. Машина с нарастающей скоростью приближалась к земле.
Попытки летчика отцепиться были тщетны. Силы начали оставлять его. Таяли последние надежды на спасение. Надвигалось самое страшное: забытье, беспамятство. Но жажда жизни оказалась сильнее. Напрягая последние усилия, пилот оттолкнулся ногами от фюзеляжа и оторвался от падающего самолета.
Наблюдавшие с земли видели, как, с каждой секундой увеличиваясь в размерах, стремительно падали два огненных факела: большой и маленький, самолет и человек. Чаленко горел, но сознание не покидало его. Мелькнула мысль: «Надо затянуть прыжок. Сбить пламя. Оторваться от «фоккеров». Тело нестерпимо жгло. Шла борьба между разумом и инстинктом самосохранения. «Дерни за кольцо!» – кричала каждая клетка. «Нет! – подсказывал разум. – Ты сгоришь! Затягивай прыжок!» Рука замерла на кольце, повинуясь воле. Победил здравый смысл. Затяжной прыжок помог сбить пламя, и летчик наконец с силой дернул кольцо.
Последовал рывок, затем хлопок, и вот над головой закачался белый купол парашюта. От сердца отлегло.
Однако благополучие было недолгим: летчик заметил, что ветром его относит на противоположный берег реки, разделявшей наши и вражеские траншеи. Не успел Чаленко [232] сообразить, что можно предпринять, как немцы с земли открыли по нему огонь из всех видов стрелкового оружия. Пули изрешетили купол парашюта, перебили несколько строп, парашют перекосился. Еще несколько попаданий – и оставшиеся стропы не выдержат тяжести, оборвутся.
До земли остались считанные метры. Последовал сильный удар, и тупая боль пронзила тело. Земля! «Жив!» – подумал Чаленко, но радоваться не пришлось – кругом были враги. «К своим! Любой ценой к своим! Тут недалеко. Переплыть только реку!» Чудом уцелевший пистолет был теперь его единственным другом и спасителем. События разворачивались с молниеносной быстротой. Отстегнув лямки парашюта, пилот огляделся и рванулся к ближайшему кустарнику, где можно было скрыться. Обожженное тело горело, но летчик не замечал боли. «Добраться до своих, добежать до спасительного кустарника!» – думал Чаленко. И он добежал, но в тот же миг три немецких штыка преградили ему дорогу. «Хальт!» – закричали гитлеровцы.
Быстро выбросив вперед руку с зажатым в ней пистолетом, летчик в упор выстрелил в лицо первому солдату, а в следующее мгновение прыгнул в сторону и бросился к реке.
Фашисты, не ожидавшие таких решительных действий летчика, наклонились над сраженным фрицем, а Чаленко тем временем успел скрыться.
С нашего берега бойцы все время следили за его действиями и, чтобы помочь ему, открыли отсекающий огонь. Пули свистели над головой, Чаленко пригибался почти до самой земли. Ожоги на коже, обдираемые жесткой [233] картофельной ботвой, причиняли нестерпимую боль, но пилот мужественно переносил муки.
Картофельное поле пробежал удачно. Сделал бросок через поляну и ползком преодолел овсяное поле. Превозмогая адскую боль, Чаленко полз к реке, повторяя про себя: «Доползу, доползу!»
И вот она, река! На том берегу – свои. А как же плыть? Река ведь пристреляна, хорошо просматривается. Лежать на берегу нельзя – схватят. Летчик решил дождаться ночи. Пересиливая боль и усталость, он забрался в воду, под корягу. Над водой виднелась только голова и рука с пистолетом.
В первый момент вода подействовала освежающе. Ожогам и ранам как будто стало легче. Но потом боль стала еще сильнее. В воде пришлось просидеть более полусуток.
Пехотинцы и артиллеристы все время наблюдали за летчиком и вели огонь, не допуская немцев к тому месту, где был Чаленко.
Наконец наступила ночь, но от ракет было светло как днем. На реке была видна каждая проплывающая веточка. Чаленко, выросший на Азовском море, хорошо плавал. Он оттолкнулся от коряги и поплыл на свою сторону.
Вот и середина реки. Еще несколько мучительных взмахов – и заветный берег станет ближе. Но в этот момент силы оставили отважного пилота, и он стал тонуть. Сказались усталость, голод, потеря крови, длительное пребывание в воде.
Горькая обида захлестнула сердце. «Неужели после всего пережитого суждено утонуть?» – мелькнуло в голове, а вода уже сомкнулась над ним.
Но человек хотел жить. Во что бы то ни стало жить! Из последних сил, отталкиваясь руками и ногами, он всплыл, жадно глотнул воздух и снова ушел под воду. Но на этот раз ноги коснулись спасительного дна. Он сделал несколько неуверенных шагов и упал на берег, хотя ноги его оставались еще в воде. И потерял сознание. Очнувшись, снова пополз к своим.
– Стой! Кто идет? – послышался строгий, но такой родной и долгожданный голос.
– Свои... – из последних сил выдавил из себя Чаленко и не узнал своего голоса. [234]
Через два дня отважный летчик вернулся в свой полк.
С радостью встретили его боевые друзья. Ведь нет ничего дороже для пилота, чем возвращение в родной полк!
После излечения гвардии лейтенант А. Н. Чаленко продолжал сражаться с немецко-фашистскими захватчиками.
...К концу марта 1945 г., в связи с тем что прижатая к морю на Курляндском полуострове группировка противника существенного влияния на дальнейший ход войны не оказывала, войска 1-го Прибалтийского фронта действия против нее прекратили.
Наступление наших войск на прибалтийском направлении завершилось крупной победой – освобождением советской Прибалтики от немецко-фашистских оккупантов.
Вражеская группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение. Из 59 соединений, входивших в ее состав, 26 были разгромлены, 3 полностью уничтожены, остальные силы этой группы оказались изолированными в Курляндии{58}.
Войска 1-го Прибалтийского фронта внесли достойный вклад в общую победу. Авиация фронта на всех этапах борьбы за освобождение советской Прибалтики, которая длилась восемь с половиной месяцев, своими активными действиями содействовала войскам фронта в достижении победы.
Дивизии 1-го гвардейского Минского истребительного авиационного корпуса, надежно прикрывая наступающие войска фронта, сопровождая штурмовиков и бомбардировщиков и решая другие задачи, за время битвы за Прибалтику совершили 20 070 самолето-вылетов, провели 429 групповых воздушных боев и сбили 550 вражеских самолетов{59}.
В воздушных боях наши летчики продолжали оттачивать тактику и боевое мастерство, проявляя при этом героизм и отвагу. Командиры и штабы всех степеней постоянно совершенствовали способы управления, от которых в прямой зависимости находились боевые успехи.
Инженерно-технический состав, проявляя трудовую доблесть, обеспечивал напряженные боевые действия частей [235] корпуса. В ходе боев осваивал и успешно обслуживал самолеты новых типов Як-3 и Ла-7, которыми было вооружено большинство полков обеих дивизий.
Партия и правительство высоко оценили боевые заслуги 1-го гвардейского истребительного авиационного Минского корпуса. Указами Президиума Верховного Совета Союза ССР были награждены:
3-я и 4-я гвардейские Краснознаменные истребительные авиационные дивизии – орденом Суворова II степени;
32-й и 63-й гвардейские Краснознаменные истребительные авиационные полки – орденом Кутузова III степени;
137-й гвардейский истребительный авиаполк – орденом Суворова III степени.
286 летчиков, 426 инженеров, техников и авиамехаников, 181 воин других специальностей удостоились правительственных наград. Восьми лучшим летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот их имена: гвардии майор Иван Михайлович Березуцкий, гвардии майор Иван Петрович Витковский, гвардии майор Александр Григорьевич Воронько, гвардии капитан Адиль Гусейнович Кулиев, гвардии майор Константин Васильевич Маношин, гвардии старший лейтенант Алексей Иванович Марков, гвардии лейтенант Евгений Витальевич Михайлов, гвардии майор Алексей Васильевич Пашкевич.
Четыре раза Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин объявлял благодарность личному составу корпуса.
В первой половине апреля 1945 г., в дни, предшествовавшие последней решительной битве, корпус по приказу Ставки ВГК был переброшен на берлинское направление и вошел в оперативное подчинение командующего 16-й воздушной армией 1-го Белорусского фронта. Открывались заключительные страницы боевой истории 1-го гвардейского истребительного авиационного Минского корпуса в Великой Отечественной войне. [236]
Глава восьмая. Битва в небе Берлина
Великая Отечественная война приближалась к победоносному завершению. Красная Армия, разгромив крупные силы врага в Восточной Пруссии, Польше, Восточной Померании и в Венгрии, к 1 апреля 1945 г. выдвинулась на широком фронте к центральным районам Германии.
Советские войска вышли к реке Одер на участке от побережья Балтийского моря до устья реки Нейсе у Рандорфа, овладев несколькими плацдармами на западном берегу Одера, и теперь находились в 60 км от Берлина.
Несмотря на то что война фашистской Германией была уже проиграна, ее руководители, и прежде всего Гитлер, не хотели признавать себя побежденными и продолжали затягивать сопротивление, рассчитывая на разногласия между участниками антифашистской коалиции.
Германское военное командование принимало меры к обороне Берлина. Оно сосредоточило на подступах к Берлину и в самом городе около миллиона солдат и офицеров, свыше 10 тыс. орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий{60}.
С воздуха берлинскую группировку наземных войск обеспечивали авиационные части 6-го воздушного флота, которым командовал генерал-полковник Риттер фон Греим, и части воздушного флота «Райх» (ПВО Германии) под командованием генерал-полковника Штумпфа. Базировалась авиация противника на 35 аэродромов берлинского [237] аэроузла, расположенных восточнее, севернее в южнее Берлина.
Прикрывая свои наземные войска и препятствуя перегруппировке и сосредоточению наших войск, вражеская авиация вела усиленную воздушную разведку. Особое внимание фашистское командование уделяло разведке войск 1-го Белорусского фронта до рубежа города Познань.
Готовясь к разгрому берлинской группировки противника и овладению Берлином, Ставка Верховного Главнокомандования Красной Армии решила мощными ударами войск трех фронтов при содействии дальней авиации в полосе от Штеттина до Пенциха сокрушить вражескую оборону на ряде направлений, расчленить берлинскую группировку на несколько изолированных частей, уничтожить их и овладеть Берлином; в дальнейшем выйти на реку Эльба и соединиться там с американо-английскими войсками.
Войска 1-го Белорусского фронта, в составе которого предстояло сражаться 1-му гвардейскому истребительному авиакорпусу, должны были тремя одновременными ударами сокрушить оборону вражеских войск на 90-километровом участке между каналами Гогенцоллерн и Одер – Шпрее, разгромить основные силы 9-й армии и, развивая наступление на запад, не позднее 12—15-го дня операции выйти на Эльбу.
С воздуха войска фронта обеспечивались авиацией 16-й воздушной армии, которая к началу операции имела в своем составе два бомбардировочных, два штурмовых и четыре истребительных авиационных корпуса, а также четыре бомбардировочные, две штурмовые и пять истребительных авиационных дивизий. 3188 боевых самолетов армии базировались на 165 аэродромов. Авиация 16-й воздушной армии значительно превосходила авиацию противника, который к началу операции в полосе 1-го Белорусского фронта имел всего до 700 самолетов.
Войскам 1-го Белорусского фронта периодически содействовали до 800 самолетов авиации дальнего действия 18-й воздушной армии, которой командовал Главный маршал авиации А. Е. Голованов.
Воздушная обстановка перед началом Берлинской наступательной операции характеризовалась господством в воздухе нашей авиации, значительным количественным и качественным ее превосходством над врагом. [238]
С получением указаний штаба ВВС Красной Армий с 1 по 6 апреля 1945 г. в частях корпуса проводилась подготовка к перебазированию на 1-й Белорусский фронт. Штабы корпуса, дивизий и полков составляли планы перебазирования летных и наземных эшелонов, организовывали связь, уточняли промежуточные аэродромы для дозаправки горючим и запасные аэродромы на случай ухудшения погоды по маршруту, занимались многими другими делами, связанными с обеспечением перебазирования. Основное внимание было уделено подготовке материальной части и летного состава. Летчики тщательно изучали маршрут перелета и условия ориентировки на незнакомой местности.
В целях скрытности сосредоточения авиации на берлинском направлении полки обеих дивизий решили сосредоточить вначале на тыловом аэродроме Беднары (в районе Познани), а оттуда небольшими группами на малой высоте перебазировать их на передовые аэродромы. Промежуточным аэродромам на маршруте для дозаправки был назначен аэродром Шиманен, запасным – Инстербург. [239]
В период 7—11 апреля 1945 г. корпус перебазировался на аэродром сосредоточения Беднары. Перелет осуществлялся группами по 6—10 самолетов без лидеров.
При перелете летные эшелоны 3-й гвардейской истребительной авиадивизии производили посадку и дозаправку, как и было предусмотрено планом, на аэродроме Шиманен.
В ходе перебазирования 4-й гвардейской иад погода резко ухудшилась, поэтому большинство групп ее полков были вынуждены использовать для дозаправки не аэродром Шиманен, а запасной аэродром Инстербург.
Наземные эшелоны всех частей перебазировались транспортными самолетами Ли-2.
В период 12—14 апреля обе дивизии корпуса перебазировались с аэродрома Беднары на передовые аэродромы: 3-я гвардейская истребительная авиадивизия на аэродромы Варниц, Нордхаузен, Госсов; 4-я гвардейская истребительная авиадивизия на аэродромы Берфельде, Фюрстенвальде, Регенвальде (65-й гвардейский иап остался на аэродроме Шяуляй, где продолжал перевооружаться на новые самолеты Як-3).
Оперативные группы штабов и технический состав всех полков на транспортных самолетах перелетели на аэродром Врублево, а оттуда на автотранспорте следовали на передовые аэродромы.
При перебазировании погиб командир 66-го гвардейского Виленского Краснознаменного, ордена Суворова III степени истребительного авиационного полка гвардии подполковник Григорий Андреевич Пустовойт.
Полк возглавил бывший штурман того же полка Герой Советского Союза гвардии майор Иван Петрович Витковский.
* * *
13 апреля 1945 г. командир 1-го гвардейского истребительного Минского авиакорпуса гвардии генерал-лейтенант авиации Е. М. Белецкий был вызван в штаб 16-й воздушной армии, где получил от командующего армией генерал-полковника авиации С. И. Руденко боевую задачу.
В предстоящей наступательной операции 1-го Белорусского фронта части корпуса должны были непосредственным сопровождением до цели и обратно обеспечить [240] боевые действия бомбардировщиков 6-го бомбардировочного авиационного корпуса, имевшего на вооружении самолеты Ту-2.
Там же, на совещании у командующего воздушной армией, Евгений Михайлович Белецкий встретился с командиром 6-го бомбардировочного авиационного корпуса полковником Иваном Потаповичем Скоком и согласовал с ним вопросы подготовки к совместной боевой работе.
По возвращении в штаб командир корпуса вызвал к себе командиров, заместителей по политической части и начальников штабов дивизий и в присутствии руководящего состава штаба корпуса лично поставил им боевую задачу.
Командиру 3-й гвардейской истребительной авиадивизии предстояло непосредственным сопровождением до цели и обратно обеспечить боевые действия 113-й бад, командиру 4-й гвардейской дивизии – действия 326-й бомбардировочной авиадивизии 6-го бомбардировочного авиакорпуса. Этот корпус в целях обеспечения прорыва обороны противника 1-й танковой армией и содействия успешному наступлению войск 8-й гвардейской армии массированными бомбардировочными ударами разрушал опорные пункты, подавлял огневую систему и уничтожал живую силу в опорных пунктах Фридерсдорф, Зеелов, Дольгелин, Либбенихен, Герльсдорф, Дидерсдорф, Лицен и на железнодорожной станции Зеелов.
Напряжение на первый день операции – 16 апреля 1945 г. – устанавливалось: два вылета для сопровождения бомбардировщиков и один вылет по вызову с КП командующего 16-й воздушной армией.
В дивизиях и полках развернулась всесторонняя подготовка к предстоящим боям. Несмотря на то что летчики всех полков корпуса имели большой боевой опыт и новые, последних выпусков, самолеты, к воздушным сражениям готовились серьезно, понимая, что это последняя наступательная операция в Великой Отечественной войне.
Техники и механики самолетов, вооружения и специального оборудования проверяли исправность и надежность оборудования и самолета в целом. Специалисты ни на минуту не забывали о том, какая ответственность лежит на каждом, кто должен выпустить в полет сто процентов боеготовых самолетов для надежного обеспечения бомбардировщиков, наносящих удары по войскам противника [242] на подступах к фашистской столице. Весь инженерно-технический состав работал с большим подъемом и воодушевлением.
Особой активности достигла партийно-политическая работа. Политработники, коммунисты разъясняли личному составу величайшее политическое и военное значение предстоящих боев за Берлин.
В эти дни в полках дивизий был особенно большой приток в партию. Лучшие летчики, техники, штабные офицеры вступали в ряды Коммунистической партии, под руководством которой Красная Армия добивала фашистского зверя в его собственной берлоге.
Штабы взаимодействующих авиакорпусов вели большую работу по подготовке дивизий к предстоящим боям. Особенно детально организовывалось взаимодействие бомбардировщиков с истребителями.
Был разработан план совместных действий, в котором подробно оговаривались маршруты полетов к объектам ударов, боевые порядки групп, порядок и место встречи бомбардировщиков с истребителями сопровождения, сигналы и связь в районе встречи и по маршруту полета, порядок действий в районе цели и при отходе от цели, порядок взаимной информации.
14 апреля командир корпуса Е. М. Белецкий собрал ведущих групп и провел с ними занятие, на котором подробно изложил порядок взаимодействия и наивыгоднейшие боевые порядки истребителей при сопровождении бомбардировщиков.
В условиях базирования частей корпуса вблизи линии фронта осуществлять встречу с сопровождаемыми бомбардировщиками над аэродромами истребителей было небезопасно. Поэтому командиры 6-го бомбардировочного и 1-го гвардейского истребительного авиакорпусов приняли совместное решение: встречу бомбардировщиков с истребителями сопровождения осуществлять над городом Кельтшен, расположенный в 40 км от аэродромов корпуса.
В районе встречи был организован временный пункт управления, на котором находились оперативные группы со средствами связи. От 1-го гвардейского иак группу возглавлял офицер оперативного отдела штаба корпуса гвардии майор И. И. Чернышев. От 6-го бак – заместитель командира корпуса по политчасти полковник Л. И. Яковенко. Группы имели связь со штабами корпусов, дивизий, [243] аэродромами вылета и группами самолетов в воздухе. Они наводили истребителей на бомбардировщики, помогали им занять свое место в общем боевом порядке, обеспечивая безопасность полета смешанных групп во время встречи и пристраивания. Особенно это было важно при полетах в условиях ограниченной видимости.
Для обеспечения встречи с истребителями сопровождения бомбардировщики сообщали истребителям состав групп, фамилии, позывные ведущих, время взлета, прохода исходного и контрольного пунктов маршрута. Для переговоров между бомбардировщиками и истребителями были установлены единые условные сигналы.
15 апреля на аэродроме Нойдам в 35 км западнее Ландсберга в районе расположения штаба 1-го гвардейского иак были проведены совместные занятия с ведущими групп бомбардировщиков и истребителей. Ведущие групп познакомились друг с другом, договорились о порядке совместных действий. В заключение был проведен розыгрыш совместных полетов на боевое задание.
Руководили занятиями гвардии генерал-лейтенант авиации Е. М. Белецкий и полковник И. П. Скок.
В течение 14—15 апреля 1945 г. основная масса летного состава частей корпуса облетала район предстоящих боевых действий, не пересекая линию фронта. Особое внимание ведущие групп уделяли району, в котором располагался пункт встречи с бомбардировщиками.
В конце дня 15 апреля командующий 16-й воздушной армией поставил летному составу боевую задачу на первый день наступления. К 23 часам 15 апреля весь летный состав знал о том, что войска фронта 16 апреля переходят в решительное наступление и что ему предстоит обеспечить боевые действия бомбардировщиков 6-го бак, содействующего прорыву фронта противника и продвижению 1-й гвардейской танковой армии на главном направлении. Этим, по существу, завершилась подготовка частей корпуса к предстоящим боям за Берлин. В корпусе было подготовлено 130 боевых экипажей на самолетах Ла-7 и Як-3{61}.
16 апреля 1945 г. войска 1-го Белорусского фронта перешли в наступление. В период артиллерийской подготовки [244] бомбардировщики 16-й и 18-й воздушных армий нанесли удары по вражеским штабам, артиллерийским огневым позициям, а также по третьей и четвертой траншеям главной полосы обороны противника.
18-я воздушная армия в течение 40 минут наносила удар силами 743 бомбардировщиков. Каждую минуту на врага сбрасывалось 22 тонны бомб, преимущественно крупных калибров.
С наступлением рассвета боевые действия начала 16-я воздушная армия.
В частях корпуса еще затемно была закончена подготовка к первому вылету. В оставшееся до вылета время на всех аэродромах проводились митинги, посвященные началу наступления. Были вынесены гвардейские Знамена, которые в течение всего дня развевались на аэродромах. Под шелест алых шелковых полотнищ зачитывалось обращение Военного совета к воинам фронта.
Как боевой призыв воспринял это обращение личный состав частей и соединений корпуса. На митингах воины клялись еще сильнее бить врага.
Выступая на митинге, летчик 32-го гвардейского иап гвардии старший лейтенант А. А. Дмитриевич сказал: «Товарищи! Мы пришли на главное направление, туда, где решается судьба войны, судьба нашей победы. Сейчас мы заслушали обращение Военного совета 1-го Белорусского фронта, в котором говорится, что это – последняя операция. Успешным завершением ее должна закончиться война, и поэтому мы должны приложить все свои силы, все умение, чтобы победоносно закончить войну. Мы должны сейчас еще упорнее драться в воздухе, надежно прикрывать бомбардировщиков, которые своими смертоносными ударами будут содействовать успешному наступлению войск нашего фронта. Я выражаю мысли и чувства всего личного состава и от его имени заверяю, что мы с этой задачей справимся».
В 137-м гвардейском истребительном авиаполку заместитель командира эскадрильи гвардии старший лейтенант В. Т. Терехов говорил: «Настало время отомстить врагу за все злодеяния, которые он причинил нашему народу. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить нашим наземным войскам возможность быстрее водрузить Знамя Победы над логовом фашистского зверя».