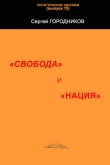Текст книги "Про что щебетала ласточка Проба "Б" (СИ)"
Автор книги: Ф Шпильгаген
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
– Барыня съ Гретхенъ въ саду, сказала хорошенькая Рика,– вы вѣдь знаете ея мѣсто.
Готтгольдъ спокойно взглянулъ на служанку, которая быстро отвернулась отъ него. Послѣднее замѣчаніе было по меньшей мѣрѣ излишне, потому-что садъ вовсе не такъ великъ, чтобы въ немъ трудно было найти кого нужно; но Рика сказала это такимъ тономъ, который непріятно коснулся Готтгольдова слуха. Ему не раза, приходило на умъ, что сѣрые сладострастные глаза этой дѣвушки съ пытливымъ выраженіемъ переносились съ него на Цеицилію, съ Цециліи на него, и что она раза два быстро входила въ комнату или просто подходила къ нимъ, и всякій разъ съ вопросомъ: не звали ли ее. Онъ вспомнилъ при этомъ отзывъ, который сдѣлала о ней Цецилія въ первый вечеръ:– она все пересказываетъ,– да пересказывать-то нечего.
Ну, ея удовольствіе кончится завтра вечеромъ, думалъ онъ теперь, медленно идя по аллеѣ изъ шпалерника къ маленькому тоже обнесенному шпалерникомъ цвѣтнику, гдѣ въ этотъ часъ обыкновенно сидѣла Цецилія съ ребенкомъ на колѣняхъ.
Грехтенъ, какъ только завидѣла его, сейчасъ же побѣжала къ нему на встрѣчу.
– Гдѣ ты былъ, дядя Готтгольдъ? Что ты мнѣ принесъ?
Онъ обыкновенно приносилъ ребенку, возвращаясь послѣ скитанья по окрестностямъ, какой нибудь рѣдкій цвѣтокъ, маленькій голышъ странной формы, или какую нибудь другую рѣдкость; сегодня онъ въ первый разъ не подумалъ объ ней. Гретхенъ приняла это очень дурно. "Я уже не люблю тебя", сказала она, возвращаясь бѣгомъ къ матери, "и мама вовсе не станетъ любить тебя!" вскричала она, сидя на колѣняхъ у матери и поднимая головку.
Готтгольдъ, поклонившись Цециліи, сѣлъ нѣсколько поодаль отъ нея на вторую скамью, какъ это онъ всегда дѣлывалъ, когда она не предлагала ему сѣсть подлѣ себя. Она и сегодня не сдѣлала этого,– а молча и почти не поднимая глазъ съ работы, подала ему руку. Это произвело на него болѣзненное впечатлѣніе; но тихонько наблюдая се, онъ замѣтилъ, что ея вѣки какъ будто бы покраснѣли. Уже не хотѣла ли она скрыть отъ него слѣды только-что пролитыхъ слезъ? скрыть то, что она могла еще плакать? что неподвижный потухшій взоръ, которымъ она, минуя его, глядѣла невидимому на ребенка, игравшаго во глубинѣ цвѣтника,– былъ не единственнымъ выраженіемъ, къ которому способны эти когда-то такъ прелестно оживленные глаза?
– Я не могу больше выносить этого, сказалъ себѣ молодой человѣкъ.
Онъ всталъ и подошелъ къ Цециліи, которая подобрала при этомъ свое платье, не смотря на то что и безъ того было довольно мѣста на большой скамьѣ.
– Цецилія, сказалъ онъ,– я почти обѣщалъ остаться до понедѣльника; но я разсудилъ, что Селльены, если они пріѣдутъ завтра, останутся здѣсь на ночь, а можетъ быть также и еще кто нибудь изъ вашихъ гостей,– а ты такъ стѣснена насчетъ помѣщенія.
– Ты хочешь уѣхать! прервала его Цецилія; – зачѣмъ не сказать этого прямо?
Когда Готтгольдъ началъ говорить, она подняла глаза съ работы и взглянула на него быстрымъ, скорбнымъ взоромъ, который пронзилъ ему сердце; но когда она заговорила, то ея голосъ былъ совершенно спокоенъ, только нѣсколько глухъ; она даже улыбнулась, принимаясь опять за работу.
– Когда ты думаешь ѣхать? прибавила она послѣ нѣкотораго молчанія, такъ какъ Готтгольдъ, не будучи въ состоянія отвѣчать, все еще молчалъ.
– Я думаю, завтра утромъ, возразилъ Готттольдъ, и ему показалось, какъ будто бы это говорилъ не онъ, а кто-то другой.– Карлъ говорилъ мнѣ, что онъ завтра утромъ пришлетъ сюда экипажъ.
– Завтра утромъ!
Она опять опустила работу на колѣна и закрыла на минуту лобъ и глаза лѣвой рукой, между тѣмъ какъ пальцы правой, лежавшей на колѣняхъ вмѣстѣ съ работою, раза два слегка вздрогнули; потомъ лѣвая рука тяжело опустилась – и Цецилія, сдвинувъ брови, неподвижно глядя впередъ, проговорила тѣмъ же самымъ глухимъ тономъ:– Какую бы я могла имѣть причину удерживать тебя?
– Можетъ быть ту, что тебѣ пріятно видѣть меня здѣсь, возразилъ Готтгольдъ.
Онъ думалъ, что она она не слыхала этого, но она слышала; она молчала до тѣхъ поръ пока не увѣрилась, что можетъ продолжать разговоръ, не заплакавъ. Она не хотѣла плакать, ей не слѣдовало плакать, и она опять овладѣла собою.
– Ты знаешь это, сказала она,– но это не причина удерживать тебя. Я очень хорошо чувствую, какъ невесела здѣсь жизнь,– какъ однообразна, какъ скучна она для всѣхъ, кто не привыкъ къ ней: а такъ легко, вънѣсколько дней, къ ней не привыкаютъ – для этого надобно годы, длинные годы. Поэтому я не приглашаю никого – я не логу представить себѣ, чтобы кто либо охотно ѣхалъ сюда; вслѣдствіе этого я и не удерживаю никого – я очень хорошо логу представить себѣ, что ему пріятно уѣхать. Почему же стала бы я обращаться съ тобой иначе, чѣмъ съ другими?
– Разумѣется незачѣмъ, если я не значу для тебя больше другихъ.
– Больше? Что это значитъ? Ты думаешь, потому-что мы рано познакомились, потому-что были друзьями, когда оба еще были молоды? Но что это значитъ! это такая юношеская дружба! И развѣ мы остаемся тѣми же, что и были? Ты еще можетъ быть, въ главномъ по крайней мѣрѣ; но я,– конечно, нѣтъ. Я такъ же мало похожа на прежнюю Цецилію, какъ дѣйствительность на наши иллюзіи. Да еслибъ и такъ – я замужемъ; женщинѣ не нужно друга. У ней нѣтъ друга, если она любитъ своего мужа; а если она его не любитъ...
– Возьмемъ этотъ послѣдній случай, сказалъ Готтгольдъ, когда Цецилія внезапно замолчала.
– Этотъ случай не такъ простъ, какъ кажется, возразила Цецилія, разсматривая стежку на своей работѣ,– тутъ можетъ быть очень много случаевъ. Такъ напримѣръ, очень можетъ быть, что онъ, несмотря на это, любитъ ее – къ вѣрной любви даже и не особенно благородная женщина рѣдко остается нечувствительною и неблагодарною; но представимъ себѣ, что онъ не любитъ ее, что онъ разлюбилъ ее, никогда не любилъ ее – вопросъ въ томъ: какого рода эта женщина. Можетъ быть она не горда и не стыдится признаваться въ своемъ несчастій другу, который можетъ сдѣлаться потомъ ея любовникомъ; или она горда и въ такомъ случаѣ она – я не знаю, что она сдѣлаетъ, но скорѣе она спрячется въ глубь земли, чѣмъ пойдетъ и скажетъ кому бы то ни было: я несчастлива!
– А если этого не нужно, если ея несчастіе написано у ней на лбу, если оно выглядываетъ изъ ея глазъ, если оно звучитъ въ каждомъ тонѣ ея голоса?
По прекрасному лицу Цециліи мелькнула какъ бы тѣнь облака; но она съ особенной тщательностью разглаживала шовъ на своей работѣ, возражая безстрастнымъ, почти равнодушнымъ голосомъ:
– Кто можетъ сказать это? Кто такъ проницателенъ, что могъ бы читать мысли человѣка у него на лбу и никогда не обманываться, никогда не дѣлать лицо другаго человѣка зеркаломъ своего собственнаго тщеславія? Но что это у насъ за гадкій разговоръ! Лучше скажи мнѣ, куда ты ѣдешь отсюда и гдѣ ты думаешь жить. Вѣдь ты не поѣдешь опять въ Италію? Мнѣ кажется, ты недавно говорилъ это.
– Благодарю тебя за твое участіе, возразилъ Готтгольдъ съ дрожащими губами; – но я еще ни на что не рѣшился. Когда я уѣзжалъ изъ Рима, у меня, конечно, было желаніе пожить, по крайней мѣрѣ хоть нѣкоторое время, на сѣверѣ и попытать, не могу ли я поселиться опять на родинѣ; опытъ не удался, и мнѣ кажется, уже не удастся.
– Это значило бы, по моему мнѣнію, рѣшать подобный вопросъ нѣсколько скоро, сказала Цецилія,– но этотъ вопросъ, конечно, важенъ только для насъ обыкновенныхъ людей; у васъ же, счастливыхъ художниковъ, родина въ концѣ концовъ – въ вашемъ искусствѣ, а его вы носите съ собой всюду, куда ни отправитесь.
– И все таки я убѣжденъ, что истинное искусство доступно для насъ только на родинѣ, возразилъ Готтгольдъ.
– То есть?
– То есть, что художникъ только у себя на родинѣ можетъ достигнуть той высоты искусства, на какую даютъ ему право его способности. Я заключаю это изъ исторіи всѣхъ искусствъ,– процвѣтавшихъ только въ такомъ случаѣ, если художники могли свободно развивать и развивали свой талантъ на тѣхъ матеріалахъ, что давала имъ та страна, гражданами которой они были, и то время, въ которое они жили (потому-что въ этомъ смыслѣ и время – родина художника),– я говорю: когда они имѣли счастье, а также конечно и силу, развивать свой талантъ на родной почвѣ и на родныхъ матеріалахъ. Я заключаю это изъ моихъ собственныхъ наблюденій, которыя показали мнѣ, что всѣ начинавшіе неумѣньемъ найти сюжета на родинѣ въ данномъ мѣстѣ и въ данное время – не были истинными художниками, но или диллетантами и простыми поклонниками искусства – или запросто шарлатанами, которые своими искусственными, лишенными истинной жизни, а слѣдовательно и истиннаго достоинства произведеніями, обманывали только толпу, только чернь интеллигенціи, къ числу которой въ сущности они принадлежали сами.
Готтгольдъ заговорилъ объ этой темѣ, которая въ эту минуту была далека отъ него,– только для того чтобъ успокоить свое собственное волненіе, по крайней мѣрѣ скрѣіть его передъ блѣдной серіозной женщиной, бывшей подлѣ него,– а потомъ, увлеченный этимъ предметомъ, говорилъ уже съ нѣкоторымъ одушевленіемъ и наконецъ съ такою свободою духа, къ которой онъ за минуту передъ этимъ не считалъ бы себя способнымъ. Такимъ образомъ и Цецилія слушала его сначала разсѣянно, потомъ все внимательнѣе, и въ ея темныхъ глазахъ засвѣтился даже лучъ прежняго огня, когда она спросила:
– А примѣняя это къ тебѣ?
– Въ примѣненіи ко мнѣ, главнымъ несчастіемъ для меня было то, что я, вслѣдствіе несчастнаго раздора съ моимъ отцомъ и другаго печальнаго воспоминанія, о которомъ теперь не стоитъ распространяться... я говорю: это было несчастіе для меня, что я нѣкоторымъ образомъ былъ изгнанъ изъ моей родины въ такую минуту, когда я всего меньше могъ обойтись безъ нея,– безъ цвѣтовъ, которые я отыскивалъ на лугахъ ребенкомъ,– безъ деревьевъ, подъ которыми игралъ отрокъ, любуясь какъ прокрадывались черезъ ихъ вершины солнечные лучи или прислушиваясь къ шуму дождя,– безъ неба, которое то улыбается такой блаженной улыбкой, а то такъ несказанно-мрачно, такъ безконечно-грустно,– безъ моря, по гладкой, освѣщенной вечернимъ сіяніемъ поверхности или по бурно-чорнымъ волнамъ котораго неслась фантазія юноши въ безоблачныя страны блаженныхъ духовъ или въ мрачное туманное царство битвъ, борьбы и ранней геройской смерти, куда стремилась его мечты. Все это – я разумѣю и дѣйствительность и мечты – могъ бы я написать на веселіе и радость другимъ людямъ, въ душѣ которыхъ я пробудилъ бы своими картинами воспоминаніе о ихъ собственномъ дѣтствѣ, отрочествѣ и юношествѣ. Что я писалъ – то вышло не изъ моей души; я не писалъ, не могъ писать этого всею моею душою – даже въ самомъ лучшемъ случаѣ это не можетъ быть ничѣмъ другимъ, какъ звонкой гремушкой.
– Зачѣмъ же вы, художники, такъ стремитесь въ далекія страны? спросила Цецилія.
Она опять вполнѣ казалась тою любознательной дѣвушкой, въ темныхъ, блестящихъ глазахъ которой не переставалъ отражаться неугомонный огонь ея духа, а съ губъ слетали то серебристый смѣхъ, то разумное слово.
– Мнѣ кажется, что это стремленіе довольно часто слѣпо и неразумно, возразилъ Готтгольдъ,– во всякомъ случаѣ я всегда совѣтывалъ бы молодому художнику не ѣздить въ Римъ до тѣхъ поръ пока онъ не будетъ твердо стоять на ногахъ, иначе онъ будетъ тамъ игрушкою тучъ и вѣтровъ. Гёте давно уже написалъ свои страницы о германской манерѣ въ искусствѣ и давно уже владѣлъ въ совершенствѣ этою манерою и искусствомъ, когда онъ отправился въ Италію; такимъ образомъ, онъ могъ подъ кедрами сада виллы Боргезе спокойно продолжать созданіе своего Фауста – и возвратиться съ умомъ обогащеннымъ сокровищами его наблюденій надъ страною и людьми и тѣмъ что дѣлалось ими въ теченіи столѣтій подъ этимъ прекраснымъ небомъ,– а все-таки остаться во глубинѣ своей художественной души тѣмъ же, что и былъ. Видишь, Цецилія, въ республикѣ искусствъ то же, что и въ государствѣ. Какой гражданинъ въ состояніи обнимать взоромъ великія отношенія государства, не изощривъ сперва этого взора на болѣе тѣсныхъ отношеніяхъ общинной жизни? кто въ состояніи сдѣлать что нибудь дѣльное для общины, не научившись сперва управлять своимъ домомъ? кто въ состояніи управлять своимъ домомъ, управлять своимъ семействомъ и руководить его, не умѣя управлять самимъ собою и руководить самого себя?
Въ то время какъ Готтгольдъ говорилъ такимъ образомъ, къ нимъ подошла Гретхенъ. Цецилія взяла ее къ себѣ на колѣни, и дитя сидѣло тамъ смирно, словно понимая, что ему не слѣдовало говорить теперь. Когда Готтгольдъ замолчалъ, она сказала: "Мама, знаешь ли, я хочу, чтобъ у меня папой былъ дядя Готтгольдъ".
Лицо Цециліи вспыхнуло какъ огонь; она сдѣлала сильное движеніе, чтобы спустить Гретхенъ съ колѣнъ, но отъ ребенка не такъ-то легко было отдѣлаться. Она обвила свою здоровую правую ручку вокругъ шеи матери и сказала, ласкаясь: "не правда ли мама, у него такіе голубые глаза, онъ всегда такъ добръ къ тебѣ, а папа часто такой гадкій, не правда ли, мама?"
Цецилія быстро встала вмѣстѣ съ ребенкомъ и сдѣлала нѣсколько шаговъ, какъ будто бы хотѣла убѣжать изъ этого мѣста. Но ея колѣни дрожали, она не могла идти дальше и должна была спустить на-земь Гретхенъ, которая, испугавшись порывистыхъ движеній матери, съ плачемъ убѣжала и черезъ минуту забыла свое горе, занявшись парой пестрыхъ бабочекъ, порхавшихъ передъ нею на грядѣ. Цецилія стояла, отвернувшись отъ Готтгольда.
– Цецилія! сказалъ Готтгольдъ.
Онъ подошелъ къ ней, онъ хотѣлъ схватить ея опущенную руку. Она обернулась – и онъ увидѣлъ передъ собою оцѣпенѣлое лицо Медузы.
– Цецилія! вскричалъ Готтгольдъ, протягивая къ ней еще разъ руки.
Она не отступила, она не двигалась, только ея оцѣпенѣлое лицо, ея полуоткрытыя губы судорожно дергались, а потомъ она заговорила, медленно роняя слова, словно послѣднія капли крови изъ смертельной раны.
– Я не нуждаюсь въ твоемъ состраданіи... слышишь? Я не давала тебѣ права сострадать,– ни тебѣ, ни кому другому; что же ты мучишь меня?
– Я не буду больше мучить тебя, Цецилія; я сказалъ тебѣ, что уѣзжаю.
– Зачѣмъ же ты не уѣзжаешь? зачѣмъ говоришь ты со мною о подобныхъ вещахъ? со мною! Ты хочешь свести съ ума – а я не хочу быть съумашедшей.
– Это безуміе, Цецилія! вскричалъ страстно Готтгольдъ.– Если ты его не любишь – а ты его не любишь, не можешь его любить!– никакой божескій, а слѣдовательно и человѣческій законъ не принуждаетъ тебя оставаться, исходить кровью и гибнуть въ несказанныхъ страданіяхъ. И какъ ты его, такъ и онъ не любитъ тебя.
– Онъ сказалъ тебѣ это?
– Нужно ли это?
– Поклянись честью, Готтгольдъ, что онъ сказалъ тебѣ это?
– Нѣтъ, но...
– А если онъ все-таки любитъ меня, и... если я люблю его? Какъ ты можешь рѣшаться говорить со мною такъ, какъ говорилъ сейчасъ! Какъ ты можешь рѣшаться уличать меня теперь во лжи своимъ молчаніемъ, унижать меня передъ самой собою! Это ли твоя хваленая дружба?
Готтгольдъ опустилъ голову и отвернулся. Гретхенъ подошла къ нему.
– Куда ты, дядя Готтгольдъ?
Онъ поднялъ ребенка, поцѣловалъ его, опустилъ его опять на-земь и ушелъ.
– О чемъ плачетъ дядя Готтгольдъ, мама? спросила Гретхенъ, хватая мать за платье.– Папа не можетъ плакать, неправда ли, мама?
Цецилія не отвѣчала; неподвижные, лишенные слезъ глаза остановились на томъ мѣстѣ, гдѣ Готтгольдъ исчезъ въ кустарникахъ.
– Навсегда, пробормотала она,– навсегда!
XII.
Подойдя къ деревянной, рѣшетчатой, осѣнненной полузасохшею липой калиткѣ, которая вела съ этой стороны черезъ колючій заборъ изъ сада, Готтгольдъ остановился и устремилъ робкій взоръ черезъ освѣщенныя солнцемъ поля на лѣсъ. Ему было бы теперь невыносимо встрѣтиться съ кѣмъ бы то ни было, можетъ быть остановиться и отвѣчать на привѣтствіе и вопросъ. Но онъ никого не видалъ; всѣ были на большой полосѣ ржи, откуда уже цѣлый день возили снопы; дорога къ близлежащему лѣсу была свободна.
Солнце страшно палило и раскаленный воздухъ дрожалъ надъ пшеницею, начинавшею уже бурѣть; крупные колосья не шевелило ни малѣйшее дуновеніе; громко стрекотали безчисленные кузнечики по обѣимъ сторонамъ узенькой тропинки, которая вела черезъ поле; большая стая полевыхъ голубей кружилась не очень высоко надъ землею, а когда они въ быстромъ какъ молнія поворотѣ бросались внизъ, то это подвижное облачко, освѣщенное лучемъ опускающагося по направленію къ деревнѣ солнца, сверкало на безоблачно-голубомъ небѣ, словно стальной щитъ.
Готтгольдъ, привыкшій жить вмѣстѣ съ природою, видѣлъ все это – и даже электрическое напряженіе атмосферы отозвалось въ немъ, но только въ согласіи съ тѣми конвульсіями, которыя сжимали его сердце. Горячія слезы въ отуманенныхъ глазахъ, выжатыя у него давеча горемъ, теперь осушилъ уже стыдъ – стыдъ неумѣнья владѣть собою, вызвавшаго эту сцену, въ которой, послѣ весьма долгихъ мучительныхъ дней, онъ все-таки разыгралъ въ концѣ концовъ недостойную роль третьяго и только узналъ, что она все еще любитъ этого человѣка, и все ея несчастіе состоитъ въ сознаніи, что этотъ человѣкъ не любитъ ее такъ, какъ она любитъ его, какъ она желала бы быть любимой. «Поклянись честью, Готтгольдъ, сказалъ онъ тебѣ это?» Какимъ отчаяинымъ тономъ воскликнула она эти слова!.. какъ страхъ услышать «да» исказилъ ея прекрасное лицо! «Это ли твоя хваленая дружба?» Да, конечно, что ей въ его дружбѣ, надоѣвшей ей еще задолго до этого, и теперь точно такъ же надоѣвшей ей, съ тою лишь разницею, что теперь онъ уже не могъ укрываться подъ маскою этой дружбы и не имѣлъ даже жалкаго утѣшенія, въ возможности уйти незамѣченнымъ, оставленнымъ безъ вниманія, какъ въ ту приснопамятную ночь.
Здѣсь у опушки лѣса, въ темнотѣ ночи, подъ старымъ букомъ лежалъ онъ, обрывая мохъ и проклиная свѣтъ, потому что увидалъ при блѣдномъ сіяніи мѣсяца двухъ любящихся! Теперь солнце ярко свѣтило на ложе скорби, какъ будто-бы хотѣло показать ему, сколько ребячества было тогда въ его страданіяхъ и что ему слѣдовало бы поберечь свое отчаяніе вотъ до этого времени! Вѣдь она была счастлива! Готтгольдъ хотѣлъ засмѣяться, но у него вырвался только стонъ, вылетѣвшій изъ его измученной груди,– глухой, болѣзненный стонъ, какъ у раненаго звѣря. Такъ онъ стоналъ, когда въ ту ночь, этой же тропинкой, онъ шелъ но душному лѣсу и деревья при сумрачномъ сіяніи мѣсяца кружились вокругъ него, словно издѣвающіяся привидѣнія. Теперь, облитые солнечнымъ сіяніемъ, они стояли съ спокойствіемъ мѣди, и какъ будто бы говорили ему: что намъ за дѣло до твоего горя, которое ты самъ себѣ создалъ, глупецъ!
И что мнѣ за дѣло до твоихъ бѣдствій! говорило море, которое теперь, когда онъ вышелъ изъ лѣсу на береговое возвышеніе, лежало передъ нимъ безъ движенія, словно оцѣпенѣвшее въ своемъ недосягаемомъ величіи. Такимъ онъ видѣлъ его когда-то послѣ полудня надъ утесами Анакапри – и оно дало ему мотивъ для одной изъ лучшихъ его картинъ; но теперь онъ подумалъ объ этомъ только мелькомъ, какъ въ горячей головѣ изнемогающаго отъ солнца путника пролетаетъ на пыльной дорогѣ воспоминаніе о прохладной лѣсной тѣни и журчащемъ ручьѣ, у котораго онъ недавно сидѣлъ.
Подъ нимъ въ маленькой, съ трудомъ выкопанной на каменистомъ берегу бухтѣ, стояли принадлежавшія помѣстью лодки. Онъ въ эти дни нѣсколько разъ катался въ той изъ нихъ что поменьше, вдоль берега, и носилъ въ карманѣ ключъ къ цѣни, посредствомъ которой она прикрѣплялась на колъ.
Шире и шире становилась тѣнь, падавшая съ берега на море, когда онъ, разсѣкая мощными ударами весла воду, началъ грести прямо къ большой бухтѣ, на самомъ крайнемъ южномъ концѣ которой стоялъ приморскій домъ, ярко освѣщенный въ эту минуту солнцемъ. Но это была не береговая тѣнь, а чорная стѣна тучъ, равномѣрной ширины вдоль всего берега, которая медленно поднималась, и острый верхній край которой пылалъ и сіялъ какимъ-то страшнымъ огнемъ. То была ужасная гроза, собиравшаяся со стороны земли. Еслибъ она разразилась, Готтгольдъ отдохнулъ бы въ борьбѣ стихій отъ томительнаго гнёта грозы собравшейся въ его душѣ! Тутъ на чорной облачной стѣнѣ сверкнулъ пламенный лучъ, еще, и еще... Съ страшною быстротою все растетъ эта чорная стѣна, гася всякій встрѣчающійся на пути ея свѣтъ на небѣ и на берегу и на морѣ, надъ которымъ свиститъ и бушуетъ теперь вѣтеръ, бороздя гладкую до тѣхъ поръ, какъ стекло, поверхность и взрывая цѣнящіяся волны.
Волны и вѣтеръ подхватили маленькую лодку Готтгольда и гнали ее передъ собою, какъ игрушку, но направленію къ морю,– даже и теперь, когда, сознавъ опасность, Готтгольдъ старался держаться берега. Послѣ нѣсколькихъ ударовъ весла, онъ понялъ, что единственная его надежда – на быстротечность этой грозы: авось она также скоро пройдетъ, какъ и пришла.
Но казалось, демоны мрака подслушали его дерзкія слова и не хотѣли уступить своей жертвы. Все шире ложилась мрачная тѣнь на шумящее море; только на самомъ концѣ горизонта свѣтлѣла еще пара бѣлыхъ парусовъ, но теперь и они изчезли во мракѣ; все выше и выше становились лѣнившіяся волны и все быстрѣе уносилась лодка отъ земли, бѣлый мѣловой берегъ которой съ вѣнчавшимъ его темнымъ лѣсомъ слился, даже для зоркаго глаза Готтгольда, въ одну сѣрую полосу. Не оставалось больше никакого сомнѣнія, что его занесетъ въ открытое море, если только волна не опрокинетъ лодки,– что могло случиться каждую минуту – и только чудомъ не случилось до сихъ поръ.
Готтгольдъ хладнокровно дѣлалъ все что могъ, для своего спасенія; онъ старательно наблюдалъ за каждой приближавшейся къ нему волной и, уклоняясь отъ нея помощью того или другаго весла, а иногда и обоихъ вмѣстѣ, держалъ качающуюся лодку бокомъ къ вѣтру. Если она повернется, все будетъ зависѣть отъ того – погрузится ли она въ воду или останется на поверхности; въ послѣднемъ случаѣ его положеніе было еще не совсѣмъ отчаянное; онъ могъ бы держаться пожалуй цѣлые часы, и когда вѣтеръ перемѣнится, его или принесетъ къ берегу или спасетъ какой нибудь мимо-плывущій корабль; но если лодка погрузится въ воду, онъ по всѣмъ вѣроятіямъ погибъ. Онъ теперь ни на минуту не могъ выпустить весла, и освободиться отъ своей одежды; а плыть долго въ полномъ костюмѣ при такомъ состояніи моря онъ, хотя и былъ превосходнымъ пловцомъ, не могъ надѣяться, тѣмъ болѣе что онъ уже началъ замѣчать въ себѣ постепенный упадокъ силъ, какъ старательно онъ ни берегъ ихъ.
Сначала понемногу, а теперь все быстрѣе, да быстрѣе. Сначала онъ легко исполнялъ самыя сложныя эволюціи, а теперь онѣ становились все тяжелѣе и тяжелѣе для его окоченѣлыхъ пальцевъ, для его ослабѣвшихъ рукъ. Все тѣснѣе и тѣснѣе становилось у него въ груди, все глуше и глуше билось его сердце, все тяжелѣе и тяжелѣе дышалъ онъ, въ горлѣ у него пересохло, въ вискахъ стучало; будь что будетъ, но онъ долженъ отдохнуть на минуту, убрать весла и предоставить лодкѣ нестись.
Въ ту же минуту маленькое суденышко начало черпать воду; Готтгольдъ предвидѣлъ это. "Это не можетъ долго длиться", сказалъ онъ самъ себѣ: "что изъ этого? Еслибъ ты могъ жить для нея, это стоило бы труда, но теперь – для кого ты умрешь кромѣ самого себя? Она конечно подумаетъ: онъ искалъ смерти и могъ бы избавить меня отъ этого. Съ моей стороны очень не любезно нестись къ землѣ въ видѣ непрошенаго трупа,– очень нелюбезно и очень глупо; но, заключая сдѣлку, надобно предвидѣть и это. Да и наконецъ дороже, чѣмъ жизнію, за глупость заплатить нельзя".
Все больше путались мысли въ отуманенномъ мозгу, въ то время какъ онъ, изнемогая отъ усталости, сидѣлъ нагнувшись впередъ, не сводя глазъ съ веселъ, машинально стиснутыхъ окоченѣвшими пальцами, и съ качающагося борта лодки, который теперь рѣзко отдѣлялся отъ сѣро-чорнаго неба и находился на одинъ футъ ниже бѣлопѣнящагося гребня мимо-катившихся волнъ. А потомъ онъ смотрѣлъ на все это, какъ на исчезающій задній планъ картины, отъ котораго ярко отдѣлялось ея лицо, но не съ болѣзненно содрогающимся ртомъ и глазами медузы, а преображенное прелестною плутовского улыбкой, какимъ оно рисовалось въ его воспоминаніи, вынесенномъ изъ чудныхъ дней молодости, и какимъ онъ увидалъ его опять давеча, на минуту.
И вдругъ имъ овладѣла безконечная грусть, что онъ долженъ разстаться съ жизнію, не любивши, не бывъ любимымъ ею,– съ жизнію, которая даже въ томъ случаѣ, еслибъ онъ только продолжалъ любить ее, было бы несказаннымъ счастьемъ,– съ жизнію, которая не принадлежала ему, которою онъ, такъ или иначе, былъ обязанъ ей,– за которую онъ, ради нея, былъ долженъ бороться до послѣдняго дыханія.
И оцѣпенѣлые пальцы еще крѣпче легли вокругъ рукоятки весла, и ослабѣвшія руки двигались и отражали, сильно напирая, ударъ высоко вздымавшихся волнъ; утомленные глаза отыскивали опять спасенія за пѣнившимися волнами, и изъ сжатой груди вылетѣлъ радостный крикъ, когда словно привлеченный невѣдомыми чарами изъ водяныхъ паровъ, которыми была наполнена атмосфера, вынырнулъ парусъ. Минуту спустя подлетѣло большое судно, съ такъ глубоко-уходившимъ въ воду бакбордомъ, что Готтгольдъ видѣлъ весь поднимавшійся изъ воды киль съ носа до кормы, а надъ высоко-выступающей подвѣтренной стороной только голову штурмана съ бѣлыми какъ снѣгъ, развѣвающимися отъ вѣтра волосами, и верхнюю часть тѣла молодаго человѣка на бушпритѣ, который держалъ въ поднятыхъ рукахъ свернутую веревку. И вотъ эта развившаяся, какъ змѣя, веревка летитъ прямо къ нему на бортъ. Онъ схватилъ ее, обвилъ вокругъ крюка. Послѣдовалъ сильный толчокъ; наполнившаяся почти до самаго края лодка качается и тонетъ подъ его ногами, но его руки уже лежатъ на борту большаго судна; двѣ сильныя руки схватываютъ его за плеча – и минуту спустя онъ шатаясь падаетъ къ ногамъ стараго Бослафа, который, протягивая ему лѣвую руку, правою сильно поворачиваетъ руль.
XIII.
Море еще не улеглось послѣ бури; но передъ закатомъ, солнце опять уже озаряло темныя волны тамъ и сямъ дрожащими лучами. Теперь въ темной синевѣ неба загорѣлись мало по малу звѣзды. Готтгольдъ глядѣлъ на нихъ, и потомъ снова обратилъ глаза на тихое лицо старика, подлѣ котораго онъ сидѣлъ подъ защитой толстыхъ стѣнъ приморскаго дома. Возлѣ нихъ мерцалъ черезъ окно свѣтъ фонаря, который, съ тѣхъ самыхъ поръ какъ кузенъ Бослафъ жилъ въ этомъ домѣ, горѣлъ тамъ каждую Божію ночь; будетъ горѣть и послѣ, когда смерть закроетъ ему глаза. Для этого самаго онъ и совершилъ путешествіе въ Зюндинъ – первое съ тѣхъ поръ какъ, шестьдесятъ пять лѣтъ тому назадъ, онъ возвратился изъ Швеціи, да ужь конечно и послѣднее. Ему таки надо было преодолѣть себя, чтобъ отказаться за столько дней отъ своихъ отшельническихъ привычекъ и снова вмѣшаться въ людскую толпу. Но такъ было нужно;– ему не слѣдовало раздумывать объ томъ: легко ли ему это будетъ или трудно. И вотъ онъ пустился въ путь съ молодымъ Карломъ Петерсомъ, сыномъ своего стараго друга,– изъ Зюндинѣ, шесть дней кряду, каждое утро являлся къ господину президенту, и каждый разъ ему отказывали, потому-что господинъ президентъ, какъ говорилъ камердинеръ, очень занятъ; а напослѣдокъ этотъ камердинеръ сказалъ ему грубымъ тономъ, чтобы онъ больше и несмѣлъ приходить. Но въ эту самую минуту президентъ вышелъ изъ кабинета и, увидивъ старика, ласково спросилъ его: кто онъ такой и что ему нужно. Тутъ кузенъ Бослафъ разсказалъ обходительному сановнику, что зовутъ его Бослафъ Бенгофъ и что онъ былъ другомъ Мальте фонъ Криссовица, вонъ и портретъ его виситъ на стѣнѣ, вѣдь онъ, кажись, приходится прадѣдомъ президенту,– а потомъ разсказалъ свою просьбу. Дѣйствительно, покойный Мальте фонъ Криссовицъ былъ однимъ изъ шести молодыхъ господъ, что были судьями въ состязаніи между Богиславомъ и Адольфомъ Венгофами,– и президентъ слышалъ еще въ молодости эту знаменитую исторію отъ своего отца, а отецъ слышалъ ее отъ дѣда, а дѣду-то разсказывалъ ее прадѣдъ. Ему казалось просто сказкой, что герой этой исторіи еще живъ,– что это тотъ самый старикъ, который сидитъ съ нимъ рядомъ на диванѣ; онъ позвалъ свою жену и дочь, представилъ ихъ ему и уговаривалъ его остаться обѣдать. Всѣ были такіе добрые и ласковые, а – что главнѣе всего – на прощаньи президентъ далъ ему свое графское слово, что то доброе дѣло, объ которомъ старикъ просилъ его, станетъ съ этихъ поръ его собственнымъ дѣломъ.
– На этихъ же дняхъ, сказалъ дядя Бослафъ,– здѣсь передъ домомъ, на высокомъ фундаментѣ изъ прибрежныхъ камней, будетъ устроенъ маякъ, и свѣтъ его будетъ хватать еще на милю дальше, чѣмъ свѣтъ моей лампы. Карлъ Петерсъ назначенъ смотрителемъ и будетъ жить со мной въ приморскомъ домѣ, который теперь уже будетъ служить караульней, а послѣ моей смерти перейдетъ въ собственность правительства. Теперь съ моихъ плечь спала великая забота. Мнѣ ужь не нужно больше, когда я утромъ гашу лампу, говорить: "будешь ли ты въ силахъ сегодня вечеромъ опять ее зажечь?"
Старикъ замолчалъ; громче трещало знамя на конькѣ береговаго дома; громче журчали волны между прибрежными каменьями. Готтгольдъ съ благоговѣйнымъ почтеніемъ смотрѣлъ на высокую фигуру девяностолѣтняго старика съ бѣлыми какъ серебро волосами, въ груди котораго сердце все еще такъ горячо билось для людей – для бѣдныхъ мореходцевъ и рыбаковъ, которыхъ онъ никогда даже не видалъ, про которыхъ онъ только и зналъ, что они плывутъ тамъ, въ темную ночь, невидимые даже для его зоркаго глаза,– и пока видятъ свѣтъ, держатся дальше отъ опаснаго берега, какъ ихъ учили тому ихъ отцы и дѣды. И этотъ старикъ, жившій только для другихъ, чья жизнь была посвящена любви къ людямъ, отъ которыхъ онъ не требовалъ и не ждалъ ни взаимной любви, ни благодарности,– сегодня рисковалъ своею жизнію, чтобы снасти его, а онъ едва ли и желалъ-то этого; вѣдь жизнь его была такъ безотрадна – онъ любилъ и не былъ любимъ. Что сказалъ бы про это старикъ? Да и понялъ ли бы еще онъ, при безграничности своей самоотверженной любви, такую своенравную и эгоистическую страсть?
– Это было моей единственной заботой, началъ опять дядя Бослафъ,– правительство сняло ее съ меня; есть у меня еще другая, но эту-то ужь никто не можетъ снять съ меня.
– Вы говорите объ ней – объ Цециліи? спросилъ Готтгольдъ съ бьющимся сердцемъ.
– Да, отвѣчалъ старикъ,– объ ней, объ Ульриковой правнучкѣ, которая во всемъ такъ похожа на свою прабабушку, только еще несчастнѣе ея. Будь моя воля, не вышла бы она замужъ за этого человѣка, но вѣдь они въ грошъ не ставили моихъ совѣтовъ.
Со старикомъ вдругъ сдѣлалась какая-то странная, ужасная перемѣна. Высокая его фигура опустилась, словно вся сила покинула его; низкій и еще за нѣсколько минутъ передъ этимъ такой сильный голосъ дрожалъ, когда послѣ короткой паузы, которую Готтгольдъ не смѣлъ прервать, старикъ продолжалъ:
– Всегда они такъ поступали. Такъ они потеряли и свои земли одну за другой, и лѣса потеряли одинъ за другимъ, и стали арендаторами тамъ, гдѣ были прежде господами,– такъ и погибли всѣ, одинъ за другимъ. И все это случилось на моихъ глазахъ, все я долженъ былъ перенести – и всегда думалъ: "ну, хуже этого, кажется, ужь не можетъ быть," – а самое-то худшее было еще впереди. Всѣ они были пустыя, вѣтреныя головы, но дурныхъ людей между ними не было ни одного; да и въ концѣ концовъ, все это были люди, которые, въ случаѣ нужды, могли заработывать столько, чтобы жить честнымъ трудомъ. Теперь же, теперь даже старое имя угаснетъ со мною; только и осталось, что одна безпомощная женщина, промѣнявши свое имя на человѣка, который ничто иное какъ негодяй, какими были всѣ его предки; этотъ негодяй опозоритъ вмѣстѣ съ собой и ее – ее и меня!