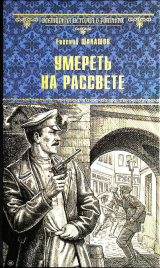
Текст книги "Умереть на рассвете"
Автор книги: Евгений Шалашов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Глава шестнадцатая
ПОМИНКИ ПО ЛЕНЬКЕ ПАНТЕЛЕЕВУ
Ну, кто еще станет гулять по морозцу в кожаном пальто и городской кепочке, если не Васька Пулковский? В Петрограде Иван не шибко любил молодого бандита за наглость и воровскую браваду, а здесь словно другой человек. И наглость куда-то пропала, и по-человечески заговорил, да и пользы от него много.
– Ты чего в избу-тο не зашел? – буркнул Иван. – Видишь, не заперто. Стоишь у дверей, словно бродяга.
– Да я чё-то не решился к тебе войти, – простучал зубами Пулковский. – Кто тебя знает, какие сюрпризы у тебя в хате? Может, гранату в сенях привесил?
– Иди уж, грейся, – ухмыльнулся Иван. – Нет у меня никаких сюрпризов. Не хватало в собственном доме гранаты подвешивать. Подвесишь, сам первым и напорешься.
Радостный Васька скрылся в доме.
"Ê-мое, а печка-тο у меня не топлена! – запоздало вспомнил Иван. – Ну, ничего страшного, щас затоплю. В доме-то все теплее, чем на улице".
Николаев распряг мерина, завел конягу в хлеб. Щедро сыпанул овса, сходил на колодец, принес ведро воды. Работа настроила Ивана на миролюбивый лад – бросать все и ехать за Фроськой прямо сейчас уже не хотелось. Да и права Марфа– как баба жить станет, ежели Иван ее отца и братьев пристрелит?
Прихватив с собой охапку дров, Иван вошел в дом.
– У тебя тут как в погребе, – упрекнул его Васька. – Тараканов морозишь, что ли?
– Щас "голландку" затопим, – пообещал Николаев.
Тепло от русской печки идет не сразу, да и протапливать ее долго, потому во многих домах к ней пристраивали "голландки". На плите можно чайник вскипятить, еду сготовить. На нее и дров меньше уходит, и дом греется быстрее. Правда, в отличие от русской печи, тепло держится недолго.
Сложил дрова, нащепал лучины, чиркнул спичкой.
Крошечный огонек робко лизнул краешек сучковатого полена, слегка подрос, превращаясь в диковинный цветок, осмелев, ухватил багровым лепестком кусочек побольше, перекинулся дальше, обнимая другие поленья, и наконец пламя началось вырываться из устья. Иван прикрыл дверцу, послушал, как загудело в трубе, повернулся к гостю.
– Слышал, что Леньку Пантелеева грохнули? – спросил Васька, прикладывая ладони к кирпичам.
– Откуда? – вскинулся Иван. – А давно?
– С неделю назад, – сообщил Пулковский, покрякивая от удовольствия. Отдернул руки: – Жжется!
Не то чтобы Иван шибко удивился новости – все к тому и шло, что атаман сложит буйную голову, но смерть всегда приходит нежданно – хоть своя, хоть чужая. Леньку вроде бы пожалеть надо, но жалость куда-то подевалась. Стольких за последние годы друзей-знакомых потерял, что никакой жалости не хватит. А с Ленькой-Леонидом… Поначалу было к атаману уважение, да прошло. Иван ему свои долги отдал, помог из Крестов вылезти, а больше и видеть не хотел. Как говорят: "Помер Максим, так и хер с ним!"
– Сам-то откуда узнал? Вроде в газетах о том не писали.
– В тех, которые в Питере, – писали. Мол, так и так, убили самого опасного бандита-налетчика двадцатых годов. А я не в газетах, приятеля встретил из Питера. Он по "клюквам"[15]15
Клюква – церковь (жарг.).
[Закрыть]большой мастак, хотел у вас чё-нить надыбать, да по рогам получил. Угостил я парня, слово за слово, он рассказал. Засыпался Ленчик на хазе, на Можайской.
– Подожди-ка, – наморщил лоб Иван. – Можайская, Можайская… Что-то знакомое… Семеновские казармы там были, что-то еще?
– Какие казармы?! – хохотнул Васька. – На Можайской наша Адочка живет, а может, уже и нет. Адочка – она ж не просто жучка, а жучка с гонором. На панель пошла не от глупости или бедности, а по натуре своей блядской. На передок слаба да на приключения тянет. Муж у нее коммерсант, серьезный был дядька, хотел, чтобы с марафетом завязывала. На бабу орал, докторов звал, запирать пытался, да что толку? Обиделась Адочка, Леньке мужа слила – это еще до тебя было. С мужа-коммерсанта мы всего-то с полсотни ржавых взяли, а он возьми да в деревянный ящик сыграй – сердце, видите ли, слабое. Ленька к этой шалаве и прикипел. А когда потянули мусора за ниточку, клубочек-то распустился да и привел к Адочке. Поперся Ленька, цветочки взял, словно к крале пошел путевой, а не к марухе, а там засада – и безо всяких разговоров "маслину" ему в лоб всадили. Труп в Обуховской больнице выставили, в анатомичке. Говорят, неделю народ шел, пока покойник пахнуть не начал. А потом удумали – голову Ленькину отрубили, в банку сунули, спиртом залили да и выставили на обозрение. Угадаешь, где выставили?
– В Кунсткамере, что ли? – предположил Иван. Ну, где еще можно выставить отрезанную голову?
– Не угадал! А выставили ее на Невском, в том самом ювелирном магазине, который мы брали.
Услышав про банку с Ленькиной головой, Иван сел. Пантелеев бандитом был, оно и правильно, что пришили, но после смерти-то зачем изгаляться? Ну, прикопали бы где, да все дела.
– Ты чё, Афиногенович? – забеспокоился Васька. – Леньку пожалел, что ли? Так я тебе говорил – он в последние дни совсем озверел. Может, в Крестах по башке получил, может, еще чего. У него шарики за ролики зашли. Я в последние дни к нему боялся спиной повернуться. Сидишь и думаешь, не шмальнет ли в тебя? Братва говорила, что Гаврика-комиссара сам Ленька и порешил. Может, правда, а может, и врут.
– И комиссара убили?!
– А я тебе что, не рассказывал? – удивился Васька. – Про комиссара Сухарев мне месяц назад сказал. Ему ж проводники новости сообщают.
Комиссара Гаврикова, в отличие от Леньки, было жаль. Дмитрий был настоящим комиссаром, правильным. Не из тех, кто на митингах речи толкал, а потом в тылу отсиживался да бойцам маузером в зубы тыкал. Комиссар был из тех, кто красноармейцев в атаку за собой вел.
– Надо бы помянуть мужиков, – предложил Иван. – У меня где-то бутылка была припрятана.
– Самогонка? – скривился Васька. – У меня кое-что получше есть. Заходил к Ваньке Сухареву, у него, кроме коньяка, ничего нет, пришлось в ресторан на Ленина топать. На вынос продавать не хотели, еле уговорил. Вот – французское хлебное вино, водка по-нашему!
Пулковский с гордостью вытащил из карманов две бутылки с зелеными этикетками, где было написано не по-нашему – "Wódka".
– Что за хрень? – удивился Иван. Взял бутылку, не сразу, но разобрал. – Какая же это французская? Это польская водка. Поляки ее "вудкой" называют.
– Откуда знаешь? – недоверчиво посмотрел Васька. – Федька-официант клялся-божился, что лучшая французская водка.
– Вась, мы когда в Галиции воевали, такую водку у тамошних корчмарей на нижнее белье выменивали. За пару белья нам две бутылки давали да еще и закуски. Дрянь, конечно, по сравнению с нашей, но пить можно. У поляков лучше всего зубровка выходит.
– Чё-то тебя несет, Афиногеныч. Сам сказал, польская водка, теперь про какую-то Галицию говоришь?
– Галиция – это область такая, в Австро-Венгрии, – терпеливо пояснил Иван. – Все равно что Череповецкая губерния в России. Раньше Галиция польской была, потом австрийской, теперь снова польская. Мы ее в четырнадцатом году взяли, больше месяца нашей была, а потом нас оттуда выперли.
– Польская, австрийская – хрен поймешь, – скривился Васька. – А Федьке я завтра по морде дам, за вранье. Ишь, польскую водку за французскую выдал.
– Так у французов водки вообще нет. У них вина всякие да коньяк.
– Это как? – не поверил Васька. – Не может такого быть, чтобы водки не было. У немцев водка шнапсом называется, у англичан – виски.
– Может, что-то такое и есть, – не стал спорить Иван. – Но против русской – никакая водка не сравнится. Так мы
Леньку с комиссаром поминать-то будем или спорить? Сам попробуешь, скажешь – хорошая водка али нет.
Чтобы помянуть Гаврикова и Пантелеева, нужна закуска, да и время к обеду шло. Николаев притащил из кладовки кусок сала, отыскал половину хлебного каравая. Что бы еще такого сотворить на скорую руку?
– Может, яичницу зажарим? – неуверенно предложил Иван. – Или картошечки отварить?
Была у Ивана одна беда – кроме варки картошки, ничего больше не умел. С картошкой просто – вымыл, залил водой, на огонь поставил, а потом ждешь, пока не сварится. Пытался как-то поджарить яичницу – спалил. Да и откуда было научиться? До царской службы мать готовила, потом, хоть и недолго, жена. А в армии повара есть, накормят. Если случалось «позаимствовать» на стороне картошку или куренка, то всегда находились умельцы. А сейчас Николаев даже не знал – где и что у него лежит. Картошка вон, под столом стоит, с полведра, Фроська приволокла.
– Слушай, а хозяйка-то твоя где? – вспомнил гость. – Она же с утра и печку топила, и щи варила. Куда девалась?
Иван только махнул рукой – мол, не спрашивай.
Васька плечами пожал – ну, не хочешь рассказывать, как хочешь.
– Давай картошечки на сале пожарим. Страсть как картошку люблю.
В два ножа дело шло быстро, хотя любая хозяйка прибила бы за такую работу – вместе со шкуркой мужики срезали едва не по половине картошины.
– А ты жарить умеешь? – поинтересовался Иван.
– А я думал, ты жарить будешь, – поскучнел Васька.
Надо было в мундирах варить, меньше б испортили.
Леньку Пантелеева и комиссара Гаврикова помянули хорошо. Польская вудка после пары выпитых рюмок оказалась не хуже водки. К концу первой бутылки мужики уже и забыли, что они поминают и начали рассказывать друг дружке смешные истории. Васька Пулковский вспоминал, как он по молодости помогал форточнику, когда тот, выбросив на улицу облюбованные вещички, попался хозяевам.
– Прикинь – Фома клювом прощелкал, не услышал, как лох с лохушкой на хату вернулись, он начал наружу лезть, лох его с той стороны за ноги стаскивает, благим матом орет. Вот умора! Думаю – чё делать-то? Не то Хлам хватать и подрывать, не то Фому выручать. Камень схватил да в стекло запулил – второй этаж. Стекло – брямс, терпила ноги отпустил, а Фома ходу дал.
Николаеву отчего-то вспомнилось, как в восемнадцатом они отбивали винный склад у матросов.
– Стоит один такой, весь в пулеметных лентах, наганом машет, будто на баррикады зовет – мол, зачем мы товарищи Зимний брали, если власть выпить не разрешает? Законы царские отменили, стало быть, "сухой закон" теперь побоку! А комиссар наш, Боря Куракин, подходит к нему, говорит: "А чего ты, дорогой товарищ, наганом трясешь? Водку надо пить из стакана, не из нагана!" Наган отобрал, отмашку нам дал. Мы матросиков прикладами оттерли, у входа встали, штыки выставили. Ну, мореманы – пока они трезвые, на штыки к окопникам не полезут. Поорали, поорали да разбрелись.
Вот и вторая бутылка "вудки" пошла в дело, Николаеву с Пулковским стало совсем хорошо. Они уже порывались спеть, но не сошлись, с какой начинать. Ивану хотелось про русскую бригаду и Галицийские поля, но эту песню Васька не знал, потому затянули про Лельку из утро, влюбившуюся в жигана с золотой фиксой.
– Он лежал так спокойно и тихо,
Как гитара осенней порой,
Только кепка валялась у стенки,
Пулей выбило зуб золотой, – вытягивали на два голоса Иван и Васька, когда заскрипела дверь и в избу ворвался Тимоха Муковозов. Вместо приветствия мужик зарыдал:
– Беда у меня!
– Тимоха, ты чё? – засуетились Васька с Иваном, оборвав песню. Усадили Муковозова на табурет, налили ему вуцки. (Были бы трезвыми, плеснули бы самогонки, ее-то не жалко.)
Муковозов выпил, скривился, занюхал рукавом. Глянул на бутылку.
– Беда у меня! – повторил мужик.
– Ты толком расскажи, – понял Иван намек, разливая остатки. Ну, теперь точно самогонку придется доставать! Тем более что от воплей и рева Тимохи они с Васькой даже и протрезвели.
– Парни у меня растут, Сашка и Пашка, знаете?
– Н-ну!
– Парни толковые, из ума сложены. Учатся – учителка хвалит, мы с матерью не нарадуемся. Так что они, паразиты, удумали – в совхозе Парфеновском пять овец сперли и домой притащили!
– А где это? – в один голос спросили Николаев и Пулковский.
Ни тот, ни другой не знали, что за совхоз такой. Ну, Пулковский неместный, но Николаев-то должен знать.
– Деревня Парфеново, где женский монастырь был. В восемнадцатом обитель бабью закрыли, а на его месте совхоз открыли, овец для Красной Армии разводить. Ну, мясо там, шерсть, кожа. Пока война шла, овец было штук пятьсот, может, больше. Мужики туда в зачет гужповинности сено возили, солому. Как армию сокращать стали, поголовье уменьшили, но все равно – сколько-то осталось.
– А, точно, – вспомнил Николаев. – Мне про совхоз Леха Курманов говорил, директором предлагал стать. Мол, монашки работают хорошо, настоятельница над ними властвует, а директор так, для проформы. Значит, твои оскорботки овец из совхоза украли?
Пулковский заржал, словно жеребец:
– Не иначе в батьку пошли. Теперь Тимоха всей семьей на гоп-стоп выходить будете!
Муковозов аж затрясся, вскочил. Верно, хотел вцепиться в Ваську. Но, помахав руками, сел обратно.
– Я ведь, мужики, не такой жизни для Пашки и Сашки хотел, – простонал Тимофей. – Я ведь чего хотел? Хотел деньжат сколотить, чтобы их в город отправить учиться. И не в Череповец, а в Питер либо в Москву. И теперь что? Они же теперь, как мы, в бандиты пойдут?
– Стоп! – остановил начавшего впадать в истерику мужика Иван.
Подошел к русской печке, пошарил за трубой и вытащил заветную бутылку самогона. Разлил по полной, кивнул мужикам – давай, мол. Выпив, закусил остатками картошины, сказал:
– Ты Пашке и Сашке ремня хорошего дай, чтобы на жопу неделю сесть не могли.
– Уже дал, – мрачно сказал Тимофей. – Здоровые лбы, еле справился. Орут: "Батюшка, мы ж как лучше хотели, для дома старались!" Мол, видели, как вы с дядькой Ваней да с дядькой Васей по хуторам ездили, зерно у кулаков отбирали. А монашки, они хоть и советские работницы нынче, но все равно – враги трудового класса и крестьянства!
– Вот ведь засранцы! – хохотнул Иван. – Это их в школе такому научили?
– Это все фуфло! – авторитетно заявил Пулковский, перебивая вожака. – Ты нам скажи – ну, чё такого страшного, что парни у тебя начудили? Ну, украли овец, ну и что? По-молодости, по глупости – с кем не бывает? Думаешь, раз ты бандит, так обязательно они бандитами станут? У меня батька при Пулковской обсерватории сторожем был, вместе с профессорами каждую ночь в телескоп на звезды смотрел, и что? Я же не сторожем стал, а налетчиком. А звезды только в камере видел, если не спалось ночью.
– Подожди-ка, – заинтересовался Иван. – Так Пулковский – это по обсерватории, что ли? Я ж там бывал, в Пулкове.
– Да кликуха это моя, – признался Васька. – Фамилия-то у меня простая – Алексеев, но раз я с Пулкова родом, так и прозвали – Пулковский.
– Значит, ты у нас Васька Алексеев, не Васька Пулковский, – хмыкнул Иван. – Ну да ладно, кой хрен разница? А ты, Тимофей, рано печалишься, не факт, что детки твои по твоим стопам пойдут. Пендюлей им отвешай, на первый раз.
– Так я не о том печалюсь, – смахнул слезу Тимофей. – Видели их, как они овец крали.
– А вот это худо, – сказал Иван, почесав небритую щеку. – Да, а как они вообще-то овец украли? От нас до Парфенова – верст пять будет. Волоком волокли или гнали? Это ж любой дурак видеть может.
– Так они, стервецы, ночью сани взяли, кобылу впрягли. В Парфеново приехали, стенку в сарае разобрали, где овец держат. Вытащили, ноги да пасти овцам связали, в сани бросили. Еще додумались требухи с собой взять, собакам тамошним кинуть. За три часа обернулись, я и не слышал, спал.
– Хитро! – покрутил головой Пулковский. – Я б до такого не додумался!
– Утром пошел скотину кормить – мать честная, вчера у меня десять овец было, а тут пятнадцать! Откуда еще пять взялось? Ну, во двор вышел – сани не так стоят, как я их ставил. Ремень схватил, детки все и рассказали.
– А с овцами что?
– Я овец в тот же день зарезал, всех пятерых. А че мне с ними делать? У меня и сена-тο столько не заготовлено, а до травы свежей еще дожить надо. Шкурки да мясо продать можно. А баба моя с утра в лавку ходила – ей говорят – мол, видели в Парфенове, как твои сыновья овец крали! Послушница бывшая – Августа Тепленичева видела, настоятельнице рассказала, а та велела в милицию идти. Говорят, ко мне милиционеры с обыском придут да всю семью арестуют.
– Так может, пришли уже? – усмехнулся Васька.
– Может, и пришли. Я, как про милиционеров услышал, к вам сюда сразу и рванул. Вы скажите мужики, чё мне делать-то?
– Ежели с обыском пока не пришли, хабар спрячь понадежнее, а то и выбрось куда подальше и мясо, и шкуры, – начал поучать более опытный Васька. – Жалко, конечно, но хрен с ним, свобода дороже. Бабе своей скажи – ничего не видели, все дома были, все спали. И детки пущай отпираются – никуда не ездили, спали крепко. А Августа на них это самое, как его, клевету наводит. Мало ли, вдруг они снежком в нее кинули или камнем? Социально чуждый алимент, вот и не утерпели. Может, она сама овец на сторону продала, а на честных людей клевещет?
– Ну, Василий, силен! – повеселел Муковозов. Но тут же снова загрустил: – А если милиция уже пришла, обыск идет, что тогда?
– На шкурках да на мясе подписи с печатями есть?
– Какие подписи да печати? – не понял Тимоха. – Ты чё, Вась?
– Ну, чтобы написано было и печать гербовая стояла – мол, шкурка овечья, из совхоза Парфеновского?! А нет печати, так кто докажет, что овечки совхозные? Может, ты их купил? Ехал мимо цыган с бородой, мясо да шкуры вез. Разве Советская власть запрещает покупать? Откуда ты знал, что ворованное? Или, – подмигнул Васька, – у тебя ж свои овцы есть. Можешь говорить – мои, мол, овечки, решил зарезать.
– Да кто поверит, что в марте месяце скотину режут?
– Так ведь моя скотина – когда хочу, тогда режу! Морда мне у овцы не понравилась, вот и прирезал! Поверят, не поверят, другой вопрос. Ты, Тимофей, главное помни: чистосердечное признание это прямая дорога в тюрьму. Мало кого на чистых уликах в тюрьму загнали. Не выдержал, раскололся, во всем признался – вот тебе и дело состряпано безо всяких улик!
– Ну, чё-то мне не верится, что все так просто, – хмыкнул Муковозов.
– Прикинем, что у них на твоих парней есть, – начал загибать пальчики бандит. – Показания послушницы – раз. При обыске найдены шкурки и мясо —1 вещественные доказательства, это два. Чистосердечное признание – это три. Ты с женой подтвердишь, что детки овец украли да вам сказали – вот и четыре. А теперь – если ты в отрицаловку ушел, то второе доказательство под сомнением, верно?
– Так может, детушек-то моих не посадят? – повеселел Тимоха.
– Довелись до меня, я бы с этой теткой потолковал, которая свидетельница. Так, мол, и так, не бери грех на душу, тварь божья, не то худо будет. Стучать станешь на честных фраерков, будет твоя харя коцаной, как яичко пасхальное. Скажешь мусорам – ничего не помню, ничего не видела, детишек оговорила по дурости. Нет – перо в бок получишь. Откажется тетка от заявы – не будет свидетеля, считай, все овечки в "глухарь" ушли.
– А за ложный донос? Испугается на попятную-то идти.
– За ложный донос больше года не дадут, да и то условно. А жизнь-тο всего одна. Ей что дороже – овцы драные или жизнь?
– Тимофей, – подал голос Иван, слушавший разговор и не встревавший. – Сколько твоим оболтусам годиков?
– Пашке на Рождество четырнадцать стукнуло, а Сашка его на год старше.
– Вась, ты ж у нас все законы знаешь, что скажешь? Вроде бы по закону с семнадцати лет уголовная ответственность? Или нет?
– Не, Афиногенович. В девятнадцатом, когда я на киче сидел, там "законник" нам новые законы разъяснял. Делать-то на киче все равно нечего, вот и учили. А по закону от девятнадцатого года сказано… дай, щас вспомню – лица, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, совершившие преступления, надлежит уголовному наказанию, если они действовали с "разумением"!
– С разумением, это как? – не понял Муковозов.
– Ну, если дураки, так дело без разумения делают, а умные – по разумению, – разъяснил Васька. – У тебя ж детки в школу ходят, не в божедомке сидят. Так что могут твоих ребятишек на кичу замастырить[16]16
Пулковский мог не знать, что, по Уголовному кодексу РСФСР от 1922 года, в отношении лиц «переходного возраста до 16 лет», разрешалось применять только меры медико-педагогического воздействия. Закон был изменен в 1935 году, когда уголовная ответственность несовершеннолетних начиналась с 12 лет.
[Закрыть].
– Так ведь и сам Тимоха в тюрьму пойдет, – сказал Николаев. – И не один, а со своей бабой.
– Бля, а ведь и точно! – выругался Васька.
– А мы тут при чем? – не сразу догадался Муковозов, а потом дошло и до него. – Ети его мать! Соучастие – это мне точно пришьют! А еще и недоносительство.
– Не менжуй, Тимоха, – хлопнул Васька окончательно растерявшегося мужика по плечу, пытаясь утешить – Сделаешь, как умные люди велели, все будет как в синематографе – любовь и счастье!
– Ну, мужики, спасибо, надоумили, – поднялся Муковозов с места и пошел одеваться.
– Может, еще посидишь? – предложил Васька без особого энтузиазма.
– Не, мужики, идти надо. И с этими, как ты сказал – вещественными доказательствами надо что-то решать, да еще дела…
Останавливать Тимофея не стали. Самогонки самим мало, а дела с детишками – это его дела. Конечно, если понадобилась бы помощь Тимохе Муковозову, то помогли бы. Но какую помощь можно оказать? Шкурки с мясом он сам спрятать сумеет, обормотам своим наставление дать – тоже сам. Если только съездить свидетельницу напугать, так ее искать надо. Да и лень вставать, куда-то ехать, если самогонка не допита, песни еще не все спеты.
«ЗАПОВЕДИ» НАЧИНАЮЩЕГО СЕЛЬКОРА И РАБКОРА
Брошюра 1923 г.
1. Только участвуя активно в общественной жизни, ты можешь сделаться хорошим корреспондентом.
2. Наблюдай за всем, окружающим тебя, собирай материалы и факты. Доверяй только документальным данным. Не полагайся даже на свои собственные впечатления. Проверяй их много раз.
3. Помни, что газета живет один день. То, что важно и интересно сегодня, то может потерять значение завтра…
4…Срочные заметки немедленно передавай по телефону, а при нужде спеши немедленно в редакцию.
5. Память изменчива. На память свою не полагайся… Всегда имей записную книжку, вноси в нее все, что ты видишь. Записанное может пригодиться и через день, и через месяц и через год.
ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ». 1923 ГОД
Случная кампания началась!
Всех лучших племенных кобыл на случные пункты под заводских рысистых жеребцов!
Всех средних маток под одобренных производителей! Каждый жеребец должен покрыть 30 маток.
200 жеребцов покроют 6000 маток!
15 января 1923 года в Череповец из Петрограда прибыли 7 лошадей из петроградской тренировочной конюшни для участия в конных испытаниях. Два из них должны были участвовать в розыгрыше главных призов.
С 19 по 23 января 1923 года по инициативе тов. Курманова в Череповце проводились конно-рысистые испытания – бега крестьянских и заводских лошадей. В связи с этим движение на Шексне вдоль реки и ловля рыбы в прорубях на протяжении от шлюзов до лесопильного завода закрывались на три дня. К устройству беговой дорожки были привлечены заключенные.








