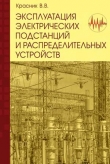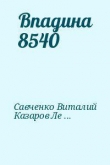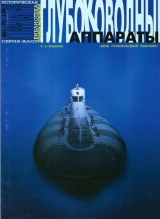
Текст книги "Глубоководные аппараты (вехи глубоководной тематики)"
Автор книги: Евгений Шанихин
Жанры:
Технические науки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
14.37. Аппарат всплыл, к нему направлен спасательный катер СС "Г.Козьмин".
А вот – выписка из вахтенного журнала АС-7, сделанная экипажем после его всплытия по черновым записям 15 сентября:
“11.00. Сняты стопоры с контейнеров АБ, бункеров дроби и привода отдачи гондолы магнитометра. Подготовлен отсекатель на манипуляторном устройстве. Проверено истекание дроби из бункеров. Дробь течет. Система плавучести соответствует инструкции. Замечаний нет.
13.17. Задраен верхний входной люк.
13.20. Принят балласт в кормовую цистерну.
13.21. Открыт клапан вентиляции носовой балластной цистерны. Открыты поплавковые затворы ограждения входного люка.
13.24. Открыт и закрыт клапан вентиляции кормовой балластной цистерны. Включены все колонки на передний ход.
13.25. Открыт клапан вентиляции кормовой баластной цистерны.
13.26. Застопорены машины носовых колонок.
13.27. Начали ссыпку дроби из носового бункера – 30 с. Начали ссыпку дроби из кормового бункера – 30 с.
13.30. Ссыпка дроби из носового бункера – 30 с.
13.31. Ссыпка дроби из носового бункера – 30 с.
13.32. Ссыпка дроби из носового бункера – 60 с.
13.34. Закрыты клапаны вентиляции всех балластных цистерн.
13.36. Открыт клапан ВВД на продувание кормовой балластной цистерны – Юс.
13.37. Открыт клапан ВВД на продувание кормовой балластной цистерны – 10 с.
13.38. Открыт клапан ВВД на продувание кормовой балластной цистерны – 21 с. Продута носовая балластная цистерна – 20 с.
13.40. Легли на грунт. Вышел из строя электродвигатель носовой колонки правого борта. Вышла из строя станция звукоподводной связи. Давление ВВД: в первой группе 270 кГс/см² , в командирской группе 320 кГс/см² .
13.41. Дробь из носового бункера не высыпается. Принято решение отдать бункеры, всплывать аварийно. Количество дроби в носовом бункере 84%, в кормовом 52%.
14.00. Количество бензина в маневровых цистернах: в корме 46%, в носу 52%. Дифферент на нос 14°, крен (Р.
14.15. Отстрелены бункеры. Запущены обе носовые колонки на всплытие. Скорость всплытия 1,2 м/с, дифферент на нос 8°.
14.16. Скорость всплытия 1,8 м/с. Глубина погружения 400 м.
14.20. Глубина погружения 10 м. Продуты все балластные цистерны.
14.21. Всплыли в надводное положение. Закрыты кингстоны балластных цистерн. Выпустили три сигнальные ракеты ”.
И наконец – разъяснения командира АС-7 А.В.Павлова, сделанные Ю.К.Сапожкову после погружения:
“До погружения были включены измеритель глубины, навигационный комплекс, эхолот и регистрирующая аппаратура. При обязательной проверке ссыпки дроби из бункеров возникло сомнение в ее свободном вытекании из носового бункера. При погружении дифферент постоянно увеличивался и достиг 22-23° на нос. Для одержания погружения травили дробь из кормового бункера, постоянно работали на всплытие носовые колонки и частично продували носовую балластную цистерну. В вахтенном журнале ошибочно записано продувание кормовой балластной цистерны. Был выпущен на 20 м носовой якорь. Эхолот не показывал расстояние до грунта, так как был включен на диапазон работы у грунта. При столкновении с грунтом дифферент отошел до 140 на нос.
При нахождении на грунте после сброса носового бункера дифферент отошел к ОР, а после сброса кормового бункера вернулся к 20° на нос, отошел на корму и остановился на 8° на нос. Периодически при всплытии открывались клапаны вентиляции балластных цистерн.
После всплытия при подходе спасательного катера с СС “Г.Козьмин" была обломлена стойка леерного ограждения и поврежден борт АС– 7 в районе средних цистерн плавучести ”.
Установление объективной картины происшедшего было затруднено тем, что отсутствовали какие-либо записи на записывающем устройстве бортовой регистрирующей аппаратуры, планшете автопрокладчика навигационного комплекса, не было записи переговоров и команд экипажа на бортовом магнитофоне, отсутствовала запись на ленте самописца бортового эхолота… Таким образом, кроме записей в вахтенном журнале, сделанных уже после погружения, устных уточнений командира по ним и его субъективных дополнений относительно действий экипажа при погружении ничего не осталось. Вся регистрирующая аппаратура, объективно фиксирующая параметры погружения и переговоры экипажа, оказалась не задействована. А по опросному листу, оформленному перед погружением, замечаний по ней не было.
По расписанию обязанностей экипажа эта аппаратура находится в ведении помощника командира по НИР, а на погружении 15 сентября его функции выполнял матрос, не допущенный к самостоятельному управлению батискафом. Значит, эта аппаратура при погружении либо не была правильно включена на запись, либо последняя была уничтожена после погружения. В любом случае это прямое нарушение инструкции по управлению АС-7, допущенное командиром под руководством председателя госкомиссии.
Следует отметить любопытное совпадение условий погружения на “Поиске-6” командира И.П.Цуркана под руководством А.Ф.Старовойтова 28 апреля 1982 г. и погружения командира А.В.Павлова под руководством И.К.Герасимова 15 сентября 1985 г. В обоих случаях отрицательная плавучесть составляла около 3 т. И скорость погружения достигала более 1 м/с, с той лишь разницей, что в первом случае дифферент возрастал до 20° на корму, а во втором – на нос. В первом случае не работал клапан выпуска дроби из кормового бункера, а во втором – из носового.
Но в первом случае Цуркан, обнаружив аварийную ситуацию, доложил по звукоподводной связи руководителю погружения на «Рудницкий» и получил указание о принятии экстренных мер к всплытию, а во втором случае руководитель погружения был на борту АС-7 и своевременно не скомандовал Павлову аварийное всплытие, в результате не предотвратив аварию.
Единственным документом, составленным непосредственно при погружении и предъявленным председателю после него, оказались черновые записи члена экипажа инженера А.В.Лубкова, ответственного сдатчика навигационного комплекса, куда входил индукционный лаг. Одной из его задач при погружении была проверка показаний этого лага. При погружении Лубков находился в верхнем помещении прочного корпуса и снимал показания с приборов лага и прецизионного измерителя глубины через каждые 30 секунд с начала погружения и до столкновения с фунтом, не подозревая об аварийной ситуации.
Первоначально этому документу никто не придал значения, и он остался у Лубкова. Позднее, когда стали анализировать действия экипажа при погружении и записи в вахтенном журнале, именно этот документ позволил восстановить истинную картину событий.
После погружения 15 сентября АС-7 отбуксировали в Авачинскую губу и 17 сентября поставили к борту “Аламбая” у мыса Козак для разгрузки бензина. “Козьмин” с госкомиссией и сдаточной командой на борту встал рядом на якорь для обеспечения пожаробезопасности в связи с утечкой бензина из поврежденных цистерн плавучести.
Еще в море после злополучного погружения председатель госкомиссии И.КТерасимов предложил ответственному сдатчику и главному конструктору не распространяться о причинах аварийной ситуации до докового осмотра АС-7, а сам уже утром 18 сентября катером ушел в штаб флотилии для доклада и консультаций.
Вернувшись вечером, председатель собрал комиссию и предложил подготовленный ею приемный акт не подписывать, глубоководное погружение не засчитывать и испытания прервать до окончания заводом ремонтно-восстановительных работ на батискафе. Ответственному сдатчику Л.П.Лазуте и главному конструктору Ю.К.Сапожкову он сообщил, что глубоководное погружение 20 августа он не засчитывает, так как при контрольном погружении 15 сентября не было проверки устранения всех замечаний, и требует повторить контрольное погружение.
Вот те раз! Сам разбил “Поиск” при последнем контрольном погружении и требует его повторить, так, как будто к аварийной ситуации при погружении он никакого отношения не имел!
Представителям промышленности связаться с Ленинградом и Москвой удалось только 19 сентября, когда “Козьмин” встал к причалу № 5. А там уже получили информацию, интерпретированную председателем госкомиссии. Лазуте и Сапожкову пришлось оправдываться и долго объяснять, что случилось.
К вечеру 20 сентября АС-7 был поставлен в ТПД-43. Личный состав по приказу командира не пустил в прочный корпус представителей промышленности. На следующий день был проведен осмотр батискафа. Ниже приведены впечатления Ю.К.Сапожкова по результатам этого осмотра:
"Впечатление скверное. Разбита и вдавлена нижняя часть носовой оконечности и по ее обоим бортам идут две вертикальные трещины. Антенна индукционного лага обломлена по линии крепления чувствительного элемента, антенна гидролокатора кругового обзора отсутствует, из ее фундамента торчат только обрывки проводов и остатки ограждения. Носовая колонка движительно-рулевого комплекса погнута по фланцу и смято ее ограждение. При проверке гидравлики масло течет из этой колонки. Внутри носовой оконечности сорваны с фундаментов носовая телевизионная камера и ее светильники.
При осмотре пульта управления командира обнаружили тумблер травления дроби из носового бункера в положении “автомат”, а все остальные органы управления в исходном положении. Со вчерашнего дня личный состав успел развернуть кормовую колонку в ДП и открыть все кингстоны. Значит, запускали гидравлику. Вероятно, не зря вчера с АС– 7 выгнали представителей сдаточной команды! Но непонятно, зачем и почему?А на душе похабно!".
Когда все возможные “грехи” без участия сдаточной команды и испытательной партии были прикрыты и произведен доковый осмотр батискафа, командованием флотилии была назначена “комиссия по расследованию обстоятельств аварийного касания грунта АС-7”. Касания – и не более того! А аппарат разбит и в море выйти не может. И еще странность – комиссия только флотская и в ней ни одного представителя промышленности! А самая интересная странность – в комиссию вошел председатель, виновник аварийной ситуации, в результате которой и произошло это “касание грунта”. Ну как можно было ожидать объективной оценки событий таким составом комиссии расследования ЧП на флотилии? Все протесты ответственного сдатчика и главного конструктора отметались в сторону. Комиссия сделала вывод, что причиной аварийного касания фунта была нессыпка дроби из носового бункера, являющаяся следствием плохой конструкции клапана ссыпки дроби и бункеров в целом.
После подписания акта комиссией командующий флотилией Д.М.Комаров вечером 28 сентября, перед утверждением акта, пригласил к себе представителей промышленности и некоторых членов комиссии. Вот что я записал на этой встрече:
“Сапожков – Бункер на дне и установить причину отказа клапана выпуска дроби не представляется возможным, а проверку его работоспособности перед погружением производил матрос, не допущенный к самостоятельной работе.
Комаров – Проверки должен проводить сдаточный экипаж, назначаемый директором завода.
Корытов (представитель ВП 208 МО) – Но член сдаточного экипажа перед погружением был заменен матросом Макаровым?
Комаров – Записей в опросном листе об отводе Макарова нет. Председатель только допускает к погружению, а назначать экипаж должен ответственный сдатчик.
Лазута – Председатель не докладывал на СС “Г.Козьмин ”о своих действиях при погружении, тем самым исключил возможность контроля его действий ответственным сдатчиком и испытательной партией.
Герасимов – Я как руководитель погружения был на АС– 7 и свои действия не счел необходимым докладывать на СС “Г.Козьмин", тем более, что связь была неустойчивой, и было не до того!А рекомендаций мне не надо! Тем более АС-7 был подготовлен плохо. Балластировка была произведена неверно. Скорость при погружении достигала 1,8 м/с.
Комаров – Где журнал дифферентовки ? Где акт по результатам контрольной вывески?
Лазута – Имеют место разночтения этих документов и записей вахтенного журнала.
Комаров – Нужно иметь регистрирующую аппаратуру. Во время аварии писать некогда. Нужен “черный ящик”, включающийся автоматически.
Чумичев (представитель дирекции завода) – Аварию можно было предотвратить, сбросив бункера до касания грунта, что предусмотрено инструкцией по управлению.
Комаров – Необходима автоматика, предусматривающая исключение аварийных ситуаций, или, по крайней мере, перечень основных аварий и рекомендации по действиям личного состава в этих ситуациях.
Евсеев (представитель института № 40 ВМФ) – Причина аварийного касания – нессыпка дроби из носового бункера. Это несовершенство конструкции, однако вина командира в том, что, будучи не уверен в работоспособности клапана выпуска дроби, он все же пошел на погружение ”.
А ведь именно институт № 40 ВМФ должен был разработать рекомендации личному составу по действиям в аварийных ситуациях, но своевременно не сделал этого!
По итогам этой встречи представители промышленности Л.П Лазута и я подготовили замечания к акту комиссии и направили их в свое министерство:
1. Комиссия по расследованию обстоятельств аварии опытного АС-7 должна быть двусторонней, с включением в нее представителей промышленности, поскольку ГА еще не был передан флоту.
2. В состав комиссии по расследованию обстоятельств аварии не мог быть включен ее участник И.К.Герасимов.
3. Комиссия сделала необъективное заключение о причинах аварии, основываясь только на докладе командира АС-7, без учета других данных.
4. Причиной возникновения аварийной ситуации при погружении 15 сентября 1985 п явилась нессыпка дроби из носового бункера либо по причине плохой подготовки ГА к погружению, либо вследствие дефекта конструкции выпускного клапана дроби.
5. Причина аварии – несбрасывание экипажем бункеров с дробью в возникшей аварийной ситуации, что было прямым нарушением инструкции по управлению АС-7.
Позиция, занятая руководством завода-строителя, бюро-проектанта и министерства, оказалась слишком пассивной. В это время в Москве находилось на согласовании совместное решение о передаче опытного ГА “Поиск-6” флоту в совместную с промышленностью опытную эксплуатацию по программе, разработанной бюро и согласованной институтами ВМФ. В это решение был включен перечень всех необходимых ремонтно-восстановительных работ, и все надеялись в период совместной опытной эксплуатации АС-7 произвести работы по ремонту и улучшению тактико-технических элементов ГА, рекомендованные госкомиссией. Именно поэтому вопросов по аварии больше никто не поднимал, и председатель госкомиссии, Камчатская флотилия, сдаточная команда и испытательная партия ожидали решения Москвы. Туда был командирован главный конструктор батискафа и представитель руководства завода.

У причала №5: А. А. Белоглазое, Е.Н.Шанихин, Л.ПЛазута, А.В.Сафронов, В.М.Зайцев, 1985 г.
Но Москва решила по-своему: испытания АС-7 прервать, заводу-строителю в счет строительства опытного ГА произвести ремонтно-восстановительные работы и по их окончании вновь предъявить аппарат государственной комиссии для производства повторного глубоководного погружения.
15 октября 1985 г. в Пефопавловске-Камчатском государственная комиссия составила акт о перерыве в испытаниях в связи с тем, что имеются неисправности, дефекты и поломки вооружения и технических средств АС-7:
– нарушение целостности легкого корпуса, нижней части носовой оконечности, обшивки цистерн балластных и плавучести:
– отсутствует антенна гидролокационной станции с приводом вращения;
– вышла из строя носовая колонка движительно-рулевого комплекса;
– носовая фуппа светильников забортного освещения не обеспечивает наблюдение и фотографирование изображения на видеоконтрольном устройстве носовой телевизионной камеры;
– сопротивление изоляции аккумуляторных батарей ниже нормы;
– антенна станции звукоподводной связи экранирована твердым балластом.
Остались не завершенными следующие виды государственных испытаний:
– проверки скорости подводного хода и дальности плавания экономическим ходом, которые не соответствовали требованиям спецификации:
– глубоководное погружение на 6000 м по причине выхода из строя колонок, падения сопротивления изоляции аккумуляторных батарей, затекания трех светильников, падения давления в системе гидравлики на 20% от номинального, отказа кормовой якорной лебедки, не предъявленного манипуляторного устройства.
Приложением к акту являлся перечень работ, выполнение которых было необходимо до возобновления государственных испытаний, состоящий из 20 пунктов.
Вот таковыми оказались плачевные результаты сдачи опытного АС-7 в 1985 г.
И ни в одном документе не было упоминаний об аварии 15 сентября и ее причинах, как будто все имевшие место неисправности и поломки явились результатом дефектов конструкции или небрежения промышленности при строительстве и сдаче батискафа.
Это было несправедливое и жестокое решение по отношению к создателям уникального сооружения в истории отечественного подводного кораблестроения.
По положению акт о перерыве государственных испытаний должен был подписывать ответственный сдатчик АС-7. С моей подачи Л. П .Лазуга подписал акт с общим особым мнением:
"Приведенные неисправности, дефекты и поломки вооружения и технических средств опытного ГА АС– 7 не могут являться причиной перерыва госиспытаний, так как были получены в результате нарушения экипажем под руководством председателя госкомиссии инструкции по управлению ГА во время дополнительного погружения 15 сентября 1985 г., не предусмотренного программой госиспытаний.
Не зачтение ранее выполненного глубоководного погружения опытного ГА “АС– 7” на 6000м неправомерно, поскольку все замечания госкомиссии по нему были устранены и проверены на дополнительном погружении 15 сентября 1985 г., кроме манипуляторного устройства, проверка которого была сорвана происшедшей аварией.
В связи с вышеизложенным перерыв госиспытаний не правомерен. Опытный ГА АС-7 должен быть принят флотом в совместную с промышленностью опытную эксплуатацию с проведением необходимых ремонтно-восстановительных работ и последующим испытанием по корректированной программе опытной эксплуатации ”.
Дополнительно председатель госкомиссии составил “Протокол рассмотрения предложений комиссии Государственной приемки по улучшению боевых и эксплуатационных качеств опытного автономного глубоководного аппарата АС-7 проекта 1906” и выслал его в январе 1986 г. старшему уполномоченному ВП 208 МО Э.Е.Николаеву для дшшнейшего оформления в Ленинграде у директора завода В.Л.Александрова и начальника бюро Г.Н.Чернышева.
Протокол содержал более 30 позиций, предварительно согласованных с ответственным сдатчиком и заместителем главного конструктора проекта, предлагавших выполнить проработки:
– по замене части комплектующего радиоэлектронного оборудования на более совершенное, разрабатываемое промышленностью;
– по замене материала легкого корпуса и цистерн плавучести;
– по более надежной конструкции узлов отвода тока от аккумуляторных элементов и размещению последних в контейнерах, заполненных диэлектрической жидкостью;
– по автоматической записи текущих значений дифферента, разворота колонок, лопастей винтов, расхода маневренных средств (дробь, бензин) на регистрирующую аппаратуру.
Кроме того, предлагалось принятие для эксплуатации на АС-7 целого ряда образцов радиоэлектронного вооружения и замена всех макетных и опытных образцов радиоэлектронного вооружения с истекшими сроками службы на серийные после организации их производства.
В начале февраля 1986 г. этот протокол был рассмотрен ВЛ.Александровым и Г.Н.Чернышевым и возвращен председателю госкомиссии с уведомлением, что он будет согласован промышленностью одновременно с подписанием приемного акта “Поиска-6”.
В середине марта было принято решение Минсудпрома и ВМФ “О порядке и сроках завершения государственных испытаний опытного глубоководного аппарата “Поиск-6”. Этим решением разрешалась корректировка договорной спецификации ГА по результатам, полученным на государственных испытаниях. Предписывалось выявить причины расслоения стеклопластиковых конструкций легкого корпуса и выдать рекомендации по их устранению, выполнить проработки по предложениям госкомиссии и принять по ним технические решения, завершить ремонтно-восстановительные работы по ГА во II квартале 1986 г., продолжить государственные испытания в июле и в III квартале закончить их контрольным выходом на рабочую глубину погружения и ревизией механизмов и оборудования.
Тем временем в Ленинграде на заводе и в бюро кипела работа по привлечению контрагентов к ремонту легкого корпуса и поврежденного комплектующего оборудования. Их контролировал главный инженер завода М.Б.Филимонов на еженедельных диспетчерских совещаниях.
Специалисты ЦНИИ ТС и завода “Пелла” в I квартале провели на батискафе ревизию легкого корпуса и разработали новую технологию ремонтно-восстановительных работ. Корпусники бюро С.Д.Павлов и Б.С.Шкляревский в марте разработали ремонтные эскизы, однако “Пелла” до мая так и не смогла командировать своих специалистов для ремонта корпуса, поскольку завод-строитель еще не доставил в Петропавловск необходимые материалы.
Бюро-проектант в I квартале откорректировало спецификацию и выполнило предписанные ему проработки по рекомендациям государственной комиссии, согласовало их результаты с наблюдением института № 40 ВМФ и привлекаемыми контрагентами, однако понудить последних к выполнению работ до мая так и не удалось.
Завод-строитель не смог укомплектовать полученные аккумуляторные элементы необходимыми резинотехническими деталями – их ему не поставили!
В начале мая Совет директоров под председательством директора завода– строителя рассмотрел ход подготовки “Поиска-6” к завершающему этапу государственных испытаний и обязал должников форсировать выполнение порученных работ. Однако к концу июня ремонт легкого корпуса еще не был начат, аккумуляторные батареи не укомплектованы новыми элементами, антенна гидролокатора кругового обзора не поставлена. Только в июле удалось отправить в Петропавловск-Камчатский спецрейсом самолет с материалами для ремонта легкого корпуса и антенной гидролокатора, и на АС-7 силами специалистов завода “Пелла” начались ремонтно-восстановительные работы по легкому корпусу. Только к началу сентября удалось завершить ремонт корпуса и приступить к его прочностным испытаниям, которые выявили значительное количество брака, полученного в результате невозможности соблюдения в условиях ТПД-43 температурного и влажностного режимов при формовке стеклопластика.
Решением коллегии Минсудпрома от 14 августа были установлены новые сроки: окончание ремонта легкого корпуса в августе, окончание госиспытаний 10 октября и подписание приемного акта 30 октября 1986 г.
В августе выяснилось отсутствие во Владивостоке запасов бензина “рафинат-риформинга”.
В начале сентября на заводе-строителе состоялась встреча председателя постоянно действующей комиссии Государственной приемки кораблей ВМФ В.С.Круглякова и начальника 1-го Главного управления Минсудпрома В.Н.Вершинина, на которой рассматривался ход подготовки АС-7 к завершающему этапу госиспытаний. Кругляков согласился на предъявление батискафа к госиспытаниям в конце сентября с проведением на этих испытаниях двух погружений – контрольного и глубоководного. Он обещал содействие в выделении морской авиацией транспортного самолета для доставки в Петропавловск– Камчатский элементов аккумуляторных батарей и дал шифровку на Тихоокеанский флот о срочной доставке на Камчатскую флотилию необходимого количества бензина и выделении СС “Г.Козьмин” для подготовки к испытаниям.
Тем временем в Петропавловске– Камчатском закончили воздушные испытания цистерн на прочность, проверили их стенки и ультразвуком на расслоение. 22 сентября самолетом были доставлены аккумуляторы и все необходимое для завершения подготовки АС-7 к государственным испытаниям. Этим же самолетом прибыло пополнение сдаточной команды вместе с ответственным сдатчиком С.И. Васильевым.
В первых числах октября прибыло и пополнение испытательной партии – конструкторы из бюро и ответственные сдатчики контрагентского оборудования. Заводская сдаточная команда форсировала работы по устранению дефектов ремонта легкого корпуса, выносу забортных светильников за наружный борт, стопорению якорей в клюзах, установке сигнализаторов ссыпки дроби из контейнеров, установке плоского датчика относительного лага и комплектованию кормового контейнера аккумуляторных батарей.
Во Владивостоке так и не нашелся пропавший бензин. Оставшиеся 34 т погрузили на “Аламбай”, и он вышел в Петропавловск с ожидаемым прибытием в середине октября. Таким образом, вместе со 171 т бензина, имевшегося в Петропавловске, можно было рассчитывать, с учетом “мертвых” объемов танкера, только на 185 т бензина для батискафа. Расчет показал, что этого количества (больше в текущем году не предвиделось) может хватить на глубоководное погружение, но только с двумя зависаниями (вместо пяти) на 2000 и 4000 м, а это было отступлением от утвержденной программы, которое нужно было согласовать с В.С.Кругляковым.
Из-за отсутствия необходимых площадей в аккумуляторной мастерской ТПД-43 было принято решение носовой контейнер батарей ремонтировать, а кормовой – заново комплектовать новыми аккумуляторными элементами. Только так можно было успеть подготовить АС-7 к выходу из дока до прибытия в Петропавловск танкера с бензином.
8 октября на Камчатскую флотилию пришла шифровка, в которой предлагалось проработать и дать свои предложения по возможности участия “Поиска-6” в обследовании затонувшей 3 октября на глубине 5500 м в Северной Атлантике советской атомной подводной лодки К– 219 проекта 667А с баллистическими ракетами на борту. После консультаций с представителями завода-строителя и бюро-проектанта командование Отдельного дивизиона аварийно-спасательной службы Камчатской флотилии сообщило в Управление поисково-спасательной службы ВМФ о возможности участия ГА, для чего необходимо было выделение лихтеровоза “Стахановец Котов”, спасательного судна “Г.Козьмин” и танкера “Аламбай” для транспортировки и обеспечения АС-7 в Атлантике. Дальнейших команд по переходу в Атлантику не последовало. Видимо, флот мог обойтись и без нашего участия – ведь у гидрографов на Тихоокеанском флоте были необитаемые технические средства допоиска и фотографирования затонувших объектов на глубинах до 6000 м, требующие меньших затрат при транспортировке. Однако, по сообщению А.В.Павлова, вернувшегося из срочной командировки в Москву, работы в районе гибели лодки еще не были обеспечены средствами допоиска и обследования.
Американцы постоянно вели авиационную разведку района гибели подводной лодки. Министр обороны настаивал на участии батискафа в операции, однако главнокомандующий ВМФ В.Н.Чернавин не решался снимать батискаф с госиспытаний. Если бы в том районе стали проявлять активность американские корабли, то не минула бы нас транспортировка в Атлантику на допоиск и обследование затонувшей лодки, а пока ее останки сторожило гидрографическое судно Северного флота.
К ноябрьским праздникам на АС-7, стоящем в доке, были закончены все предписанные работы по замечаниям председателя госкомиссии. Из-за плохих погодных условий гидравлические испытания цистерн легкого корпуса на прочность было решено проводить в доке. Все они выдержали испытания, за исключением кормовой цистерны маневрового бензина. Пришлось снова вызывать специалистов завода “Пелла” и их военпреда для исправления брака и повторной приемки. Только к 21 ноября удалось разделаться с ремонтом, но оказался не подтвержденным в текущем году допуск экипажа к самостоятельному управлению батискафом.
Таким образом, до выхода на контрольное погружение необходимо было, выйдя из дока, принять бензин с “Аламбая”, который пришел только 10 ноября, заправиться дробью у “Козьмина”, провести ежегодную тарировку лагов, а экипажу – сдать “задачи № 1 и № 2”.
В это время в Москве представители завода-строителя Н.Н.Чумичев и В.М.Зайцев прилагали героические усилия, чтобы оформить директиву председателю госкомиссии и командующему Камчатской флотилии приступить к последнему этапу госиспытаний АС-7 и согласовать подготовленное совместное решение по его опытной эксплуатации. Однако заместитель главкома, учитывая сложные гидрометеорологические условия Камчатки, в конце ноября согласился с предложением Госприемки и ПСС ВМФ перенести завершение госиспытаний на следующий год, о чем в марте 1987 г. было оформлено совместное с промышленностью решение.
Этим решением были предусмотрены предъявление батискафа госкомиссии 15 июня и проведение последнего этапа госиспытаний с выполнением контрольного погружения в июле. После завершения последнего этапа госиспытаний и оформления приемного акта АС-7 следовало передать в совместную с промышленностью опытную эксплуатацию.
Так безрезультатно закончились попытки флота и промышленности завершить госиспытания “Поиска-6” в 1986 г. Основными причинами срыва сроков были затянувшийся ремонт легкого корпуса, разбитого в 1985 г. при контрольном погружении, и неготовность Камчатской флотилии в обеспечении подготовки к госиспытаниям.
Затяжка ремонта была связана с большой удаленностью Петропавловска-Камчатского от Ленинграда (отсюда большие сложности с доставкой необходимых материалов и специалистов) и малым вниманием руководства 1-го Главного Управления Минсудпрома, завода-строителя и бюро-проектанта к нуждам сдаточной команды и испытательной партии АС-7.
Неготовность флотилии проявилась в затяжке с доставкой бензина в Петропавловск-Камчатский, в плохой организации подготовки экипажа к самостоятельному управлению ГА, в несвоевременном выделении необходимых плавсредств для подготовки к госиспытаниям.
Работы по подготовке к последнему этапу госиспытаний возобновились в Петропавловске-Камчатском только с мая 1987 г.
Сдаточная команда и экипаж АС-7 в течение зимы проводили регламентные работы, а с прибытием в конце мая ответственных сдатчиков комплектующего оборудования приступили к проверочным работам. Еще раз проверялись и сдавались военной приемке все системы и устройства.
В первых числах июня “Поиск-6” был выведен из дока, заправлен бензином и дробью, произведена контрольная вывеска, при этом получена офицательная плавучесть около 3 т с нулевым дифферентом. Выход на контрольное погружение и прием задач у экипажа по самостоятельному погружению был назначен на 9 июня. На выходе должны были проверяться замененный плоский датчик относительной скорости, отремонтированная антенна гидролокатора кругового обзора и манипуляторное устройство.