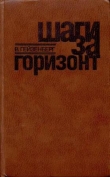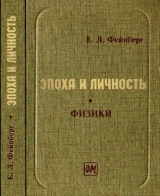
Текст книги "Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания"
Автор книги: Евгений Фейнберг
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
Первым на открытие Леонтовича и Мандельштама обратил внимание Г. А. Гамов (тогда советский, затем американский физик) и очень изящно применил его для объяснения радиоактивного распада ядер атомов – явления, открытого еще в конце XIX века, но совершенно непонятного в классической физике. Хотя, как было хорошо известно в среде физиков,[11]11
Тамм рассказывал, что Гамов сам ему говорил, что исходил из работы Леонтовича и Мандельштама [4, с. 134].
[Закрыть] он предварительно узнал работу Леонтовича и Мандельштама, опирался на установленные в ней свойства туннельного эффекта, он, к сожалению, не сослался на нее, и среди физиков всего мира до сих пор преобладает мнение, что автором «туннельного эффекта» является Гамов. Мандельштам же никогда не вступал в приоритетные споры. Некоторые думают, что ему не хватало нужного все же ученому честолюбия. Я, однако, полагаю, что он считал такие споры унизительными (такие люди, как он, считают: если ты, действительно, стоишь чего-либо как ученый, то всего сделанного тобою не присвоят; лучше, чем препираться, сделай еще одну хорошую работу).
Это был далеко не единственный случай. Так, когда труднейший эксперимент по поиску эффекта Мандельштама-Бриллюэна был, наконец, начат, Л. И. и Ландсберг не были удовлетворены его ходом. Имевшийся у них спектрометр был недостаточно хорош и хотя наблюдавшееся уширении линии в спектре и было явным указанием на искомое явление, им хотелось лучшего. Более совершенный прибор имелся в Государственном оптическом институте в Ленинграде. Они обратились к его директору, выдающемуся ученому, с которым были отличные отношения, основанные на взаимном уважении, Д. С. Рождественскому, с просьбой поручить кому-либо из его молодых сотрудников повторить измерения на этом лучшем приборе. Это и было сделано в 1930–1932 гг. Е. Ф. Гроссом, изучавшим явление детально. В процессе параллельной работы в Москве и Ленинграде шел интенсивный обмен письмами, Л. И. бывал в Ленинграде. Считалось, что речь идет об общей работе, будут опубликованы две статьи – одна Ландсберга и Мандельштама, другая Гросса. Но когда в конце концов Л. И. и Ландсберг послали ему рукопись своей статьи, Гросс удивил их, ответив, что его собственная статья, охватывающая все необходимые вопросы, уже печатается. Таким образом, публикация статьи москвичей оказалась излишней.
Видимо, по какому-то из таких случаев, отвечая на уговоры заявить протест, Л. И. произнес фразу, приводимую в воспоминаниях С. М. Райского [2, с. 216]: «Взрослого человека не воспитывают. С ним либо имеют дело, либо не имеют. С N дела иметь не следует».
На самом деле «хорошее» честолюбие у Л. И. могло быть. Но выше этого было чувство собственного достоинства, не позволявшее ему, когда речь идет о науке, о постижении истины, примешивать сюда унижающую «борьбу за приоритет», даже если он переживает внутри себя совершенную несправедливость. Так же вел себя И. Е. Тамм, и к тому же стремились едва ли не все физики Мандельштамовской школы (в том числе, – хотя, увы, и гораздо реже, – последующих поколений).
Эти случаи несправедливого забвения имени Мандельштама кажутся какой-то закономерностью. Еще более значительный эпизод имел место в связи с очень крупным открытием Мандельштама и Ландсберга, упоминавшимся уже комбинационном рассеянии света. Как уже говорилось, Нобелевскую премию за него они не получили, ею наградили индийского физика Рамана, неправильно его истолковавшего, но опередившего их с публикацией статьи, пока наши физики доводили свои эксперименты и теоретическое понимание до совершенного блеска.
Дело в том, что в процессе длительных экспериментов по рассеянию света и явлению Мандельштама-Бриллюэна было проведено много разных вариантов опытов. В ходе этой работы было обнаружено, что помимо рассеяния Мандельштама-Бриллюэна, происходящего благодаря взаимодействию света с упругими акустическими волнами в кристалле в целом, существует рассеяние света более высоких частот, в которых играет роль структура отдельных молекул тела. Здесь тоже появляются новые спектральные линии, частота которых зависит от внутримолекулярных колебаний, а не только от частоты рассеиваемого света. Поэтому его назвали комбинационным рассеянием. Авторы ясно понимали значение этого открытия, приводящего, в частности, к множеству практических применений, так как, изучая новые линии, можно многое узнать о природе и структуре рассеивающих молекул.
Но поймать эти новые линии тогда было очень трудно, интенсивность их слишком мала. При тогдашней технике фотографировать спектр иногда приходилось с экспозицией в десятки часов. Теперь благодаря фотоэлектрической регистрации и лазерам положение неизмеримо облегчается.
Наконец, в начале 1928 г. Л. И. и Ландсберг получили снимки, качество которых их вполне удовлетворяло.[12]12
История этих экспериментов и открытия исключительно тщательно изучена, прослежена в статьях И. Л. Фабелинского [7]. В частности, он воспроизводит фотопластинку со спектром, в котором четко проступили линии комбинационного рассеяния. На ней рукой Ландсберга написана дата: 23-24 февраля 1928 г. Это раньше устного сообщения Рамана во время его выступления в Индийском физическом обществе (опубликованного, конечно, много позже) и много раньше появления в печати публикации Рамана, направленной в журнал 8 марта 1928 г. Наши же физики послали первую статью в печать позже, 6 мая. Можно думать, что у них были и более ранние успешные наблюдения, чем 23-24 февраля.
[Закрыть] Это было достигнуто в трудных условиях, при недостатке порой самых необходимых материалов. Так, нужную кварцевую трубку, как и многие другие вспомогательные материалы, Ландсберг привез из заграничной научной командировки, покупая все на свои сэкономленные деньги. Высококачественные кристаллы кварца, рассеяние в котором изучалось, раздобывали в комиссионных магазинах, покупая кварцевые печати, применявшиеся до революции для запечатывания писем сургучом.
Однако уже надежно обнаружив новое явление в феврале, в соответствии с их обычным стилем поведения, описанным выше, наши физики не спешили с публикацией, как об этом уже было рассказано. И первый публичный доклад Ландсберг сделал в Институте физики Наркомздрава (там был значительны оптический отдел) 27 апреля, а статью в журнал послали 6 мая, как уже говорилось, построив теорию явления и убедившись, что теория согласуется с их экспериментами. Ко времени выхода их статьи из печати (9 июля) многие физики уже оценили значение этого открытия по сообщению Рамана; было опубликовано 16 статей разных авторов, они уже называли открытое явление эффектом Рамана, да и сами наши авторы со свойственным им чувством порядочности упомянули в первой же статье, что Раман (и его ученик и сотрудник Кришнан) опубликовали в «Nature» работу, «описывающую наблюдение того же эффекта», а во второй статье «авторы отсылают к работе Рамана и Кришнан, которая была им известна до того, как их сообщение было послано в печать» [8]. Уже создалось общественное мнение о первенстве индийского физика. Только специальное исследование могло бы восстановить историю в деталях. Кто же стал бы этим заниматься? Опоздали…
Но на самом деле была и еще одна причина задержки. О ней нельзя не сказать.
Клан Мандельштамов состоял, помимо жены и сына, также из близких им всем сестры Л. И., племянника (физик М. А. Исакович), двух племянниц, мужа одной из них (ученика Г. С. Ландсберга) С. М. Райского и семьи Гурвичей. Не будучи близок с самим Л. И., я после его смерти стал дружен с этим его окружением. Не помню кто из них (скорее всего это был С. М. Райский) рассказал мне о показательном эпизоде, имевшем место в конце исследования.
Однажды Л. И. пришел домой из лаборатории Ландсберга, держа в руках еще не просохшую после проявления фотопластинку, и сказал жене со смущенной улыбкой: «Подумай только, Мизя (внутрисемейное имя Лидии Соломоновны. – Е. Ф.), вот за такие вещи дают Нобелевские премии». Л. С. возмутилась: «Как ты можешь говорить о таких вещах, когда дядя Лева сидит и уже перестали принимать передачу!»
Л. И. еще более смутился и началось обсуждение того, что можно сделать для «дяди Левы» – Л. И. Гуревича, близкого родственника А. Г. Гурвича, уже приговоренного к смертной казни. Это был только 1928 г. и в то время еще можно было как-то хлопотать о смягчении участи человека. Очень скоро это стало совершенно запретным. Но в той ситуации Л. И. и А. Г. Гурвич решились пойти к тогдашнему ректору МГУ А. Я. Вышинскому. Он еще не был генеральным прокурором на кровавых процессах 30-х годов (но скорее всего уже был связан с «органами»). Как это теперь, после всего, что мы о нем знаем, ни покажется невероятным, Вышинский взялся попробовать помочь. В результате смертная казнь была заменена «дяде Леве» простой ссылкой в Вятку (ныне Киров)![13]13
Эти подробности сообщила мне дочь А. Г. Гурвича, Наталия Александровна Белоусова-Гурвич. Я очень благодарен ей за них.
[Закрыть] Это дает ясное представление о том, как уже тогда, в еще «мягкое» нэповское время, творилось «правосудие» в «органах». Казалось бы, отъявленный преступник и враг советской власти осуждается к высшей мере наказания. Однако оказывается, что без вреда для государства ее можно было заменить мирной ссылкой.
Но что же все-таки с Нобелевской премией? Сделав свое открытие, Ландсберг и Мандельштам, разумеется, не делали из него секрета. Летом того же 1928 г. состоялся 6-й съезд советских физиков, на который было приглашено много зарубежных ученых, в том числе самых именитых (Дирак, Дарвин, Борн, Паули, Дебай, Пайерлс и другие). Заседания происходили сначала в Москве, а потом на теплоходе, следовавшем по Волге, и в нескольких городах по пути следования. На нем Ландсберг сделал доклад об этой работе, произведший большое впечатление (в своих корреспонденциях об этой конференции Дарвин (в английском журнале «Nature») и Борн (в немецком «Naturwissenschaften») особо выделяли этот доклад, употребляя для характеристики работы самые высокие эпитеты [7]).
Таким образом, об открытии московских физиков мировая научная общественность узнала очень скоро (хотя и после публикаций Рамана).
В 1930 г. Раману была присуждена Нобелевская премия. Почему же ему одному? Эта несправедливость была воспринята у нас болезненно. Появилось множество версий: антисоветская настроенность Нобелевского комитета и т. п. Вопрос разъяснился через 50 лет, когда, в соответствии с уставом Нобелевского комитета, были опубликованы все относящиеся к делу материалы, до того хранившиеся в секрете.[14]14
Надо пояснить технику присуждения этой премии. За год до даты присуждения (в нашем случае для ближайшего возможного присуждения в конце 1929 г. это означало – в 1928 г.) Комитет рассылает наиболее известным ученым (по своему выбору) предложение выдвинуть кандидатов («номинантов») и в конце следующего года выносит окончательное решение.
[Закрыть] Оказалось, что в 1928 г. наши двое физиков не были выдвинуты никем, а Раман – Нильсом Бором и еще одним физиком. Премию 1929 г. присудили (вполне справедливо) Луи де Бройлю, автору идеи волновых свойств электрона, лежащей в основе шредингеровской квантовой механики. В 1929 г. Рамана назвали не только снова Бор, но и Резерфорд и другие, всего 10 (!) авторитетных физиков. А Ландсберга и Мандельштама (и Рамана!) – О. Д. Хвольсон, наш старейший замечательный физик, почетный академик, автор 5-томного курса физики, переиздававшегося на нескольких языках, в свои 76 лет сумевший понять новую физику (он написал затем о ней прекрасную полупопулярную книгу) и оценить открытие, о котором идет речь, и еще лишь Н. Д. Папалекси, он выдвинул почему-то одного Мандельштама. А несколько других наших видных физиков не выдвинули ни одного из них, но назвали совсем другие имена [7]. Комитет, исходя, видимо, лишь из различия дат посылки рукописей в журнал (8 марта у Рамана и 6 мая у Ландсберга и Мандельштама), решил вопрос просто. Но, конечно, на его решение влияла и разница в числе и в международной значимости имен тех, кто представлял номинантов.
Чего же еще можно было ожидать при таком различии? Но само это различие нелегко понять. Ведь все, представлявшие Рамана, уже знали о «блистательной» работе хотя бы из доклада Ландсберга летом 1928 г. Почему другие наши физики молчали и скромничали в представлении кандидатов (каждый запрашиваемый имеет право назвать несколько работ)?
На первый вопрос ответить просто: нужна была «организаторская работа» среди запрашиваемых комитетом ученых. Увы, мы знаем, что этим интенсивно занимаются некоторые номинанты и теперь. Об этом мне рассказывали и мои западные друзья. Интеллигентнейший (ныне покойный) замечательный итальянский физик Джузеппе Оккиалини сам «выпал» из двух Нобелевских премий, присужденных за работы, в которых он был соавтором. Его резко упрекал за «пассивность» еще один такой же несчастливый участник. Оккиалини рассказывал мне, как «борются» за премию некоторые ученые. Сам он на это был совершенно неспособен по своему характеру и не горевал. И дико было бы ожидать такой «активности» от наших двух московских физиков, с их порядочностью, интеллигентностью, чувством собственного достоинства (разумеется, я ни в коем случае не распространяю рассказанное на всех нобелевских лауреатов, но 10 рекомендаций за Рамана, одна-две за Ландсберга и Мандельштама – слишком уж нелепая, кричащая разница).
А дело прежде всего в том, что Раман не медлил с публикацией своих статей, даже первых трех, в которых совершенно неправильно понимал физическую сущность явления, считая его аналогом комптон-эффекта. Он не мог ждать, пока эти статьи появятся в печати. Так, сообщив о своем наблюдении на заседании Индийского физического общества 16 марта, он на другой же день печатает тысячи экземпляров этого доклада и рассылает их по всему миру. Когда же выходит из печати номер индийского журнала с этим докладом, получает 2000 оттисков и снова посылает их всем сколько-нибудь значительным физикам в разные страны [8]. Он и до этого состоял в переписке с Бором, Резерфордом и другими влиятельными людьми. А 6 декабря 1929 г. он пишет Бору письмо, в котором прямо просит выдвинуть его на Нобелевскую премию [8]. Установлена его связь и с членом Нобелевского комитета Зигбаном [8] и т. д.
Вообще, если Фабелинский опирался на то, чему он сам был свидетель, то авторы важной статьи [8] подробно разбирают западные статьи и открывшиеся через 50-70 лет разнообразные архивные фонды. Они явно видят несправедливость того, что премия присуждена одному Раману. «Он знал, как надо бороться за приоритет», – заключают они.
Труднее объяснить молчание наших физиков, многие из которых могли выставить кандидатами на премию Ландсберга и Мандельштама, но не сделали этого. Вероятно в нашей молодой тогда физике, несмотря на все имеющиеся достижения (а они были), сильно еще было ощущение нашей отсталости, некоторый комплекс неполноценности, из-за которого они недооценили значение этого открытия.
Но сверх всего ведь было простое запаздывание с публикацией в печати, и оно было решающим. Повторим уже сказанное. У зрелого Л. И. было особенно сильно стремление не просто «дойти до самой сути», но достигнуть непреодолимой уверенности в своей правоте. Отсюда откладывание публикации до достижения полной ясности. Отсюда же многократное выписывание фрагментов предстоящей лекции, о котором говорилось в самом начале этого очерка. Как я уже говорил, это, смею думать, можно считать отдаленным следствием допущенных в молодости ошибок и странной самоуверенной развязности в тоне его полемики с Рэлеем, Планком и Брэггами. На человека с такой чувствительной, уязвимой нервной системой, которая была характерна для Л. И. (хотя знали об этом только самые близкие люди; другим он в московские годы неизменно казался спокойным и уверенным в себе), осознание этого своего поведения в молодости должно было значить очень много.
А ко всему этому присоединялись внешние, общественные условия существования того времени, – от нехватки аппаратуры до волнений, забот о «дяде Леве». У Рамана не было таких проблем и он не медлил в своем безудержном стремлении к Нобелевской премии. Совсем другая личность. Не российский интеллигент.
* * *
После открытия комбинационного рассеяния для Мандельштама и его школы, неудержимо расширявшейся за счет все возрастающей тяги к нему, как оказалось, весьма обширных кругов талантливой молодежи, наступили на первый взгляд счастливые времена. По всем направлениям физики, которые его интересовали, работа развивалась, и каждое из этих направлений можно было передавать кому-либо из блестящих учеников. К тому же в 1930 г., как уже говорилось, директором НИИФ и деканом физфака стал заботившийся о Леониде Исааковиче Б. М. Гессен. Его поддержку было не стыдно принимать. Я слушал его лекции по философии естествознания, учась в МГУ, в начале 30-х годов. Они выделялись высоким уровнем и определенностью мысли. Лекции тупых штатных диаматчиков не шли с ними ни в какое сравнение.
Но этот же период характеризуется все возрастающим единовластием Сталина, нарастанием террора и идеологического давления. Именно с 1930 г. Сталина стали называть не иначе как великим вождем всех трудящихся, гениальным, мудрым и т. п. Атмосфера накалялась, и убийство Кирова 1 декабря 1934 г. стало сигналом для начала «большого террора», перед которым меркло все, само себе достаточно ужасное, что было ранее. Чуть ли не в тот же день были приняты изменения в уголовно-процессуальном кодексе, которые невозможно ни забыть, ни недооценить. По делам о террористических организациях, под которые подводился едва ли не любой арест, ныне предписывалось: следствие заканчивать в кратчайший срок в несколько дней; дела разрешалось слушать в отсутствие обвиняемых (такое бывало в России до судебной реформы Александра II); не допускать обжалования или просьбы о помиловании. Приговор о казни приводить в исполнение немедленно. И пошли в газетах списки сотен осужденных и расстрелянных. А сколько было казнено без сообщения о том!
Как было принято в те времена, когда в 1936 г. был арестован Гессен, в университете пошли собрания, на которых сотрудники, в особенности те, кто были близки к нему, должны были каяться в своей потере бдительности (не распознали врага!) и придумывать нелепые «факты» его вредительской деятельности. Мало кто мог сохранить в этой атмосфере страха свое человеческое достоинство (как это сумел сделать, например, Г. С. Ландсберг, см. ниже, с. 242). Мандельштаму, едва ли не единственному, кто не посещал эти шабаши (во всяком случае, я просто не помню его на них; он вообще не любил собраний и заседаний, но здесь, конечно, был особый случай), это видимо, прощалось: слишком велико было уважение к нему, вдохнувшему новую жизнь в ранее хиревшую университетскую науку.
Наступила страшная эпоха. Пошли и другие аресты. Так, исчезли два молодых очень талантливых ученика Л. И. С. П. Шубин (который был также учеником и И. Е. Тамма) и А. А. Витт, который в соавторстве с А. А. Андроновым и С. Э. Хайкиным только что закончил фундаментальный труд, подводящий итог совместным с Л. И. работам по теории колебаний, особенно нелинейных, для которых были развиты новые методы рассмотрения необъятного круга практически важных проблем. В частности, Андроновым было введено понятие «автоколебаний» и т. п. Это был новый прорыв в важнейшем направлении физики. Отсюда и пошла школа Андронова, созданная в Москве и Горьком. Но книгу нельзя было издать с именем «врага народа» Витта на обложке. Однако не издать ее было бы преступлением перед наукой. Пришлось пойти на тяжелую моральную жертву: оставить на ней лишь имена Андронова и Хайкина. Если эти высоконравственные люди и Л. И. пошли на такой шаг (несомненно, для них это была жертва), то это свидетельство того, как эта книга была нужна! После войны она была переведена и издана в США (мне кажется, без ведома авторов), а после смерти Сталина (к тому времени скончался и Андронов) переиздана у нас с восстановленным именем Витта (более чем через 20 лет после первого издания, что само по себе показывает – это классический труд, сохранивший свое значение на долгие времена). Тоже характерный эпизод из истории и нашей эпохи, и школы Мандельштама.
Несмотря ни на что, даже «с петлей на шее» школа Мандельштама развивалась и работала.
* * *
Никто, однако, не может сказать, как долго они могли бы выдержать все это, если бы неожиданно не произошло важное событие, – в Москве возник новый научный центр по физике, оказавшийся оазисом, спасительной опорой для московской физики.
Дело в том, что в 1934 г. по решению правительства Академия наук и многие ее научные учреждения, со времен Петра I располагавшиеся в Петербурге-Петрограде-Ленинграде, были переведены в столицу, в Москву. В числе переехавших был выделившийся из Физико-математического института маленький Физический институт Академии наук – ФИАН (человек 20 научных сотрудников и аспирантов), которым уже в течение двух лет руководил молодой академик Сергей Иванович Вавилов. Он сразу привлек в институт лучших московских физиков, прежде всего Мандельштама, его основных сотрудников, его школу (но, конечно, не только их). Они продолжали оставаться сотрудниками университета, но стали также руководителями и сотрудниками основных лабораторий нового института (см. ниже очерк «Вавилов и вавиловский ФИАН»). Возник институт (его состав сразу вырос раз в 10), где господствовала атмосфера преданности науке, порядочности, интеллигентности, доброжелательности, взаимопомощи и сотрудничества.
Я не случайно сказал, что эта атмосфера «господствовала». В реальной тогдашней нашей стране нельзя было вполне избежать давления зла, характеризующего ее жизнь. Но умнейший организатор С. И. Вавилов не только, когда нужно было, принимал удар на себя. В качестве более молодого, необходимого тогда и в таком институте, «помогающего» ему «руководящего» партийного звена он подобрал группу, в которую входило, в частности, несколько (три-четыре) яростных сторонников режима. Но особенность и этих людей была в том, что они действительно любили науку, были в некоторых случаях талантливыми физиками и уже поэтому не могли не уважать Мандельштама, Ландсберга, Тамма и других как ученых. Поэтому их ярость не могла полностью испортить общий стиль даже в самых тяжелых ситуациях, когда они (как это было в университете, да и всюду) в эпоху «большого террора» нападали с опасными в то время обвинениями на этих же своих научных учителей. Это оставляло для Вавилова возможность смягчать все удары, не допустить создания в институте атмосферы травли, которой эти ученые подвергались в МГУ, где, естественно, к руководству факультетом пришли те самые люди, которые боролись в свое время против приглашения Мандельштама в университет, и их ученики.
Очень скоро все «мандельштамовцы» перенесли свою основную научную работу в ФИАН (например, туда же перевел свой еженедельный семинар Тамм; Мандельштам вместе с Папалекси, именно опираясь на ФИАН, развили широко поставленные исследования по новому для них направлению, по радиогеодезии, изучению распространения радиоволн над Землей, по новым методам радиолокации и т. п.). В университете же они ограничивались почти исключительно чтением лекций.
Здесь нужно особо остановиться на чтении лекций Мандельштамом.
* * *
Пожалуй, лишь курс лекций по теории поля, прочитанный в самом начале работы в университете (1926–1927 гг.), можно еще отнести, в основном, к обычным университетским курсам лекций (но и здесь это были лекции, несущие печать индивидуальности Л. И.). Вся остальная его лекционная и семинарская деятельность на протяжении 20 лет (1925–1944 гг.) была совершенно необычной. Это не были занятия, по которым нужно было сдавать экзамены, они не соответствовали обычному для высших учебных заведений набору «курсов». Просто Мандельштам выбирал отдельные вопросы, области физики, по его мнению актуальные, содержащие неясности или недостаточно глубоко освещенные в литературе, имеющие большое значение для физического понимания всей этой науки. Часто это был срез науки «по горизонтали». Так, наиболее обширный курс, «Лекции по колебаниям» (1930–1932 гг.), охватывает теоретическое рассмотрение общих и специфических свойств колебаний в самых разных областях физики, в гидродинамике и электродинамике, в механике и оптике, даже в квантовой механике. Они составляют самый толстый IV том Собрания трудов. Но самое главное в характере лекций, часто включавших фрагменты, которые излагали результаты исследований самого Л. И. (без указания на это), – то, что педагогика в его лекциях была вообще неразрывно связана с научным исследованием. Прекрасная характеристика этим лекциям дана в [2; см. Предисловие]. Мы лучше просто процитируем ее.
«Лекции Л. И. были яркой и откровенной демонстрацией самого процесса физического мышления. В них видно было, как физик спотыкается о трудности, как на его пути накапливаются парадоксы и противоречия и как ему удается – иногда ценой умственного подвига, отказа от самых укоренившихся в человеческом мышлении привычек – высвободиться из противоречий и подняться на недоступную ранее высоту, откуда открываются новые горизонты. Ни одна деталь в лекциях Л. И. не была пресной, безжизненной, в каждом вопросе он умел находить и доводить до аудитории какую-то особую остроту и прелесть. Он не только принуждал посредством безупречной логики соглашаться со своими утверждениями, но и старался – и умел – найти общий язык со слушателями, убедить их «изнутри», устраняя те трудности, формируемые психологические протесты, которые так часто в физике мешают пониманию. Все это вместе взятое создавало какую-то необыкновенную эмоциональную насыщенность, благодаря которой все услышанное от Л. И. доходило до самых глубин сознания».
Когда Мандельштам на лекции анализирует научный вопрос, то сначала сомневается во всем, расшатывает привычное представление. Но отсюда возникает твердое знание. Вот хотя бы вопрос о гейзенберговском микроскопе, которым обосновывалось соотношение неопределенностей (том V, с. 396): « Я хотел бы сначала дать критику того, что обычно говорят по поводу микроскопа и что всегда меня шокировало … каждое слово в этом рассуждении, по-моему, ошибочно (хотя по существу все так и есть)», – пишет Мандельштам и затем не оставляет камня на камне от обычной аргументации. Мандельштам перечисляет по меньшей мере три вопиющие нелепости. Когда на них уже указано, то становится неловко, что сам их не заметил. Любой невежда, не обладающий гениальной интуицией Гейзенберга, увидев даже одну из них, имеет право заявить, что соотношение неопределенностей не обосновано или по крайней мере не может быть так обосновано. Но затем Мандельштам дает подлинное доказательство для того же микроскопа, и открывается нечто более существенное, и становится понятным почему он уверенно сказал, что «по существу все так и есть». Его уверенность всегда имела в основе продуманность собственного суждения.
Как физик, выросший вместе с теорией относительности и с квантовыми представлениями, он, казалось бы, имел больше оснований, чем люди последующих поколений, потерять голову от раскрывшегося чуда и мог бы превозносить науку XX века как нечто в корне отличное от всей предшествовавшей физики. Ведь и теперь, спустя полвека, нередко встречается мнение, что эта физика – совершенно особенная. Ссылаются на якобы возведенный (впервые) в принцип отказ от наглядности и т. п. Как весомо звучат поэтому и сейчас трезвые и точные слова Мандельштама: «… принципы построения квантовой теории или, если так можно выразиться, структура той рамы, которой квантовая теория обрамляется, те же, что и в любой другой физической теории. Но нельзя отрицать, что структура самой картины весьма отлична от классики, и утверждение, что мы здесь имеем дело с новым физическим мировоззрением, вряд ли можно считать преувеличением» (том V, с. 402). Это высказывание затем подробно аргументируется. Мандельштам выясняет, чтó значит «наглядность», и показывает, что подобный отказ от наглядности и смена мировоззрения имели место при каждом крупном переломе в физике, в частности при воцарении электромагнитной теории Максвелла.
Этот несколько старомодный, на взгляд моего поколения, мягкий человек говорил на многие десятилетия вперед.
На эти лекции, а также на семинары (на которых Л. И. всегда произносил вводную речь-лекцию) сходились, как уже говорилось, разные слушатели – от студентов до академиков, иногда приезжали из других городов. Ловили, многие конспектировали каждую мысль. Но тексты выступлений на некоторых семинарах утрачены безвозвратно.
Были и немногие другие лекции-доклады. Так, 28 апреля 1938 г. (заметим в скобках, не относящийся к делу многозначительный факт, – в день, когда в предшествовавшую ночь был арестован Ландау) на Общем собрании Академии наук Л. И. сделал доклад, казалось бы, на очень специальную тему – о радиоинтерферометрии, т. е. об измерении расстояния на Земле с помощью радиоволн (выше говорилось, что обширные исследования этой и близких проблем Л. И. вместе с Н. Д. Папалекси развернули в ФИАНе с помощью большой группы сотрудников). Ясно каждому, что это может быть важно для практика. Но как такой доклад может заинтересовать Общее собрание академиков, включавшее гуманитариев, химиков, биологов?[15]15
И. Е. Тамм рассказывал мне, как после одного его доклада на Общем собрании академик-гуманитарий сказал ему: «Из того, что Вы много раз упоминали какие-то бета-лучи, я заключаю, что существуют также и альфа-лучи, а может быть, и гамма-лучи».
[Закрыть] Однако по окончании доклада минералог академик А. Е. Ферсман подытожил впечатление от него одним словом: «Поэма!» (а потом послал Леониду Исааковичу краткое восторженное письмо [2]).
А 26 сентября 1943 г., тоже на Общем собрании Академии, по случаю 80-летия академика Алексея Николаевича Крылова – математика-механика, кораблестроителя, переводчика Ньютона с латыни, инженера, личности удивительной (с ним Л. И. особенно сдружился во время войны в двухлетней эвакуации большой группы слабых здоровьем и старых академиков в курорте Боровое в Казахстане), Л. И. делает доклад «О научных работах А. Н. Крылова» – совсем, казалось бы не по своей области науки. Но, как сказал о Мандельштаме А. А. Андронов [2]: «В громадном здании физической науки для него не было запертых комнат».
Удивительно ли, что филолог-китаист академик В. М. Алексеев, поздравляя его в 1944 г. по некоторому поводу, добавляет: «Я уже неоднократно имел удовольствие сообщать Вам мои ограниченные суждения о неограниченном моем восхищении всем тем, что было мне доступно из Ваших докладов и речей. Вы, по-видимому, принадлежите к числу редчайших ученых, которые исповедуют и проповедуют науку как ясную, а не громоздкую мысль и сложности ее считают обстоятельством, а не сущностью» [2]. Это сказано было с основанием. Алексеев слышал еще в Боровом доклады Л. И. «Оптические работы Ньютона» и о работах академика А. Н. Крылова.
А академик П. Л. Капица, когда его расспрашивали о разных ученых и дошли до Л. И., воскликнул, по словам Рытова: «О! это эстет!» [2].
Как особо важную черту его лекций, Андронов, Рытов и другие подчеркивают внимание к логической структуре той или иной теории. Андронов же вообще относит к основным чертам Л. И. как ученого «настороженное и последовательное внимание к вопросам теории познания». Его интересовало, «как возникают, развиваются и трансформируются физические понятия, как они связаны с объективной реальностью… Из его лекций и высказываний ясно, что он глубоко исследовал логическую структуру физических теорий» [2]. Поэтому у его сугубо физических лекций был и философский оттенок.
* * *
В это время физиками еще не была осознана важность того простого факта, что опыт неизбежно ограничен. Выводы из него поэтому не могут претендовать на неограниченную справедливость. Действительно, сколько бы не было повторений и варьирований эксперимента, дающих результаты, подтверждающие вывод, всегда наступает момент, когда исследователь должен сказать: «Довольно, теперь я убежден, что эти результаты выражают истинное свойство природы». Но это «я убежден» есть внелогический акт и поэтому не гарантирована его неограниченная, безусловная справедливость. В такой же мере это относится к выводам «коллективного исследователя», когда в науке на основании опытных данных признается справедливость какого-либо закона природы, аксиом математики и т. п. Каждая естественная, математическая наука строится как последовательное логическое построение на базе принятого описанным путем внелогического интуитивного суждения. Оно является синтетическим по своей природе, так как делается на основе учета разного рода знания, полузнания, оценок, догадок и т. п.