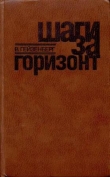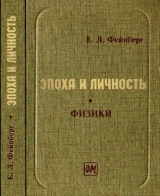
Текст книги "Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания"
Автор книги: Евгений Фейнберг
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
Гейзенберг и наука при нацизме
Многие эмигрировавшие из Германии физики (уехали главным образом подпавшие под действие расистских законов евреи, но отнюдь не только они, вспомним хотя бы нобелевских лауреатов Э. Шредингера, П. Дебая, М. Дельбрюка) считали, что те, кто остался в фашисткой Германии, уже одним этим выразили согласие на сотрудничество с Гитлером, на поддержку нацизма. Более того, они были убеждены, что все оставшиеся должны были в знак протеста против нацизма подать в отставку. Гейзенберг же объяснял свое нежелание эмигрировать надеждой на то, что хотя ему предстояло жить в тяжелых условиях, постоянно идти на компромиссы с режимом, он все же сможет оберегать немецкую науку, воспитывать научную молодежь, делать что возможно, чтобы наука не деградировала окончательно и возродилась после войны. Он говорил, что именно так его настроил разговор с М. Планком, авторитет которого был очень велик.
Макс фон Лауэ, знаменитый ученый, нобелевский лауреат (он умер в 1960 г.) тоже остался в Германии, тоже не подал в отставку. Он точно так же, как Гейзенберг, объяснял – почему, добавив в разговоре с Эйнштейном в 1939 г. [8]: «Я их так ненавижу, что должен быть поближе к ним». Он тоже участвовал в урановом проекте[110]110
Правда, его участие не было активным. Он был сначала заместителем директора Берлинского физического института, когда директором был Дебай, а затем, после его отъезда, – директором. Именно в этом институте базировалась группа уранового проекта, возглавлявшаяся Гейзенбергом.
[Закрыть] (в частности, присутствовал в апреле 1945 г. (!) при отчаянной попытке осуществить самоподдерживающуюся цепную реакцию в уране[111]111
Как ни странно, немецкие физики думали, что они опережают американцев и англичан, и считали, что если их попытка будет успешной, то после поражения Германии союзники будут испытывать уважение к немецкой науке и создадут условия для се развития. На самом деле такой опыт был успешно осуществлен под руководством Ферми в Чикаго еще в декабре 1942 г. (Но при всем невиданном размахе работ в США потребовалось еще 2 года 8 месяцев, чтобы создать атомные бомбы и сбросить их на Японию, так что даже успех последней попытки немцев не имел бы военного значения.) Удивительное свидетельство полного провала немецкой разведки в этой важнейшей сфере.
[Закрыть]). А между тем его имя вызывает всеобщее уважение. Когда в середине 30-х годов немецкий физик П. П. Эвальд перед возвращением из США в Германию посетил Эйнштейна и спросил, нет ли у него поручений к кому-либо, Эйнштейн ответил: «Передайте привет Лауэ». Эвальд спросил: «Может быть, кому-нибудь еще?» – и назвал несколько имен. Эйнштейн подумал и повторил: «Передайте привет Лауэ» [8].
Известно, что Лауэ спасал людей. Он занимал твердую позицию в науке, и его поведение в существовавших тогда условиях – пример для ученого. Он не преподавал в университете и потому не был обязан, как, например, Гейзенберг, начиная лекцию, выбрасывать вверх руку с возгласом «Хайль Гитлер!». Более того, рассказывают, что, выходя из дому, Лауэ обычно держал в одной руке портфель, а в другой – какой-нибудь сверток, чтобы иметь возможность не отвечать подобным образом на приветствия знакомых.
Он не шел на компромиссы, вместе с другими противодействовал нацистской травле теории относительности и квантовой механики. Так, он не поддался уговорам гамбургского профессора Ленца организовать публикацию статьи о теории относительности, чтобы «избавить ее от еврейского пятна, провозгласив автором теории француза Анри Пуанкаре и этим сделав ее приемлемой в Третьем рейхе» [8]. Не забудем также, что именно Лауэ связал Райхе с Хоутермансом, т. е. был инициатором передачи в США информации о состоянии уранового проекта в Германии.

В. К. Гейзенберг в 1934 г.
Вопрос «оставаться или уехать» был, по существу, не нов для ученых. Вероятно, впервые он встал в России в 1911 г., когда в знак протеста против действий крайне реакционного министра просвещения Кассо (введение полицейских сил в университет, массовые исключения революционно настроенных студентов и т.д.) 130 профессоров покинули Московский университет.
Среди них были выдающиеся ученые, в частности физик П. Н. Лебедев. Автор принципиально важных исследований (впервые измерил давление света и был выдвинут на Нобелевскую премию, но вскоре умер), в которых отразилось изумительное экспериментальное искусство, Лебедев создал первую современную школу физиков в России. Он щедро одарял идеями талантливых молодых людей, которые со студенческих лет работали у него, растил ученых не на «повторении пройденного», а на самостоятельных исследованиях. Знавшие Лебедева вспоминали, что он ночи не спал, мучительно думая, надо ли уходить из университета. Гражданские чувства, общественное мнение побудили уйти. Некоторое время он пытался продолжать работу с учениками в снятой на собранные средства квартире, но это было «не то». Больное сердце не выдержало, и менее чем через год, едва дожив до 46 лет, он скончался. В университете же после ухода Лебедева физика пришла в упадок. Обучать студентов стали профессора, далеко отставшие от современной науки. Положение изменилось лишь в середине 20-х годов.
Размышляя о последствиях, вызванных уходом Лебедева из университета, невольно задаешься вопросом: правильно ли он поступил? Вспомним, что академик И. П. Павлов, крайне враждебно отнесшийся к советской власти, не уехал за границу, а до конца жизни (1935 г.) продолжал работать в своей лаборатории. Приходят на память строки Ахматовой:
Нет, не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Поэтому вряд ли следует безоговорочно осуждать Гейзенберга просто за то, что он остался в Германии, как его осуждали американские, английские и другие западные ученые, особенно эмигрировавшие из Германии и Италии.
Гейзенберг, как и его учитель А. Зоммерфельд, как Планк и многие другие оставшиеся в Германии физики, противостоял нацистской идеологии, которая, как известно, признавала только узкоприкладную физику, химию и механику, на роль же фундаментального знания выдвигала полумистические исследования древнегерманской и вообще нордической мифологии, а также антропометрические «основы» арийского расового учения. Теоретическая физика сама по себе считалась бесплодным умствованием, квантовая механика и теория относительности – порождением еврейского духа.
В этих условиях нельзя забывать и недооценивать мужественную защиту науки Гейзенбергом (который, будучи чистокровным арийцем, получил от нацистов прозвище «белый еврей») и его коллегами. Со страниц органа СС «Дер шварце корпс» на Гейзенберга обрушивались прямые политические обвинения: «…с такими нужно поступать как с евреями» – говорилось в той же статье. Ему, одному из основоположников физики XX века, не дали занять кафедру в Мюнхене после ухода на пенсию Зоммерфельда, который усиленно рекомендовал своего ученика. Кафедру отдали посредственному специалисту по аэро– и гидродинамике, который свел курс теоретической физики к одной лишь механике (классической).
Это отстаивание науки принимало в среде физиков разные формы. Например, была устроена дискуссия с нацистскими физиками, на которой удалось добиться компромиссной резолюции [8]:
«1. Теоретическая физика со всем ее математическим аппаратом – необходимая часть всей физики.
2. Опытные факты, суммированные в специальной теории относительности, являются твердой опорой. Однако применение теории относительности к космическим закономерностям не настолько надежно, чтобы не требовалось дальнейших подтверждений ее правильности.
3. Четырехмерное представление процессов в природе является полезным математическим приемом, но не означает введения новых представлений о пространстве и времени.
4. Любая связь между теорией относительности и общей концепцией релятивизма (очевидно, философского. – Е. Ф.) отрицается.
5. Квантовая и волновая механика – единственные известные в настоящее время методы описания атомных явлений. Желательно продвинуться за пределы формализма и его предписаний, чтобы достичь более глубокого понимания атома».
Этот документ содержит и банальные истины, включенные только для того, чтобы можно было противостоять тупости нацистских идеологов (пункты 1 и 4, первая фраза пункта 5), и принижение в угоду им новой физики (конец пункта 5, первая фраза пункта 2: теория относительности ценна только как систематизация фактов, но, согласно пункту 3, не меняет представлений о пространстве и времени, хотя на самом деле ее величие именно в том, что она дает новое понимание пространства и времени).
Не очень-то приятно об этом писать, но физик моего поколения не может не увидеть, как удручающе похожи формулировки компромиссного соглашения на те вульгаризовавшие, принижавшие квантовую механику и теорию относительности формулировки, на которые порой соглашались наши сталинские философы, нападавшие на современную науку начиная с 30-х годов и до смерти Сталина. Конечно, основой этих нападок служили не расовые идеи, а «необходимость защиты материализма от буржуазной идеологии», но все же сходство поразительно (см. в настоящем сборнике «Дополнение» к очерку «Бор. Москва. 1961»).
Быть обвиненным в идеализме было очень опасно, и находились физики (к счастью, немногие), которые от страха или из карьеризма шли на вульгаризацию науки точно так же, как иные немецкие физики. Более того, и у нас от исследований часто требовали прямой и немедленной пользы для практики. Необходимость теоретической физики приходилось отстаивать, а исследовательские работы в области ядерной физики академики С. И. Вавилов и А. Ф. Иоффе вплоть до самой войны вели в своих институтах под огнем критики со стороны невежественных «руководящих инстанций» из-за «отрыва от практических нужд народного хозяйства».
Но вернемся к компромиссному документу немецких физиков. Нельзя не признать, что он все же сыграл полезную роль: не только позволил сохранить в немецких университетах преподавание фундаментальных наук (пункт 1), в частности «порочной» новой, современной физики, но, как выяснилось впоследствии, даже переубедил некоторых, ранее колебавшихся участников дискуссии, и они порвали с «арийской физикой» Ленарда и Штарка. К тому же он был полезен и для студентов, хоть и настроенных в большинстве пронацистски, однако, вероятно, понимавших ценность новой науки.
Конечно, участие в подобных компромиссах было унизительно для ученых. Лауэ, Планк, Зоммерфельд, Гейзенберг еще могли позволить себе уклониться, но кто-то все же вынужден был пойти на это ради науки и молодежи.
Какова же все-таки была политическая позиция Гейзенберга? Ее нельзя понять, не учитывая, во-первых, тот факт, что немецкие академические круги, в отличие от российской интеллигенции, традиционно всегда старались изолировать себя от политики, считая ее низменным занятием, связанным с интригами и т. п. Во-вторых, нельзя забывать про особую психологическую сложность существования под гнетом тоталитаризма, которая была характерна для всех, особенно для тех, кто старался сохранить способность думать в атмосфере всепроникающего страха и в Германии, и в СССР, кто сумел сохранить себя как личность (нужно учесть и среду, к которой Гейзенберг принадлежал). И, наконец, в-третьих, и это, вероятно, самое главное, то, что немецкий народ в огромном большинстве пошел за Гитлером.
Гейзенберг и западные физики
Гитлер пришел к власти демократическим путем. Его избрал немецкий народ, отшатнувшийся от коммунизма, который своей политикой коллективизации, голода, террора и деспотии показал что он мог совершить и в Германии.[112]112
См. ниже (с. 358) очерк «Что привело Гитлера к власти? И кто?».
[Закрыть]
Мы (как и весь мир) считаем Гитлера исчадием ада (и он был им), варваром, подавившим культуру (и это было так), уничтожившим миллионы немцев, миллионы людей в завоеванных им странах, в том числе шесть миллионов евреев (да, и это верно). Жестокость, бесчеловечность, коварство ставят гитлеризм в один ряд с самыми отвратительными режимами во всей истории человечества (все это несомненно). Почему же уже после первого периода его жестокого владычества немецкий народ в своей массе преданно и с восторгом кинулся к его ногам, матери в умилении протягивали к нему детей, люди готовы были умереть за него?
Очевидно, дело в том, что он вывел немцев из состоянии отчаяния, голода, безысходности. Безработные получили работу, позор и тяготы Версальского договора кончились, когда Гитлер разорвал его, ввел войска в Рейнскую область, начал усиленно вооружаться. У молодежи появилась вдохновляющая (хотя и ужасная) цель порабощения других народов. Он сделал то, что не смогли сделать социал-демократы с их Веймарской республикой. Так чего же их жалеть, когда гестапо их уничтожает (а «тем более» коммунистов и евреев)?
Нужно ли удивляться тому, что и массы немецкого народа, и даже многие интеллектуалы, в частности студенчество, увидели в этом осуществление национальной задачи огромного значения. Именно поэтому всем им хотелось закрыть (или, по крайней мере, прикрыть) глаза на ужасы нацизма, не вслушиваться в сообщения о концентрационных лагерях, хотелось верить, что все это, как и сама варварская идеология нацистских вождей, – неизбежный «накладной расход», побочное и временное явление, что «когда лес рубят, щепки летят», что по мере достижения всего того, что необходимо нации, негативные явления будут ослабевать и в конце концов отпадут. Как это нам знакомо по нашему трагическому опыту!
Эта позиция характерна и для интеллектуалов, и для широких масс при любой диктатуре, осуществляющей крупные национальные задачи и допускающей при этом использование безжалостных, бесчеловечных методов.
Не потому ли и советский народ терпел не меньшую жестокость и преступления Сталина, что находил им оправдание в решении нашей важнейшей национальной задачи – в превращении относительно отсталой аграрной страны в современную и сильную индустриальную державу? В обоих случаях умелым пропагандистам и демагогам оставалось лишь убедить народ в том, что другого пути к решению великой задачи нет. Для этого, в частности, у нас замалчивался и принижался огромный прогресс в России после реформ Александра II, осуществленный за исторически очень краткий период – около полувека.
Нужен был, конечно, и могучий, всепроникающий страшный карательный аппарат. Но ведь еще Маккиавелли говорил в своем трактате «Князь» («Il Principe»): «Князь должен внушать страх таким образом, чтобы если не заслужить любовь, то избежать ненависти, потому что вполне возможно устрашать и в то же время не быть ненавидимым». И Сталин это сумел сделать с большинством народной массы, как и Гитлер.
Очень важно, конечно, и то, что Гитлер получал в самой разнообразной форме поддержку западных капиталистических стран, рассматривавших его режим как барьер против коммунизма. Более того, достаточно было одной французской дивизии, чтобы заставить его отступить, когда он ввел войска в Рейнскую область, нарушая Версальский договор. Но на это закрыли глаза. Здесь, быть может, примешивалось и опасение, что это вызовет выступление немецкого народа в его защиту. Никто не помешал ему вооружаться. В испанской гражданской войне середины 1930-х годов это вооружение и приобретенная на его основе «боевая практика» прошли успешную проверку, а «политика невмешательства» западных демократий в Испании подтверждала, что Гитлер хорошая защита от коммунизма. Вернемся, однако, к Гейзенбергу.
Гейзенберг – верный немецкий патриот (многие называют его националистом, но мы об этом еще поговорим). Его отношение к гитлеризму не могло быть однозначным. С одной стороны, он, конечно, испытывал отвращение к зверствам нацизма, к его варварской идеологии, возмущался подавлением интеллигенции и свободной мысли, тупостью и жестокостью больших и малых фюреров. Но, подобно миллионам своих соотечественников, он не мог не видеть, что с приходом Гитлера к власти закончился многолетний период отчаяния немецкого народа.
Конечно, и для Гейзенберга, и для подавляющего большинства других патриотически настроенных интеллектуалов все было не так просто. Неудивительно, что будучи патриотом он все время испытывал колебания и высказывал в разные периоды различавшиеся точки зрения. Ведь то же было и с большинством наших интеллигентов, писателей-«попутчиков» и т. п.
Более того, к концу 1941 г. Гейзенберг уже почти 9 лет прожил при нацизме. Режим безумного (в буквальном смысле) террора и тоталитаризма и у нас, и в Германии приучал людей к «двойному стандарту» поведения и высказываний, к умению даже говоря, казалось бы, правду, скрывать ее. Так, Гейзенберг, работая над реактором, а не над бомбой, все же объективно готовил атомное оружие. Ведь Вейцзеккер очень рано понял, что в реакторе вырабатывается и «оружейный» элемент, а Хоутерманс полностью разработал вопрос о плутонии (и потому они старались скрыть его результат). Поэтому можно было говорить Шпееру, что они работают над бомбой. Но как они работали!
Еще неясно, как надо понимать переданные Бором (в ФИАНе в 1961 г.) Гейзенберговы слова, что нужно сотрудничать с гитлеровскими институтами и тогда отношение к ученым изменится. Тут важны тонкости: как это было сказано и что имелось в виду. Но это было не для Бора с его настроением.
Нет ничего удивительного и в том, что люди, жившие в то время в совершенно других условиях, в США, Англии, Дании и т. п., – в странах, где не стояло другой национальной задачи большого масштаба, кроме одной единой, – спасения от гитлеровской агрессии, – люди, соответственно сосредоточенные на одном чувстве вражды и ненависти к нацизму, не могли найти общий язык со многими интеллектуалами тоталитарных стран.
В разговорах о Гейзенберге с физиками, особенно западными, часто слышишь осуждение его поведения при нацистах, мотивированное уже тем, что он все же слишком тесно сотрудничал с властями, что в официальных письмах, как официально предписывалось, он в конце писал «Хайль Гитлер» и вообще произносил гитлеровское приветствие.
Трудно судить, что значит «слишком тесно сотрудничал». Выше уже говорилось, что в урановом проекте принимал участие и такой человек, как Лауэ. Гейзенберг (как и Вейцзеккер, а также их друг и сотрудник Вирц) не был членом нацистской партии. Это обстоятельство можно считать чисто формальным. Ведь Иенсен, о поездке которого к Бору говорилось выше, был им, но в то же время явно был далек от верности нацизму. Передача Бору информации о работе над реактором, – строго секретных сведений, – была по существу государственным преступлением, а послание Хоутерманса, переданное (по инициатив Лауэ!) через Райхе, прямо свидетельствует, что Гейзенберг и его сотрудники не хотели бомбы, хотя формально, соблюдая дисциплину, что-то делали. Вообще, уже судя по упоминавшимся выше именам и из записанных английской разведкой разговоров десяти ведущих немецких атомных физиков (интернированных в Фарм-Холл) [19] видно, что большинство настоящих ученых (если не все они) были настроены резко антинацистски, но, как полагается, формально дисциплинированно выполняли свои обязанности. А на Гейзенберга обрушивались опасные свирепые атаки по идеологической линии, и он, как уже говорилось, противостоял им.
Что касается гитлеровского приветствия, то оно было обязательным, оформлено в форме государственного закона. Гейзенберг утешал себя тем, что писать официальные письма ему приходилось очень редко. Устное приветствие имело особое значение только вначале. П. П. Эвальд приводит красочный эпизод (цитирую по книге Бейерхена [8]): «Планк как президент Общества кайзера Вильгельма (своеобразный аналог нашей Академии наук. – Е. Ф.)… прибыл на открытие института металлов… в Штутгарте. Он должен был произнести речь (это, по-видимому, было в 1934 г.), и мы смотрели на Планка, ожидая, как он справится с процедурой открытия, поскольку к этому времени было уже официально предписано такую речь начинать словами “Хайль Гитлер!”… Планк стоял на возвышении. Он поднял немного руку, но опустил ее. Он сделал это еще раз. Затем наконец рука пошла вверх, и он сказал: “Хайль Гитлер!”. Ретроспективно мы понимаем: это было единственное, что можно было сделать, если не желать поставить под угрозу существование всего Общества кайзера Вильгельма» (это основанное в 1911 г. общество объединяло обширную сеть исследовательских институтов; субсидировали его правительство и частный капитал).
С течением времени это приветствие превратилось в чистую формальность: небрежный взмах руки, который всем известен по кинофильмам, и скороговоркой – два кабалистических слова. Во всяком случае, участие в собраниях и митингах с «аплодисментами, переходящими в овацию» при каждом упоминании магического, обожествляемого имени, столь типичное и для нас в советскую эпоху, значило больше, поскольку здесь действительно возникало массовое оглупление, чувство преклонения, восхищения, умиления и преданности. Мы это знаем по нашему опыту.
По-видимому, в период нацизма психологически противоречивые настроения владели Гейзенбергом, а политически он во многом был нестоек, может быть, даже недостаточно зрелым. Один известный физик, бежавший из гитлеровской Германии и информированный в подобного рода вопросах, говорил мне (потом я получил свидетельство еще одного физика, оставшегося в Германии), что в первые годы войны Гейзенберг желал поражения Германии. Узнав же об ужасных порядках, которые нацисты устанавливают в завоеванных странах, о лагерях смерти и т. п., испугался мести народов в случае неудачного для Германии исхода войны, стал желать победы. Ненависть к коммунизму как к другой форме тоталитаризма, страх перед его мщением были для него важнейшими факторами. Однако участие Гейзенберга в «средах» (см. ниже) вместе с такими людьми, как генерал Бек, показывает, что понятие «победа» для него отнюдь не отождествлялось с победой гитлеризма и его идей. В конце войны, страшились возмездия и солдаты. Вероятно, именно поэтому многие из них, прошедшие через советский плен, сами свидетели (да и участники) и нацистских зверств, и обращения с советскими военнопленными, так хорошо относятся к нашей стране; они не ожидали, что к ним проявят человечность и (прагматически рассчитанное Сталиным) великодушие. Оно политически окупилось после войны.
Среда, в которой Гейзенберг жил, уже отнюдь не была тем сообществом, которое существовало до прихода Гитлера к власти, – международным сообществом ученых, преданных науке, творивших новую науку, свободно и дружески общавшихся. Политический, идеологический раскол мира вызвал и раскол в мире ученых.
Вспоминая о «хаосе последних лет войны», Гейзенберг [5] пишет, что радовавших его впечатлений было немного. Одно из них стало частью того фундамента, на котором впоследствии основывалось его отношение к общим политическим вопросам. Эту радость давали ему знаменитые еженедельные собрания по средам, на которых встречались, музицировали, обсуждали различные темы глава антигитлеровского заговора 1944 г. генерал Бек, священник Попиц, известный хирург Зауэрбрух, посол фон Хассель, посол Германии в Москве до войны граф Шуленбург, вручивший 22 июня 1941 г. Советскому правительству ноту о начале гитлеровской агрессии (и, как передают, при этом прослезившийся), и др.
Известный советский политический журналист Эрнст Генри, в послесталинские годы очень много выступавший по вопросам гитлеризма и судьбы Германии, говорил мне в начале 80-х годов, что Шуленбург был «консерватор и националист, но не фашист». За две недели до нападения гитлеровской Германии он предупредил о нем советских дипломатов, в частности посла СССР в Германии Деканозова, т. е., по существу, совершил акт государственной измены.
В июле 1944 г. по дороге из Берлина в Мюнхен Гейзенберг узнал о неудачном покушении на жизнь Гитлера, казни Бека и аресте кое-кого из тех, с кем он встречался по средам [5].
Когда в 1943 г. Гейзенберг посетил в Голландии своего коллегу известного физика Г. Казимира, он старался убедить его, что Европа под германским (очевидно, даже гитлеровским) руководством, быть может, меньшее зло, чем коммунизм советского типа, что только так можно защищать западную культуру. Не отрицая и не оправдывая зверства и вообще отвратительные черты нацизма, на которые, возражая, ссылался Казимир, он лишь утверждал, что после войны следует ожидать изменений к лучшему [10]. Такие же надежды, как уже говорилось, были и у нас относительно сталинизма, если он победит (см. сноску на с. 309).
В то время демократические западные страны антигитлеровской коалиции, особенно те, которые были уже порабощены Гитлером, рассматривали СССР прежде всего как их спасителя. Хотя они знали многое об ужасах сталинизма, это было далеко не все, что раскрылось впоследствии. Они не были способны поставить Сталина на один уровень с Гитлером (но, конечно, мудрый и циничный Черчилль понимал, что, по его выражению, «они различаются лишь формой усов»). Умелая сталинская демагогия, которая в разгар террора в 1937 г. смогла так нагло обмануть даже приехавшего в Москву писателя Л. Фейхтвангера, поддержанная героической победой Советской армии, побуждала западных интеллектуалов так же пропускать мимо ушей информацию об ужасах советской системы, как немцев при Гитлере – о его зверствах. Они еще не знали и того, что потом стало со «сталинизированной» Восточной Европой, с Восточной Германией. Но даже когда они, казалось, все это узнали, метания Гейзенберга в конце войны продолжали вызывать только их возмущение, но не понимание.
Сам Казимир в своих воспоминаниях [10] задается вопросом: зачем Гейзенберг говорил ему все это? Перебирая возможные причины (кроме названной мною), он снова сводит все к тому, что Гейзенберг совершенно не был способен понимать собеседника, в данном случае – ненавидящего гитлеризм голландца. Можно, однако, вывести из его слов и обратное заключение: человек из западной демократической страны неспособен понять метания интеллектуала, прожившего многие годы в страшных условиях тоталитаризма.
Необходимо отметить еще вот что. Тот же Казимир пишет, что до войны «всегда восхищался Гейзенбергом не только как физиком. Для меня он был представителем многого из того, что дала германская культура. Он был хороший музыкант и хороший спортсмен, знал древние языки гораздо лучше меня». Но потом стало преобладать неприязненное отношение к нему, возникло немало обвинений, основанных на ложных слухах. Так, например, мне не раз говорили с безапелляционной уверенностью, что во время своего визита Гейзенберг уговаривал Казимира принять участие в немецком урановом проекте. В книге воспоминаний Казимира ни о чем таком нет ни слова. Более того, беседуя со мной в Женеве в сентябре 1988 г., Казимир категорически опроверг этот слух. Подобных ложных, но широко распространенных слухов, чаще всего направленных против Гейзенберга, мне встретилось немало.
Со временем стало выясняться, что Гейзенберг старался помочь жертвам нацизма. Польский физик Э. К. Гора, живший в США, опубликовал в 1985 г. в американском научном журнале письмо, озаглавленное «Спасенный Гейзенбергом» [12]. В этом письме он рассказывает, что когда в 1939 г. части вермахта заняли Варшаву, его предупредили о приказе Гитлера уничтожить польскую интеллигенцию. Гора обратился к Гейзенбергу, и тот спас его и опекал много лет: пригласил в Лейпциг, помог устроиться на работу трамвайным кондуктором. Это дало статус «иностранного рабочего». Объявил его «иностранным студентом», что позволило продолжить образование и вести научную работу (результаты ее были опубликованы в 1943 г. в немецком журнале). Арестованный гестапо, Гора был вскоре освобожден, как он полагает, благодаря Гейзенбергу (но в то же время упоминавшийся уже выше сотрудник Бора С. А. Розенталь говорил мне в 1988 г., что как-то, посетив Варшаву, Гейзенберг остановился у своего бывшего школьного товарища, а в то время – нацистского гауляйтера оккупированной Польши, Франка. Возможно, так оно и было. Неясно только почему он принял приглашение этого страшного человека. Не из симпатии же. Общались же, и очень тесно, некоторые наши видные писатели, например, даже Бабель, не говоря уж о Горьком, Алексее Толстом и др. с палачами первого ранга Ягодой, Ежовым и другими энкавэдешниками.
Гейзенберг никогда не писал и не говорил о своей помощи преследуемым коллегам: считал, вероятно, что это было бы недостойно, так как выглядело бы самооправданием.
Говоря о нападках, которым подвергался Гейзенберг, все упоминают только, как уже говорилось, что нацисты называли его «белым евреем». Но почему-то остается в тени одно место в его воспоминаниях [5, с. 289]: в разговоре с Вейцзеккером осенью 1939 г. о возможности доверять некоторым официальным лицам он сказал: «…Ты знаешь, что еще год назад меня неоднократно допрашивало гестапо, и мне неприятно даже вспоминать о подвале на Принц-Альбрехт-штрассе, где на стене было жирными буквами написано: “Дышите глубоко и спокойно”. Так что я не могу себе представить подобные отношения доверия».
Конечно, это вспоминает сам Гейзенберг, и его недоброжелатель может усомниться в точности его слов. Но, повторяю, я сам слышал в 1961 г., как Бор назвал его «очень честным человеком», а Теллер (см. с. 310) со всей определенностью говорит о его порядочности и справедливости. К тому же упоминаемый им собеседник Вейцзеккер жив и может подтвердить или опровергнуть факт допросов Гейзенберга в гестапо.
Вообще многие «традиционно аполитичные» антифашистски настроенные ученые были, как постепенно выясняется, связаны между собой и старались помочь пострадавшим. Например, когда Хоутерманса[113]113
Ф. Хоутерманс, замечательный немецкий физик, коммунист, в 30-х годах эмигрировал в СССР, работал в Харьковском Физико-техническом институте. Был арестован НКВД подобно большинству других иностранцев-политэмигрантов и вместе с многими другими арестованными немцами-коммунистами после заключения пакта с Гитлером выдан ему. См. о Ф. Хоутермансе выше в связи с передачей в США через Райхе тревожного предупреждения, а также в книге [11], статье [19] и ниже в очерке о Ландау.
[Закрыть] переправляли от советской границы в Берлин, он попросил одного случайно задержанного немца, которого должны были освободить, чтобы тот нашел Лауэ и сказал ему всего три слова: «Хоутерманс в Берлине» (по другой версии это было, когда он уже сидел в берлинской тюрьме и послал этого немца к Ромпе, а тот уже пошел к Лауэ). Лауэ незамедлительно начал хлопоты и менее чем через полгода добился освобождения Хоутерманса.
Я знал об этой связи ученых из различных воспоминаний, а подтверждение получил в личном разговоре от физика Шарля Пейру – одного из двух пленных французских офицеров, которых П. Розбауд сумел освободить под смехотворным предлогом: необходимость перевести на французский язык научную книгу. При этом, что особенно интересно, Розбауд договорился с героем французского сопротивления, известным физиком Ф. Жолио-Кюри, что после войны эта работа не будет рассматриваться как сотрудничество с нацистами. До конца войны Пейру работал в лаборатории «Зубра» – Н. В. Тимофеева-Ресовского. Он подтвердил мне также, что когда сына Тимофеева-Ресовского, антифашиста-подпольщика, схватило гестапо, то Гейзенберг пытался помочь спасти его.
Известны лишь немногие факты такого взаимодействия ученых, но они многозначительны, поскольку свидетельствуют, что довоенное содружество ученых в Европе не совсем распалось. Обнаруживались они постепенно, а теперь осталось уже мало современников и свидетелей событий.
Надо отметить, что после войны Гейзенберг был в числе восемнадцати западногерманских ученых-атомников, опубликовавших манифест, в котором они осудили атомное оружие и заявили, что никогда не будут принимать участие в его разработке.
И все же долго еще западные физики относились к Гейзенбергу с неприязнью. Научные контакты, конечно, возобновились – он участвовал во многих конференциях. Возобновились отношения с Бором, хотя опубликованные черновики его неотправленных писем Гейзенбергу показывают, что рана Бора так и не затянулась до его смерти. Гейзенберг с женой приезжал в Копенгаген, и две супружеские пары подолгу гуляли вместе. Гейзенберг даже жил у Бора на его даче в Тиксвилле. Были они вместе и в 1956 г. в Греции (см. фото в [13]). Возобновились близкие отношения со старым другом В. Паули, выдающимся физиком-теоретиком. В свое время они вместе создавали квантовую теорию поля, а теперь обсуждали новые научные проблемы (Паули, еврей по национальности, постоянно жил в Швейцарии, в 1940 г. уехал в США; после войны снова по 5-6 лет подряд жил в Швейцарии).