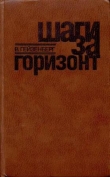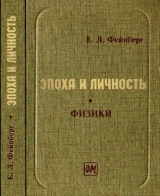
Текст книги "Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания"
Автор книги: Евгений Фейнберг
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
Что породило Вавиловых?
Невольно возникает вопрос: откуда возникло это чудо двух братьев Вавиловых – физика Сергея и одного из ведущих ученых-ботаников мира Николая? Первый был Президентом Академии наук (вероятно, одним из лучших за ее историю), другой – Президентом Академии сельскохозяйственных наук (которую он же организовал). Оба – люди невероятной талантливости, энергии, инициативности, широчайшего размаха знаний. По свидетельству много общавшихся с ними, – люди огромного обаяния, всегда готовые активно прийти на помощь. Как появились эти внуки крепостного мужика?
Конечно, каждый может вспомнить Ломоносова и сказать, что никакого чуда здесь нет (кстати: он не был крепостным). Русское крестьянство не раз рождало выдающихся людей. Но ведь для этого должны быть либо общие условия, способствующие проявлению талантов, скрытых в темной народной массе, либо особые, выдающиеся волевые черты личности. В Ломоносове осуществился второй случай, в братьях Вавиловых – первый, потому что в то время этот случай был отнюдь не единственным. Чудом явилась эпоха великих реформ Александра II и ее плоды, за несколько десятилетий явившие миру новую Россию.
Россия в третий раз за два века совершала попытку «войти в Европу». В первый раз ее вогнал туда своей неумолимой дубинкой Петр Великий. Тогда, по словам Пушкина, «Россия вошла в Европу как спущенный на воду корабль, при громе пушек и стуке топора». Но, заявив миру свое величие и свои скрытые возможности, Россия дала европейское просвещение только тонкому слою, верхам своего общества. Основная масса населения оставалась по-прежнему рабски бесправной, темной и даже не знающей о возможности иной жизни.
Во второй раз Россия лишь «побывала» в Европе, преследуя побежденного Наполеона. Она еще более утвердила свою имперскую величественность, но народ, населявший необозримые пространства, так и пребывал в прежней феодальной бесправной бедности. Однако те, кто дошел до Парижа, уже кое-что узнали о возможности другой жизни. Это в особенности сказалось в быстром росте промежуточных слоев, прежде всего разночинной интеллигенции.
Но теперь, в третий раз, произошло нечто гораздо более существенное. Началась европеизация страны на основе внедрения многих демократических начал, за полвека преобразившая страну.
Личная свобода вместо крепостной зависимости. Неподкупный суд присяжных, новое судебное уложение, свод законов, блестящие судебные деятели вместо дореформенного суда, решавшего дела даже в отсутствии истца или обвиняемого (и имевшего право не только оправдать или осудить, но и «оправдать, но оставить под подозрением»). Всеобщая воинская повинность вместо рекрутчины, с запретом телесных наказаний. Отмена предварительной цензуры, давшая быстро развившейся печати значительную свободу. Изменения в экономике, превратившие тит титычей А. Н. Островского в чеховских лопахиных – деятельных, инициативных и культурных промышленников и банкиров. Бурное развитие сети школ и высших учебных заведений. Наконец, нараставшее развитие современной промышленности и сети железных дорог, покрывшей необъятную страну.
Хотя при этом происходила пролетаризация крестьян и сохранялась бедность народа, оставался резкий раскол общества на разраставшийся образованный слой и по-прежнему темную массу. Хотя потребовалась революция 1905 г., чтобы вырвать у бездарного царя новые реформы и создание парламента – пусть только с совещательными правами. Хотя сохранялись многие остатки феодального прошлого, позор погромов и многое другое, тем не менее все это создало другую страну.
Одним из замечательных частных результатов этого преобразования была тяга разбогатевших «новых русских» того времени к высокой культуре.
Это особенное движение, характерное для нашей страны. Оно дало Мамонтова, заработавшего миллионы на строительстве Северной железной дороги и разорившегося из-за щедрой поддержки множества талантливых художников и артистов и даже оперы. Алексеева (Станиславского), создавшего Художественный театр на свои деньги – деньги одного из директоров крупной фабрики. Прекрасно разбиравшихся в живописи братьев Третьяковых, подаривших Москве (с запретом взимать входную плату!) знаменитую картинную галерею Морозова и Щукина, первых в мире создателей богатейших и самых передовых коллекций живописи импрессионистов, и т. д. без конца. Широкое компетентное меценатство и в искусстве, и в науке стало характерной чертой эпохи.
Но стремление к культуре проявлялось не только в меценатстве. У знаменитых производителей сукон братьев Четвериковых, Сергея и Дмитрия,[65]65
«Вы даже не знаете, что такое четвериковское сукно», – сказал мне в конце 60-х годов разговорчивый пожилой таксист. – «А я все еще ношу пальто из этого сукна».
[Закрыть] было много детей. Но ни один из восьми детей Дмитрия не пошел по стопам отца. Один сын, Сергей Дмитриевич, стал видным ученым-петрографом, профессором Московского университета, одна дочь – Екатерина Дмитриевна – искусствоведом. А из четырех детей Сергея только один пошел по отцовскому пути. Другой же, тоже Сергей, стал крупнейшим, оригинально мыслившим профессором генетики (затравлен в годы лысенковщины). Третий – математиком.
Отец братьев Вавиловых пришел в Москву из деревни пешком, стал мальчиком на побегушках на Прохоровской (Трехгорной) крупнейшей мануфактуре на Пресне, а кончил одним из влиятельных ее руководителей. Его сначала смышленость, а затем крупные способности организатора проявились очень скоро. После революции эмигрировал, но стараниями сыновей вернулся на родину и вскоре, в 1928 г., умер.
Вот из этой среды рвущихся к культуре, разбогатевших «новых русских» того времени и происходят братья Вавиловы.[66]66
Добавлю, что профессором-ботаником стал и сын их сестры Александры А. Н. Ипатьев.
[Закрыть] Во всех этих людях, недавно освободившихся от рабства, вспыхнула талантливость народа, тлевшая и не умиравшая веками.
Мало сказать, что они становились высококультурными личностями. Очень многие из них становились подлинными российскими интеллигентами, принимали нормы морали, выработанные трудовой интеллигенцией, вышедшей из менее состоятельных, даже бедных разночинных слоев.
В другом месте (см. начало очерка «Тамм в жизни») я уже писал о том, как разнообразна была интеллигенция в России, – о талантливых и заслуженно состоятельных инженерах и адвокатах, о религиозных философах и т. д. И о том, что ее среднеобеспеченный трудовой слой можно рассматривать как основной и самый главный в ней. Его, можно сказать, наиболее ярко персонифицировал Чехов, высоконравственный неутомимый труженик. Трудно разъяснимое, но и без того легко понятное слово «порядочность», чувство долга, скромный уровень существования, честный труд, чувство ответственности за других, безусловный примат духовного над материальной выгодой – вот, пожалуй, «ключевые слова» для большинства таких (да и для других) российских интеллигентов. Этот кодекс морали для большинства из них вел к материалистическому и атеистическому мировоззрению.
Судя по всему, братья Вавиловы, помогавшие строить баррикады во время восстания 1905 г. на Пресне, где они жили, спокойно перенесли потерю имущества в результате Октябрьской революции, жили «как все» и с энтузиазмом включились в создание большой отечественной науки XX века. Их вклад в этот процесс – труд-подвиг высокоталантливых, самоотверженных людей – принес огромные результаты. Характерно, что даже в мировоззрении они слились с той интеллигенцией, о которой мы здесь говорим.
В автобиографических записках, которые Сергей Иванович начал писать в последние годы жизни, говорится: «Николай Иванович очень рано стал и атеистом, и материалистом». Про себя же пишет, что в возрасте 15-16 лет, в дискуссиях с ученым-богословом, учителем «закона божьего» профессором И. А. Артоболевским «…был главным богословским оппонентом в классе и весьма решительно разбивал богословские построения Ивана Алексеевича». Вообще он в юности переживал идейные метания. Читал марксистскую философскую литературу, Маркса, Энгельса, Луначарского и др., приобрел даже «Материализм и эмпириокритицизм» Ильина (Ленина), не имея, конечно, ни малейшего представления о том, кто этот автор. «Пытался сделаться поэтом, философом миросозерцателем», «перечувствовал и пессимизм, и оптимизм, и радость, и отчаяние, и “научную религию” и т. д.»[67]67
Вавилов С. И. Начало автобиографии. В кн.: Сергей Иванович Вавилов. Очерки и воспоминания. 3-е изд. доп. – М.: Наука, 1991. С. 104, 106.
[Закрыть]
Подобные метания испытывала и вся интеллигенция. От поклонения античности до теософии, от религиозного славянофильства до преданности революции, которая сметет мир несправедливости и насилия. Но в центре оставалось главное – уже упомянутая трудовая, средне-обеспеченная интеллигенция. В эту среду влились и братья Вавиловы и разделили ее судьбу. Именно поэтому так легко установилось взаимопонимание и взаимное уважение Сергея Ивановича с другими ведущими учеными его института, интеллигентами отнюдь не в первом поколении.
Именно таким мы его знали в ФИАНе, в дорогой ему атмосфере любимой научной работы.
Но несколько иные, неожиданные его черты обнаружились, когда он стал Президентом Академии наук. О них красочно говорит в упоминавшихся выше («Девять рубцов на сердце») неопубликованных воспоминаниях первый вице-президент при Вавилове (сыгравший такую большую роль при его избрании президентом) И. П. Бардин. После избрания, пишет Бардин: «Началась общая работа. Вообще характер у Сергея Ивановича был самодержавный, прямо надо сказать. Он другим не препятствовал, но и от родителя все-таки немного осталось. У меня столкновения с ним были главным образом по строительству. Он в этом отношении был исключительно непреклонен: физика и больше никаких, строй Физический институт, а остальное – второй сорт. Так и нужно было, тут он выдерживал очень основательно. Ему обязаны тем, что Физический институт был построен в таком размере, что приобретения были такие сделаны, затем ряд других мероприятий. Все это физику очень сильно подняло…Тем не менее при Сергее Ивановиче строился Институт органической химии, началось строительство Института металлургии, затем реконструкция Радиевого института, строительство Пулковской обсерватории, Симеизской обсерватории, Мангуша, строительство обсерватории в Алма-Ата… Мне приходилось, – правда, с его защитой, – но все-таки шишки принимать на себя. Правда, с Министерством финансов он умел, несомненно, разговаривать, – купец и тут сказался. Он Зверева мог совершенно незаметно положить на обе лопатки» (речь идет о наркоме – министре финансов А. Г. Звереве, который в течение 23 лет, 1938–1960 гг., и при Сталине, и после него крайне жестко пользовался своей огромной властью. – Е. Ф.)
Совсем другой стороной обернулись наследственные черты этой поразительно многосторонней личности. Так освобождение от крепостного рабства трети населения страны, освобождение от отсталых правовых «норм» жизни всех людей, через бурное развитие в эпоху действительно великих реформ привело не только к появлению множества капиталистов-богачей, но через них – к новому расцвету художественной и научной культуры.
Невольно возникает вопрос: а в наши дни, когда произошло не менее мощное преобразование страны, многие черты которого так, казалось бы, внешне похожи на только что сказанное, поможет ли появление нынешних «новых русских» росту общей культуры? Время, конечно, другое, до тогдашнего экономического роста еще далеко, и пока лишь многочисленные ночные клубы, казино и виллы по всему свету являются показателями «их» культуры. Понадеемся на то, что это пока только первое поколение.
ЛЕОНТОВИЧ
Михаил Александрович
(1903–1981)

Мозаика[68]68
Публиковалось в сборнике «Воспоминания о М. А. Леонтовиче». 1-е изд. 1990 г., 2-е изд. 1996 г. (М.: Наука).
[Закрыть]
Написание этих воспоминаний долго откладывалось. Никак не удавалось найти основной стержень, главную мысль, вокруг которой можно было бы выстроить то, что я могу рассказать, вспоминая Михаила Александровича Леонтовича. В то же время потребность рассказать о нем ощущалась все острее: слишком много он значил для меня, для моей научной работы, слишком часто я любовался, восхищался им, но… и испытывал огорчения.
Однако стержень, о котором упоминалось, так и не отыскался. Пусть же написанное ниже воспринимается как элементы мозаики, дополнив которые другими элементами, читатель составит себе собственный портрет этого оригинального, выдающегося человека.
Первая встреча. Начало 30-х годов в Московском университете (как, вероятно, и во всех наших вузах) было ознаменовано ломкой старых форм учебного процесса и неправдоподобным для современного читателя экспериментированием. Резко сокращалось число лекций, увеличивались семинарские занятия, и были это обычно даже не семинары, а нечто совсем непонятное – бригадно-лабораторный метод: группа из 25-30 студентов разбивалась на пять-шесть бригад, каждая из которых прорабатывала задание по книгам в процессе совместного обсуждения. Зачет преподавателю бригада сдавала коллективно, отвечать на вопросы мог любой член бригады (иногда им бывал только бригадир), и если ответы были правильными, то хорошую отметку получали все ее члены. Было и многое другое. Например, студенты коллективно контролировали и изменяли оценки, которые ставил преподаватель, и т. п. Возникший хаос нетрудно себе представить.
К 1934 г. нелепости стали очевидными, и постепенно все стало вводиться в прежнее русло. Вот только некоторые большие лекционные аудитории, которые становились при бригадно-лабораторном методе ненужными, были уже перестроены для семинарско-бригадных занятий. Для этого просто из аудиторий нарезались узкие и длинные, как пенал, комнаты. В одном торце каждой из них была дверь, в другом – окно.
На физическом факультете Московского университета одной из первых мер по ликвидации сумасбродств было создание (для 4-го и 5-го курсов) специальности и группы «теоретиков и оптиков» (до этого теоретической специальности не создавали, «чтобы не было отрыва от практики»). Странное сочетание – теоретики и оптики – объясняется, видимо, тем, что группа была создана сотрудниками Л. И. Мандельштама и под его эгидой.
Сумасбродные идеи гуляли в головах не только администраторов, но и студентов. Я, например, знал, что хочу быть теоретиком, но считал, что прежде чем стать теоретиком, нужно вырасти в хорошего экспериментатора. Поэтому я спохватился лишь через две недели после начала занятий по новой специальности и бросился с робкой просьбой о зачислении на нее к декану Борису Михайловичу Гессену. Он не дал мне договорить и сказал: «Бегите скорее на лекцию, Леонтович как раз сейчас читает электронную теорию».
Я нашел нужную мне комнату-пенал в «новом здании» на Моховой и открыл дверь. От входа к окну тянулся длиннющий стол, за которым с одной стороны сидели в ряд все студенты группы. В узком проходе между столом и противоположной длинной стеной стояла высоченная черная доска (высота прежней лекционной аудитории была вообще огромная, она сохранилась). Перед ней помещался старый «венский» стул, на котором стоял очень худой и очень высокий, какой-то одномерный тридцатилетний человек. Вытянув еще вверх правую руку с мелом, он там, в необозримой высоте, дописывал формулу. Окончив, он, не слезая со стула, лишь слегка согнув руку, повернулся лицом к студентам и произнес несколько коротких, разделенных паузами фраз. Они выходили из его рта немного спотыкаясь, и почему-то некоторые фразы или некоторые слова вдруг произносились гораздо громче других.
Тут я увидел на локте его черного, густо запачканного мелом пиджака большую дыру, из которой висела наполовину оторвавшаяся, подшитая изнутри заплата. Извинившись, я занял место за столом и стал записывать. Лекция продолжалась. Гротескная форма аудитории, гротескное положение лектора и сама его фигура, изломанность его голоса – все составляло странную гармонию дисгармоничности.
Но, удивительное дело, как и потом, когда Михаил Александрович читал нам статистическую физику и оптику, читал и в более нормальных аудиториях, но в прежней речевой манере, оказывалось, что фразы его точны, лаконичны, легко конспектируются и складываются в очень последовательное и убедительное целое. Когда он читал, то возникало ощущение, что узнаешь только надводную часть айсберга. До подводной части студент добирался потом, продумывая лекцию, которая, как обнаруживалось, к этому и вела. Эти лекции многое исправили в том ералаше, который возник в студенческих головах за предыдущие годы.
Когда Михаил Александрович просто разговаривал, то в какой-то момент с него вдруг снималось колючее напряжение, и речь начинала течь плавно и спокойно, а лицо становилось красивым. Когда он шел один, несуетливо переставляя длинные ноги, держа папиросу между третьим и четвертым пальцами опущенной и слегка отставленной руки, в его задумчивой высокой фигуре была какая-то спокойная пластика, непридуманная значительность.
Про хороших ученых часто говорят, что они умеют выявить суть вопроса, выделив ее из всего сопутствующего, неглавного. И это качество действительно необходимо настоящему научному работнику. Рискуя показаться шаблонным, я все же скажу, что Михаилу Александровичу оно было свойственно в высшей степени. В научном разговоре он обычно слушает, слушает и вдруг скажет: «Погодите». Возьмет лист бумаги и сильно надавливая мягким карандашом, напишет одну-две резко упрощенные формулы: «Вы это хотите сказать?» Так же лаконично выделялось существенное на его лекциях. Поэтому так тонки его книжки. Его выступление в качестве оппонента на защите моей докторской диссертации, насколько помню, состояло из нескольких фраз: «Диссертант, во-первых, сумел свести интегральное уравнение на плоскости к уравнению с одной переменной. Во-вторых,… В-третьих,… Благодаря этому ему удалось то-то и то-то. Это существенные результаты, и диссертант заслуживает…». Весь текст, думаю, не превышал одной страницы (тогда, в 1944 г., это было еще допустимо).
Но вернемся к первой встрече с ним.
Заплата, да еще оторвавшаяся, на локте у профессора или «почти профессора» не должна особенно удивлять. Дело не только в том, что это были голодные, неуютные, разутые годы, когда шляпа или галстук у молодого человека были неприличным признаком стремления выделиться или показателем тлетворного буржуазного влияния. Полное пренебрежение к внешнему виду, одежде, подробностям быта было свойственно не только сыну почтенного киевского профессора Михаилу Александровичу Леонтовичу, но и его ближайшим друзьям, отличавшимся, как и он, подлинной интеллигентностью, образованностью и высокими душевными качествами. В основе этого стремления к опрощению, презрения к условностям быта было то же упорное желание и в жизни отбирать главное, действительно существенное. Этим главным для них был духовный мир и ценность самой личности. Отбрасывалось все второстепенное, внешнее.
* * *
Их было четыре ближайших друга, пронесших свою дружбу со студенческих лет до конца жизни: Михаил Александрович Леонтович («Минька»), Александр Александрович Андронов («Шурка») – один из создателей теории регулирования и теории автоколебаний, человек непередаваемого обаяния, жадного и сильного ума, необъятной человечности, Петр Сергеевич Новиков – крупнейший ученый в области математической логики («Петр, который еще умнее Шурки», – так однажды объяснила жена Андронова, сестра Леонтовича, – Евгения Александровна), человек, казалось, понимавший в людях все, человек огромной доброжелательности, державшийся всегда очень скромно, и, наконец, Николай Николаевич Парийский, сильный и авторитетный астроном, переживший их всех.
Андронов вместе с другим учеником Мандельштама, Габриэлем Семеновичем Гореликом, с Марией Тихоновной Греховой и другими в 1931 г. переехал в Горький, где они решили создать новый научный центр. Этому делу они отдали все силы, а многие из них – всю жизнь. Задуманный центр создали. Теперь в городе ряд крупных физических институтов, которые возглавляют и развивают их ученики и ученики их учеников. Естественно, Андронову при переезде дали по тем временам большую трехкомнатную квартиру. Мне выпало счастье бывать у него в течение двух лет– 1944 и 1945 гг., когда я регулярно ездил в Горький читать лекции в университете. Здесь царил дух гостеприимства и доброжелательности. Но во входной двери не было замка, она «запиралась» половой щеткой, затыкавшейся с внутренней стороны за ручку двери. Так продолжалось, пока академика Андронова не избрали депутатом Верховного Совета РСФСР. Обилие посетителей, не всегда способных в отличие от друзей и учеников понять возможность такой «техники», заставило перейти к обычным способам.
Петр Сергеевич Новиков обладал тонким эстетическим чувством, любил живопись. С ним и его симпатичным сотрудником в 1951 г. я провел три упоительные недели, бродя по пустынному Горному Крыму от Бахчисарая до Судака. В счастливом настроении мы успели примчаться к нужному нам рейсу в Симферопольский аэропорт и даже сели пообедать. Но я неосторожно нажал вилкой на поданный мне большой фаршированный помидор, и его жидкое содержимое залило всю мою грудь. Отсмеявшись, мы дообедали, и я сказал: «Есть еще несколько минут, я пойду сменю сорочку». Петр Сергеевич всплеснул обеими руками и в крайнем удивлении уставился на меня улыбающимися щелками глаз: «Как вы можете придавать значение таким вещам?»
Беседы с этими людьми, даже только их вопросы и реплики (каждый из них больше стремился вызвать собеседника на разговор, чем говорить сам) на любую из бесконечного разнообразия тем были истинным наслаждением. В этих разговорах было одно удивительное свойство – никому из них просто невозможно было сказать что-либо, что не является твоей подлинной мыслью, точкой зрения. Прощалась даже глупость, лишь бы она не была бездумным повторением чужой глупости. Но быть в разговоре неискренним или повторить расхожую пошлость было невозможно, язык не повернулся бы.
Эта доминанта подлинного, духовного, искреннего и была тем, что определяло общение с Леонтовичем, как и с каждым из них.
Научный работник «по определению» должен мыслить независимо и самостоятельно. Он существует для того, чтобы обнаруживать новое, то, что не увидели, не поняли другие, его предшественники, даже его учителя, даже те, кто для него в высшей степени авторитетны. Выражаясь более вульгарно, за это ему платят деньги. Поэтому отсутствие слепого преклонения перед утвердившимися авторитетами, догмами, перед господствующими точками зрения для него обязательно. Разумеется, если человек обладает этим качеством, оно не может проявляться только в сфере науки, но становится характерным для всего его жизненного поведения. Михаил Александрович был хорошим ученым и, следовательно, оно было ему в высшей степени свойственно. И ясно сформулированную собственную позицию он отстаивал с убежденностью, твердостью и смелостью.
Война. В понедельник 23 июня 1941 г. в маленькой комнате Теоретического отдела ФИАНа собрались оглушенные, растерянные его сотрудники: глава отдела – И. Е. Тамм, М. А. Леонтович, Д. И. Блохинцев, М. А. Марков, В. Л. Гинзбург и я. Все были придавлены не только несчастьем, свалившимся на нашу страну, но и вдруг обнаружившейся нашей ненужностью. Кому теперь нужна ядерная физика, принципиальные вопросы теории элементарных частиц, да и вообще теоретическая физика, которой были посвящены вся страсть и все силы каждого из нас? Какой позор, какой стыд – о чем мы думали раньше, чем были заняты?
В исключительном положении оказался один Михаил Александрович. Он уже давно занимался теорией распространения радиоволн в связи с работами Л. И. Мандельштама, Н. Д. Папалекси и их сотрудников по радиоинтерференционному методу измерения расстояний, радиогеодезии и т. п. Ясно было, что в той или иной форме его знания понадобятся. Ведь уже были придуманы и использованы «Приближенные граничные условия Леонтовича», которые потом принесли еще больше пользы. Ему нужно было лишь отставить оптику и термодинамику и заняться нужными приложениями радиофизики. Остальные же сотрудники начали лихорадочно фантазировать, придумывая возможные прикладные темы (вспомним, что и И. В. Курчатов прекратил тогда свои работы по ядерной физике и занялся размагничиванием кораблей). Но Михаил Александрович упомянул, что в теории распространения радиоволн есть трудные нерешенные вопросы, которые важны практически: до сих пор всегда рассматривали идеально ровную и однородную поверхность, а надежность морской и воздушной радионавигации сильно зависит от неоднородностей и неровностей. Вскоре по его совету я ухватился за эту проблему и влез в нее с головой.
Через месяц ФИАН эвакуировался в Казань. Уехал и Михаил Александрович, но ненадолго. В Москве под руководством Семена Эммануиловича Хайкина, тоже ученика Л. И. Мандельштама и замечательного радиофизика, развернулись работы по одному направлению в радиолокации, и Леонтович присоединился к Хайкину для разработки теоретических вопросов.
В феврале 1943 г. я приехал в Москву и пришел к Михаилу Александровичу, чтобы показать полученные за год с небольшим результаты по подсказанной им проблеме. Пришел в старый ФИАН, отданный в то время под производство элементов радиолокационной техники, в ту же комнатку теоретического отдела, где мы собрались во второй день войны. Михаил Александрович был явно доволен тем, что я сделал. Он несколько раз прерывал мой рассказ своим «погодите» и по-своему кратко формулировал суть (мне в работе помогло нахальство молодости и невежество в новой для меня области, из-за чего я не поддался гипнозу традиционных методов). Но он, как всегда, был суховат, не сказал ни одного хвалебного слова, сильнее чем «…да, верно», «…как будто, так» и т. п. Затем мы отправились к нему домой ночевать (его дом, – редкость тогда! – хоть слабо, но отапливался) и проговорили полночи обо всем, что тогда мучило. Когда мы проходили по коридору ФИАНа, я слышал непрерывный грохот, несшийся из нашего уютного прежде конференц-зала. Там теперь стояли вакуумные насосы, откачивавшие изготовляемые специальные радиолампы.
Михаил Александрович очень гордился своей работой и с несколько наивным высокомерием говорил: «Уж не думаете ли вы, что это здание мы вернем ФИАНу? Там в Казани делают что-то никчемное, а мы здесь делом заняты». В действительности, эта оценка была, конечно, несправедлива, во время войны в ФИАНе для фронта было сделано немало, причем именно такого, что могли сделать только физики высокой квалификации. А через полгода после нашего разговора здание было все же возвращено ФИАНу. Уже в сентябре институт в него въехал.
Наивное высокомерие, о котором я упомянул, так противоречившее трезвости его самооценок, вообще проскальзывало у него нередко. Я не раз думал, что кто-то из его предков подмешал к его крови изрядную долю крови какого-нибудь гордого польского шляхтича.
Михаил Александрович и дальше продолжал работать по прикладной радиофизике в одном головном институте. Но он восстановил и свою связь с ФИАНом, а в 1946 г., когда в Московском механическом институте (впоследствии ставшем Московским инженерно-физическим институтом) началась подготовка физиков по атомно-ядерной оборонной тематике, вошел в состав организованной Игорем Евгеньевичем Таммом кафедры теоретической физики. Поначалу в нее входили еще только Исаак Яковлевич Померанчук и я.
Но дело быстро росло, и появились новые профессора (А. Б. Мигдал, А. С. Компанеец и многие другие), а также и молодые ассистенты (в основном из числа выпускников того же института). В 1948 г. И. Е. Тамм был привлечен к работе по специальной тематике. (Этими скромными словами прикрывалась работа по созданию водородной бомбы на основе идей А. Д. Сахарова и В. Л. Гинзбурга.) Тогда большую уже кафедру возглавил Михаил Александрович. Однако основной его работой оставалась прикладная радиофизика.
«Характер». Теперь придется, как это ни трудно, рассказать об одной черте поведения Михаила Александровича. Речь идет о всем известной его вспыльчивости, иногда перераставшей просто в ярость. Все знали о ней, и прощали эту, нередко несправедливую, ярость не только потому, что любили его. Дело в том, что она направлялась в значительной мере «изотропно», не только на людей, стоящих ниже его по официальной иерархии или на том же уровне, но и на «вышестоящих».
Однажды, в конце 40-х годов, он был в кабинете у прикомандированного к ФИАНу генерала НКВД (официально он назывался Уполномоченным Совета Министров СССР). Такие генералы в то время были и в других институтах, выполнявших секретные работы. Они помогали связи с центральным руководством и, конечно, в известной мере, контролировали работу институтов. Особое внимание они, разумеется, уделяли наблюдению за сотрудниками института, возможности привлечения их к секретной работе и т. п. Это называлось «работой с кадрами».
Будучи в благодушном настроении, он подал Михаилу Александровичу совет, который он сам, вероятно, рассматривал как знак особого уважения и доверия. Генерал сказал: «Почему бы вам, Михаил Александрович, не вступить в партию? Я сам готов дать вам рекомендацию». Как через два дня с удовольствием рассказывал мне Михаил Александрович, он взорвался, как мина, на которую неосторожно наступили. «Что-о-о! – закричал он. – Вы хотите, чтобы я вступил в партию, которая насаждает антисемитизм, держит крестьян в колхозах…» и т. д. Он так кричал, что испуганный генерал забегал, поплотнее закрывая двери, чтобы не были услышаны крамольные слова, и пытаясь успокоить Михаила Александровича. Все кончилось ничем, хотя за такие высказывания в то нелегкое время можно было и дорого поплатиться.
В другой раз он кричал на заместителя директора института. Но я хочу рассказать о его несправедливом гневе, свидетелем которого я был сам.
Как-то ранней весной то ли 50-го, то ли 51-го года, после заседания кафедры в МИФИ, помещавшемся тогда на улице Кирова (Мясницкой), мы вышли на улицу, и группа членов кафедры решили пройтись пешком, провожая Михаила Александровича домой, на проспект Мира, где он тогда жил. Мы шли по чудным весенним улицам, болтая о разных разностях. Вдруг, когда мы уже приблизились к станции метро, где должны были расстаться, Михаил Александрович заговорил об одном человеке, который, по его мнению, пошел на постыдный компромисс и не защитил подвергшегося антисемитской травле коллегу.
Взвинчиваясь все более по ходу рассказа, он стал так бранить эту личность, что один из нас, считавшийся очень покладистым, стал ему возражать, убеждая, что нельзя так перечеркивать человека, сделавшего очень много хорошего, часто жертвенного, и для науки, и для многих людей, и что совершенно неясно, мог ли он сделать что-либо в защиту коллеги в то тяжелое время. Это совершенно вывело Михаила Александровича из равновесия. Он буквально заорал на возражавшего – назовем его N (воспоминания мои не о нем, а о Леонтовиче, и его имя несущественно): «Вот из-за таких, как Вы, и плодятся подлецы! Такие, как Вы, еще хуже этих подлецов» и т. д. N остановился, по словам третьего из нас, побледнел, как мел, и тихо сказал: «Если вы немедленно не извинитесь передо мною, то я никогда не подам Вам руки и не скажу ни единого слова». Михаил Александрович оторопел, отвернулся и стал уходить. Этот третий из нашей группы в ужасе забегал между ссорящимися, выкрикивая: «Товарищи, вы с ума сошли, что вы делаете!» Михаил Александрович остановился, вернулся назад, сунул вперед руку лопаткой и зло буркнул: «Извините»; а после рукопожатия произнес тем же сердитым голосом нечто совершенно невероятное: «Неужели Вы не понимаете, что я это говорил только потому, что страшно люблю Вас».