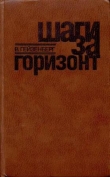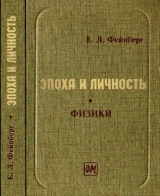
Текст книги "Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания"
Автор книги: Евгений Фейнберг
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
Физики либо не понимали, либо недостаточно понимали, что научное знание неизбежно строится как совокупность логических и внелогических элементов (это и означают слова, что критерий практики всегда условен, не имеет абсолютного значения). Только из-за этого, только потому, что внелогически установленные ранее принципы (аксиомы, законы природы) не обязательно безусловно верны на все времена и могут быть изменены при появлении новых фактов, только поэтому происходит развитие науки, выражающееся в выявлении (на основе нового опытного, экспериментального знания) более общих закономерностей, в которых предыдущее знание оказывается частным случаем, справедливым лишь в определенных условиях. Такое более широкое понимание сформировалось (хотя отнюдь еще не стало всеобщим) лишь на протяжении XX века (см., например, [9]).
В начале же XX века и физики, и математики в огромном большинстве считали, что присутствие внелогических элементов в их науках есть зло, от которого нужно и возможно избавить их науку. В математике в этом были убеждены такие люди, как великий математик Давид Гильберт и философ-математик Бертран Рассел. В физике это направление стало главным в основном начиная с Маха. Такие тенденции, поддержанные мощным развитием математической логики, принесли значительную пользу тем, что побудили тщательно проанализировать природу самих понятий, которыми оперирует наука, вводимых определений. Поэтому, в частности, в лекциях Мандельштама (особенно в лекциях по теории относительности и квантовой механике) такое большое внимание уделяется вопросу об определении понятий, ограничениям, которые на них при этом налагаются.
Однако, с другой стороны, это движение привело к господству позитивистских точек зрения разного склада. Эйнштейн, который вначале тоже подпал под влияние Маха, очень скоро отошел от него. Легче всего это увидеть из его беседы с Рабиндранатом Тагором [10] (в 1931 г.). Настойчивость Тагора в конце концов явно вызывает сильнейшее раздражение Эйнштейна. Не ввязываясь в обсуждение тонкостей, он лишь настойчиво повторяет фразы вроде: «… этот стол останется на своем месте даже в том случае, если в доме никого не будет» [10, с. 132]. Это его утверждение есть пример внелогического интуитивного суждения. Ни доказать, ни опровергнуть это утверждение нельзя. Но Эйнштейн просто принимает его как разумный вывод из опыта, тем самым признавая, что знание неизбежно включает внелогические интуитивные суждения. А Мандельштам? В его опубликованных трудах об этом ничего нет. Но лет двадцать тому назад (точнее не помню) его сын Сергей Леонидович вручил мне три тонкие школьные тетрадки, неумело сшитые белыми нитками. В них содержалось написанное хорошо мне известным почерком очень простое изложение философских воззрений Л. И. по обсуждаемым вопросам. Написано оно в один из самых последних годов жизни, во время войны, в эвакуации в Боровом. Так что это как бы подведение итогов. С этих тетрадей было снято несколько машинописных копий и они хранились в совершенном секрете вплоть до наступления нового времени.
Именно здесь Л. И. говорит, что физик не может уклониться от рассмотрения философских вопросов. Далее, он говорит о том, что понимание объективной реальности должно исходить из тех элементов, которые являются не подлежащими сомнению фактами. Такими фактами, по его мнению, являются возникающие у нас переживания, ощущения (Л. И. гораздо чаще употребляет слово переживание). При этом уже нельзя спрашивать, что это такое. Это первичный элемент, ясный каждому нормальному человеку. Говорить о «находящемся вне нас» как о некоторой материальной реальности мы не имеем оснований, она нам не дана, нам дана только совокупность ощущений, переживаний. Только эта совокупность переживаний может рассматриваться как объективная реальность. Корреляция этих переживаний изучается нами и позволяет установить то, что мы называем законами природы.
Но ведь и Эйнштейн во фразе, предшествующей процитированной выше, говорит: «Даже в нашей повседневной жизни мы вынуждены приписывать используемым нами предметам реальность, не зависящую от человека. Мы делаем это для того, чтобы разумным образом установить взаимосвязь между данными наших органов чувств (курсив всюду мой. – Е. Ф.). Это, конечно, опять интуитивное суждение. Создается впечатление, что разница с Л. И. в том, что Л. И. не считает, что мы «вынуждены» это делать и не хочет этого делать. Поэтому Эйнштейн – материалист (хотя страницей раньше он говорит: «Я не могу доказать правильность моей концепции, но это – моя религия»; слово религия здесь, конечно, не имеет никакого отношения к тому, что имеется обычно в виду, оно используется Эйнштейном чисто метафорически; о принципиальном различии между религиозной верой и доверием к интуитивному суждению в науке см. [9, гл. 6]. Про Мандельштама же это утверждать нельзя. По его словам, когда мы говорим «дерево», то это имеет смысл только как краткое, «стенографическое» обозначение комплекса соответствующих переживаний.
Однако несмотря на стремление отсечь любые внелогические суждения, Л. И. все же не мог их избежать. Например, он говорит, что комплексы переживаний у разных людей совпадают. Об этом можно судить по совпадению внешних проявлений этих переживаний. Но ведь число изучаемых внешних проявлений всегда ограничено и мы еще должны высказать интуитивное суждение о достаточности набора изучаемых реакций, а это вносит внелогический элемент.
Здесь, конечно, неуместно более подробно рассматривать рукопись Л. И., содержащую множество тонких поучительных и очень интересных рассуждений. Стоит процитировать, например, следующую фразу: «Я не только не отрицаю существование внешнего мира и его реальность, но … даю ему вышеуказанное определение» (в терминах комплекса переживаний). Но нельзя не сказать, что все же остается чувство неудовлетворенности.
Подобно Эйнштейну, говорящему о столе, который остается в комнате и в его отсутствии, Л. И. разбирает среди возможных возражений и такое: говорят будто из определения «дерева» как комплекса переживаний следует, «что предметы внешнего мира перестают существовать, как только мы от них отворачиваемся». Это «недоразумение». «В комплекс переживаний, который я называю деревом, входит переживание – уверенность, что если я отвернусь и после этого не услышу, скажем, падения дерева и т. д. (потом Л. И. добавляет и «переживания от рассказа других людей» о том, что дерево не исчезло и т. д. – Е. Ф.), то при обратном повороте головы я опять это дерево увижу. Это переживание входит как важная составная часть в понятие реального дерева». Здесь все, кажется, последовательно. Но все же возникает недоумение. Переживание-уверенность имеет принципиально другую природу, чем переживание-ощущение. Оно есть следствие работы сознания, собирающего вместе некоторое ограниченное число косвенных свидетельств того, что дерево не исчезало, причем каждое из них в отдельности не доказательно. Уверенность возникает как внелогическое синтетическое интуитивное суждение. Избежать внелогического суждения не удается. Не проще ли, как это делает Эйнштейн, с самого начала использовать его, без введения комплекса переживаний-ощущений. В начале XX века все это было недостаточно понятно физиками и математиками. Но бурное развитие математической логики уже в начале 30-х годов привело к важнейшему результату: средствами этой науки математик Гедель доказал, что невозможно изгнать из математики внелогические элементы. При развитии математики неизбежно будут возникать моменты, когда необходимо внелогически выбрать одно из возможных направлений дальнейшего ее развития. И доказывается, что в ходе развития математики такая ситуация будет возникать неограниченное число раз. Дальнейшее изучение основ математики показало к концу века, что она насыщена произвольными («интуитивными») определениями понятий, которые невозможно обосновать логически. Одни авторы рассматривали это как катастрофу (см. в [11], другие же пришли к новому пониманию математики, как такой же науки, как физика [11], даже как часть теоретической физики, основанной на внелогическом обобщении опытных данных [12].
Л. И. формировался как мыслитель, когда все это было чуждо господствовавшему в науке духу, в туманной атмосфере соревнующихся воззрений. Нет ничего удивительного в том, что он испытывал влияние этой атмосферы, в основном склоняясь к одной из версий позитивизма. Но в своих лекциях он никогда не говорил об этой позиции. Тогда это было бы самоубийством. Советские философы яростно преследовали любое «уклонение» позитивистского типа от официальной идеологии. Эту ярость можно охарактеризовать парафразой на известную команду охранника сталинских лагерей: «Шаг вправо, шаг влево считаю идеализмом, стреляю без предупреждения». Один философ после смерти Сталина решился мне сказать: «Ведь фактически существовала причинно-следственная цепь обвинений, – ах, идеалистический уклон, значит, поповщина, значит, враг народа → арест → лагерь → конец». Но у этих советских философов был, как у гончих собак, хороший нюх. Они отыскивали в замечательных лекциях Л. И. подозрительные места и с бешеной энергией набрасывались на них. В 1950–1953 гг. было несколько многолюдных собраний в ФИАНе, специально посвященных «идеологическим ошибкам Мандельштама и его учеников». Несмотря на выступления этих учеников (самого Л. И. уже не было в живых), порой резкие, в защиту «подозрительных пунктов», выносились грозные и в то время опасные резолюции. Ведь это было время разгромов многих наук, – генетики, кибернетики, физиологии (к тому же в 1951–1953 гг. разгул антисемитизма достиг пика).
К счастью, одного «нюха» гонителей было еще недостаточно. Сколько-нибудь квалифицированные философы-марксисты были уже давно уничтожены, а оставшиеся плохо знали и физику, и философию. Им можно было отвечать.
Так, сразу после войны стали готовить издание пятитомного собрания трудов Л. И. Тщательную подготовку (гигантский труд!) провел главный редактор С. М. Рытов. Главную трудность представляла публикация лекций. Стенографировалось только ничтожное число лекций, но и они не были ни прочитаны, ни выправлены самим Л. И. Все опиралось на записи (очень тщательные) самого Рытова, а также Андронова и многих других. Приходилось сопоставлять разные записи. Лекции и семинары составили два последних тома. Но как раз после выхода трех томов издание было приостановлено идеологическим начальством. Все же его удалось возобновить и завершить, с одной стороны, потому что глубокий почитатель Мандельштама С. И. Вавилов был Президентом Академии наук и употребил свое влияние. С другой, – благодаря некоторым уловкам: во-первых Рытов слегка подредактировал некоторые особенно вызывавшие ярость философов места (это было возможно потому, что стенограмм, как было сказано, практически вовсе не существовало, а хорошо зная истинную точку зрения Л. И., можно было, слегка изменив текст, сохранить вкладывавшийся в него Мандельштамом смысл). Во-вторых, в оставшихся двух томах главным редактором был указан не Рытов, а М. А. Леонтович (он больше подошел, видимо, как академик и не еврей, в отличие от Рытова).
Итак, является угнетающим фактом: выдающийся ученый, сделавший так много и для самой науки, и для создания огромной школы ведущих ученых нашей страны, много размышлявший над фундаментальными философскими вопросами, имевший определенные воззрения в этой области, не смел даже намекнуть на них открыто, должен был держать их в чрезвычайном секрете. А ведь речь шла о науке, а не о террористических замыслах. Ужасное свидетельство страшного времени. «Петля на шее» не слабела, даже если ученому и удавалось выжить.
* * *
Но как же сам Мандельштам относился ко всему, что творилось в стране, какова была его общественно-политическая позиция? Как он вел себя в эту страшную и сложную эпоху?
Мы видели, что в жизни Л. И. было несколько четко разграниченных периодов. Сначала благополучная молодость в Одессе, завершившаяся участием в студенческих политических волнениях в университете, из которого он был за это исключен. Между тем все те, кто знал его зрелым, в московский период, подчеркивают, что он воздерживался от какой-либо общественной вненаучной активности. Почти все остальные вынуждены были подчиняться унизительным нормам общественного поведения. Отнюдь не все они, особенно в 20-е годы, делали это из страха. Но почти все они были в лучшем случае «попутчиками» советской власти, порой даже сторонниками ее, ценили то положительное, что делалось (всеобщее образование, интенсивное развитие науки, быстрое восстановление совершенно разрушенной в гражданскую войну экономики и т. д.). Но уже в следующем десятилетии, в эпоху «большого террора» 30-х годов и даже раньше, все большее число интеллигентов приходило к резкому отрицанию сталинского режима, хотя и не выявляло этого, страх одержал в узде», а число приспосабливающихся карьеристов не убывало.
Сам Л. И. в политическом поведении был «застегнут на все пуговицы» перед всеми, кроме самых близких людей, и не проявлял своей позиции.
Конечно, на нем не могло не сказаться 14-летнее пребывание в Германии, где вплоть до гитлеровских времен научный мир традиционно отстранялся от любой политической деятельности, даже просто от заинтересованности в политических вопросах. Академическая жизнь не имела с ними ничего общего (если не говорить о проблеме антисемитизма, которой, как известно, был озабочен, например, Эйнштейн). В Германии невозможен был бы массовый протест ученых против действий власти, как тот, который в 1911 г. побудил покинуть Московский университет чуть ли не 150 прогрессивных профессоров, возмущенных действиями министра Кассо. Однако этого было мало.
На самом деле политическая позиция Л. И. была крайне решительной и определенной: он полностью и резко отвергал советский режим и всю внедрявшуюся партией идеологию и практику общественной жизни.
Многие российские интеллигенты и, в частности, ученые, «зараженные» еще в царское время либеральными и даже социалистическими идеями, находили в революции и порожденном ею строе при всех его ужасных чертах положительные стороны. При этом одни, как И. Е. Тамм, до революции сами участвовали в политической жизни, в революционном движении. И даже прекратив это участие, сохранили верность некоторым социалистическим идеям молодости. Другие, как С. И. Вавилов, поначалу глубоко восприняли и высоко оценили положительные стороны новой жизни, лишь потом изменившись. А третьи, как молодой Л. Д. Ландау, вообще, очарованные высокими коммунистическими идеями, в течение почти 20 лет заявляли себя ярыми сторонниками советской власти. Нужно было пережить (часто – на себе самом) ужасы «большого террора» 30-х годов, чтобы осознать суть сталинизма, и уйти во «внутреннюю эмиграцию».
Для Мандельштама же все было ясно с самого начала. Вопреки своему юношескому участию в студенческих волнениях, испытав жизнь в цивилизованной Европе, пережив большевистский переворот и кошмар гражданской войны на Украине, он сразу напрочь отверг советскую систему. Он хранил отвращение к ней внутри себя и только после ее крушения мы узнали силу этого отвращения от его близких. Оказывается, например, что еще в декабре 1922 г. в письме к жене И. Е. Тамм писал о нем из Москвы (где, как сказано выше, в это время Л. И. работал в Тресте заводов слабого тока):
«Лидия Солом[оновна] говорит, что его нервы совсем стали болезненны, и очень беспокоится… Между прочим, отвращение ко всему большевицкому – хотя ему очень хорошо (очевидно, имеется в виду то, что Л. И. впервые после голодной Одессы получил приличное материальное содержание. – Е. Ф.) – стало у Леонида Исааковича совсем болезненным, включительно до того, что необходимость сидеть за столом (в разных концах и не разговаривая) с коммунистом на ужине – причем этот единственный] коммунист] вел себя, по его же словам, весьма прилично – вызывает у него мигрень страшнейшую на всю ночь!» [13].
Конечно, такая крайность в отношении к коммунистам, такая болезненная реакция не были характерны для всех лет в Москве. Уже из приведенного письма Тамма видно, что его нервная система в это время была в особенно плохом состоянии. Кроме того, ведь был же среди его самых близких учеников член партии, сознательный участник гражданской войны С. Э. Хайкин, к которому он очень тепло относился (и который впоследствии стал жертвой безжалостной «идеологической» травли). В очень хороших отношениях он был с Гессеном. Среди его последних аспирантов был яростный большевик Максим Анатольевич Дивильковский. (Правда, я не думаю, что Л. И. простил ему его активное, можно сказать, руководящее участие в атаке 1936–1938 гг. на тех, кто был близок с «врагом народа» Гессеном. Вероятно, он его с трудом терпел ради его профессиональных способностей и серьезного отношения к работе.)
В повседневном же поведении Л. И. всюду, где проглядывали политические вопросы, можно было видеть только его полный абсентеизм. Он мог бы сказать, как говорили некоторые немцы при Гитлере: «Ohne uns!» («без нас!»).
Эта совершенная определенность позиции вместе с непоколебимыми нравственными устоями российского интеллигента, да еще и европейца позволила Л. И. обрести психологическую устойчивость, побеждавшую и все еще проявлявшиеся элементы нервной чувствительности его тонкой натуры (их, вероятно, никто кроме самых близких, и не замечал), и трудности существования того времени.
Последние – «московские» – двадцать лет его жизни можно считать почти счастливыми. Необыкновенная интенсивность его научной и неотделимой от нее педагогической деятельности (а что такое были его великолепные лекции, о которых говорилось выше – научное или педагогическое творчество?), сказочный рост окружавших его учеников – от аспирантов до академиков, их уважение и любовь – все это защищало его «храм» от ужасов внешнего мира, смягчало их удары. Сила его мысли не ослабевала с годами.
Показательно одно свидетельство И. Е. Тамма [2, с. 134]. Как известно, Эйнштейн, который в 1905 г. ввел понятие кванта света и потому может считаться одним из создателей принципиальных основ квантовой теории, считал созданную в 1924–1926 гг. квантовую механику (развивающуюся и плодотворную и поныне) неполной в своих основах. Чтобы доказать это он, в течение ряда лет придумывал возможные опыты, в которых квантово-механическая трактовка приводит к нелепому результату. Возникает парадокс (см. об этом также ниже, в очерке о Боре, с. 291). Дискуссия и устная, и в печати шла главным образом между ним и Бором. Углубленный анализ, в частности, в очень сложных последних двух парадоксах, неизменно приводил к их полному разъяснению, и после появления в журнале ответной статьи Бора вопрос снимался. «Л. И., – говорит Тамм, – по свойствам своего характера ничего не опубликовал в печати о парадоксах Эйнштейна, но нам, своим ученикам, он сообщал полное разрешение этих парадоксов часто через день-два после получения журнала с очередной статьей Эйнштейна». Необходимо заметить, что, рассказывая об этом в устных беседах, Тамм добавлял, что он и другие уговаривали Л. И. сообщить свои соображения в печати, но Л. И. только улыбался и говорил, что Эйнштейн и Бор очень умные люди и эти его соображения им наверное известны. (Интересно сравнить такое поведение Л. И. с его же действиями в молодости в споре с Планком, о котором говорилось выше. Может быть, именно неприятный опыт молодости и был причиной его поведения в споре Эйнштейна с Бором.)
Да, почти счастливые годы, с поправкой «только» на то, что они были заполнены достигшим апогея сталинизмом, гитлеризмом и войной, унесшей, вероятно, немногим меньше жизней, чем террор.
В Московском зоопарке есть террариум. В нишах в стене, отделенных от посетителей толстым стеклом, помещаются змеи. Вот огромный сытый питон лежит, свернувшись кольцами, и мирно спит, освещенный электрической лампочкой, низко свисающей с потолка. А под лампочкой, греясь в ее лучах, собрались мышки для будущей трапезы питона. Они, действительно, счастливы, так как не осознают ситуации. Людям 20-х, 30-х, да и более поздних годов было труднее.
* * *
Каким же был в быту Л. И. в эти «почти счастливые» годы?
В августе 1938 г. мы с женой «диким» образом проводили отпуск в Теберде, на Кавказе. Там в то время существовал очень популярный среди научных работников и, действительно, очень хороший санаторий КСУ – Комиссии содействия ученым (так называлась правительственная организация, помогавшая научным работникам в бытовых и профессиональных делах). В этом санатории тогда отдыхали Л. И., Папалекси и Тамм. Однажды, подчиняясь тягостному туристическому ритуалу, мы отправились в поход к каким-то жалким источникам. Это оказалось нелегким делом. Я уже выдыхался, когда увидел неожиданное зрелище: навстречу нам, возвращаясь, верхом на лошадях ехали Леонид Исаакович и Николай Дмитриевич. Им обоим было тогда под шестьдесят, но в седле они держались хорошо. Мы уже были каким-то образом немного знакомы, и всадники остановились, улыбаясь, как мне показалось, несколько смущенно. Быть может, теперь, через много лет, вспоминая эту встречу, я что-то присочиняю. Быть может, на ногах у Леонида Исааковича не было краг, в руках – стека, на голове – плоского кепи, но перед глазами и сейчас стоит именно такой образ – наездника с какой-то старой дореволюционной фотографии. На естественный вопрос, далеко ли нам еще идти, мы получили успокаивающее заверение: нет, что вы, не так много. И мы расстались. Сначала у нас прибавилось бодрости, но мы шли и шли и доплелись по жаре до этих источников только часа через полтора.
На следующей день, навещая в санатории Игоря Евгеньевича, я встретил Леонида Исааковича и удивленно спросил его, зачем он нас обманул. Ответом была обезоруживающе добрая улыбка и объяснение: «Если человек так устал, разве можно ему говорить, что впереди еще долгая дорога?» Но в этом можно увидеть и другое: он, видимо, не мог себе представить, что человек способен изменить свои намерения и отказаться от достижения поставленной цели. А ведь мы могли бы повернуть назад.
Прошло всего пять с небольшим лет после этой встречи, но это были тяжелые военные годы. Леонид Исаакович стал плох, не выходил из дому, очень грустил. Оставалось меньше года до конца (до 27.11.1944 г.). Сергей Леонидович сказал мне однажды, что настроение отца могла бы улучшить хорошая музыка, например квартеты Бетховена, которые он очень любил. Но тогда еще не было магнитофонов, хорошие пластинки были редкостью. Мы с женой очень обрадовались: в то время она работала в Консерватории, для занятий со студентами широко пользовалась богатыми фондами кабинета грамзаписи и не сомневалась, что заведующий кабинетом охотно даст ей на время любые пластинки – ведь до квартиры Мандельштамов от Консерватории менее полукилометра. Нужно только точнее узнать, что хотел бы послушать Леонид Исаакович. Ответ, сообщенный Сергеем Леонидовичем, был неожиданным: вообще не может быть и речи о том, чтобы взять пластинки. «Недопустимо использовать для личных нужд государственное имущество. Им могут пользоваться только те, для кого оно предназначено». Оказалось, это было «железным», не нарушаемым правилом.
Как уже говорилось, Мандельштамы жили в квартире, один выход из которой вел прямо в коридор университетского Института физики. Этим входом в квартиру весь день пользовались друзья, коллеги, ученики Леонида Исааковича, он сам и его семья. Квартира воспринималась как часть института. Но на самом деле здесь была невидимая граница. «Неужели Вы думаете, – пояснил мне Сергей Леонидович, – что если у нас не работает радиоприемник и нужно проверить напряжение на лампе, то можно принести на минуту вольтметр из лаборатории? Это вызвало бы подлинный гнев отца. Принцип есть принцип – государственное имущество неприкосновенно».
О совершенно сходном случае рассказывает близкая знакомая Мандельштамов И. О. Вильнер [2, с. 207]:
«Однажды, когда я зашла к Мандельштамам, Л. И. сказал, что, хотя он себя не совсем хорошо чувствует, ему хотелось бы поехать посмотреть теннисный матч. Так как ехать городским транспортом было для Л. И. трудно, я попыталась достать такси, но не смогла этого сделать и, вернувшись ни с чем, предложила позвонить в гараж Академии и попросить машину. Л. И. посмотрел на меня так, что я не знала куда деваться от смущения. – “О чем ты говоришь? Поехать смотреть матч в академической машине? Как это могло прийти тебе в голову?”».
* * *
Прошло много десятилетий. Многое кругом изменилось. Оказалось, что легко заменить старинные карманные часы в жилетном кармане на современные наручные электрические часы с цифровым указателем. Но «старомодные» принципы и высокая нравственность, носителем которых был Леонид Исаакович, остаются незаменяемыми, а сохранять их в чистоте оказывается не простым делом.
Так поражавший меня контраст между мягкостью его манер и совершенной определенностью, уверенностью его высказываний существовал во всем – ив жизненных ситуациях, и в общих нравственных проблемах, и в науке.
Нравственные нормы, которых он неукоснительно придерживался, – это нормы российской интеллигенции, Чехова и земских врачей. Они были расшатаны в интеллигентской среде в советские годы, иногда даже их предавали из-за господствовавшего всеобщего страха или из-за карьеристских устремлений. Но все же благодаря отнюдь не только таким эталонным их выразителям, как Л. И., многое было донесено до новых времен, как и вся великая культура страны. Какова будет их судьба в новом веке, в новой России?
ЛИТЕРАТУРА
1. Физики о себе / Отв. ред. В. Я. Френкель; Сост. Н. Я. Москвиченко, Г. А. Савина. – Л.: Наука, 1990.
2. Академик Л. И. Мандельштам. К 100-летию со дня рождения. – М.: Наука, 1979.
3. Мандельштам Л. И. Полное собрание трудов. Т. I / Под ред. С. М. Рытова. – М.: Изд-во АН СССР, 1948.
4. Воспоминания о И. Е. Тамме. 3-е изд. / Под ред. Е. Л. Фейнберга. – М.: ИздАт, 1995.
5. Махтумкули (Фраги). Избранные стихи. – М.: Художественная литература, 1948.
6. Горелик Г. Андрей Сахаров: Наука и Свобода. – Москва-Ижевск: РХД, 2000.
7. Фабелинский И. Л. // а) УФН. 1978. Т. 126. С. 124; 1998. Т. 168. С. 1341; 2000: Т. 170. С. 93; б) К истории открытия комбинационного рассеяния. – М.: Знание, 1982.
8. Singh R., Riess F. The 1930 Nobel Prize for Physics: a close decision? // Notes Rec. R. Soc. London. 2001. V. 55. P. 267.
9. Фейнберг Е. Л. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. – М.: Наука, 1992. [Расширенное немецкое издание: Zwei Kulturen. Intuition und Logik in Kunst und Wissenschaft. – Berlin: Springer, 1998.]
10. Tagore R. The Nature of Reality // Mod. Rev. (Calcutta). 1931. V. XLIX. P. 42-43; Эйнштейн А. Природа реальности. Беседа с Рабиндранатом Тагором / Собрание научных трудов. Т. 4. – М.: Наука, 1967. С. 130-132.
11. Клайн М. Математика. Утрата определенности. – М.: Мир, 1984.
12. Арнольд В. И. Математика и физика: родитель и дитя или сестры? // УФН. 1999. Т. 169. С. 1311.
13. Капица, Тамм, Семенов в очерках и письмах / Под ред. А. Ф. Андреева. – М.: Вагриус; Природа, 1998.