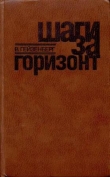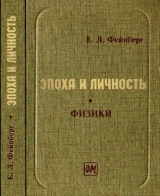
Текст книги "Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания"
Автор книги: Евгений Фейнберг
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 34 страниц)
Е. Л. Фейнберг
ЭПОХА И ЛИЧНОСТЬ.
ФИЗИКИ.
Очерки и воспоминания
Второе издание, переработанное и дополненное.


ФЕЙНБЕРГ Е. Л. Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Физико-математической литературы (ФИЗМАТЛИТ), 2003. – 416 с. ISBN 5-94052-068-2
Книга представляет собой собрание очерков – воспоминаний о некоторых выдающихся отечественных физиках, с которыми автор был в большей или меньшей мере близок на протяжении десятилетий, а также воспоминания о Н. Боре и очерк о В. Гейзенберге. Почти все очерки уже публиковались, однако новое время, открывшиеся архивы дали возможность существенно дополнить их. Само собой получилось, что их объединяет проблема, давшая название сборнику.
Для широкого круга читателей, интересующихся жизнью ученых XX века с его чумой тоталитаризма.
FEINBERG E. L. Epoch and Personality. Physicists. Essays and Reminiscences. – M.: Fizmatlit, 2003. – 416 p. ISBN 5-94052-068-2
The collection of essays includes reminiscences about some outstanding physicists with whom the author was in more or less close relations for decades, as well as some reminiscences about N. Bohr and an essay on W. Heisenberg. Almost all essays were essentially published earlier. However new times and opened archives enabled to extend them considerably. When collected they turned out unified by a single common problem, the one which is formulated by the title of the entire book.
Readership: for all those interested in the life of scientists of the XXth century with its plague of totalitarianism.
ОТ АВТОРА
В той фантасмагорической чересполосице счастливых и трагических событий, радостных и угнетающе-горестных переживаний, которая называется жизнью, и на мою долю выпали отнюдь не только несчастья, но и поразительные удачи. Оставляя в стороне даже то, что безразличное и бездушное «красное колесо» почему-то не наехало на меня, хотя проходило рядом и тяжело сказалось на судьбе близких людей, мне повезло еще в двух важнейших ситуациях, определивших мою жизнь. Одна из них имеет слишком личный характер, чтобы об этом было уместно здесь говорить. Другая же – счастливый билет, доставшийся мне в лотерее, и является причиной появления этой книги.
Дело в том, что в неразумном юном возрасте я почему-то увлекся физикой, в то время мало кого волновавшей за стенами обычной школы. После преодоления характерных для того времени трудностей (а отчасти, как ни странно, благодаря им) я в конце концов стал студентом физического факультета Московского университета (в тяжелое время и для страны в целом, и для студента, не имевшего «рабочего стажа»). К счастью, оттуда я сразу попал в ФИАН – Физический институт им. П. Н. Лебедева Академии наук. На всю последующую жизнь я оказался в атмосфере высокой науки, подлинной интеллигентности, честности и близкой мне морали. Эту атмосферу определяли люди из поколения моих учителей (впрочем, и некоторые сверстники). В течение трагических для нашей страны и ее великой культуры десятилетий эти люди сумели устоять и перед страхом, и перед искусом и сохранить себя как личности.
Конечно, такие люди тогда встречались повсюду в немалом числе – и в других науках, и в искусстве, и в литературе, и в среде не столь ярко выделявшихся носителей нашей культуры «обычных» людей, и выносивших все интеллигентов. Но здесь эта атмосфера господствовала.
Именно благодаря всем таким людям широкий разлив нашей культуры, в страшной атмосфере эпохи порой мелевший и сужавшийся, не исчез совсем под гнетом невежественных и жестоких правителей, под прессом навязывавшейся и одурманивавшей миллионы «идеологии». Именно благодаря этой презираемой и властями, и полуобразованной массой, преследуемой интеллигенции, благодаря неумирающему таланту народа, постоянно подпитывавшему эту культуру, она (пусть с безжалостно вырванными звеньями) дожила до наших дней и обещает вновь превратиться в облагораживающий и освежающий поток. Поэт Николай Глазков писал:
Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый, век необычайный,
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.
Благодаря людям, о которых я говорю, мне не пришлось взирать на ужасный мир «из-под столика». Поэтому я считаю необходимым рассказать о них то, что знаю, чему был свидетелем.
С некоторыми из этих людей я был близок, с иными очень близок. Других долго наблюдал несколько со стороны, достаточно долго, чтобы и оценить их благотворное влияние, и в то же время сохранить способность к самостоятельному суждению (они сами меня этому учили; конечно, не назиданиями и нравоучениями, а без лишних слов примером собственного поведения). Это не значит, что я не замечал их человеческих слабостей, но все это было второстепенным по сравнению с главным – с их способностью сохранить себя как личность в действительно очень уж «век необычайный».
К несчастью, тоталитаризм не ограничился нашей страной. Поэтому для меня было важно сравнить то, что было у нас, с происходившим при гитлеризме. Так появился очерк о Гейзенберге. Здесь «воспоминательный элемент», естественно, более беден. Но я долго и настойчиво собирал этот материал. Поэтому он имеет, скорее, исследовательский характер и выходит за пределы очерченной общей темы. В нем говорится и о причинах прихода Гитлера к власти, и о провале немецкой «урановой проблемы», и о других вопросах. Оказывается, все они взаимосвязаны.
Почти все очерки и воспоминания уже публиковались ранее в том или ином виде. Однако новая эпоха дала возможность существенно дополнить их материалами, на которые ранее не разрешалось даже намекать. К тому же раскрылись новые, иногда поразительные, факты и документы. Поэтому многое написано заново или существенно расширено.
Я должен принести читателям извинения за то, что в ряде случаев сказанное в одном из очерков повторяется в другом. Я старался уменьшить число таких повторов, но это удалось лишь частично. Впрочем, нужно ведь учитывать и то, что в литературе такого типа очерки отнюдь не всегда читаются подряд, и даже не все, а часто выбираются по вкусу.
Я позволил себе некоторую вольность: включил в раздел о А. Л. Минце воспоминания моей жены – В. Д. Конен, раскрывающие черты этого человека, совершенно не затронутые мною.
К сожалению, меня (пока?) не хватило на то, чтобы написать о всех столь же замечательных людях, о которых написать необходимо и о ком я мог бы многое рассказать, – о Л. И. Мандельштаме, Г. С. Ландсберге, об А. А. Андронове и других. Но пусть будет хотя бы так.
1999 год
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Второе издание отличается от первого главным образом в двух отношениях. Во-первых, добавлением двух новых очерков – одного, обширного, о Леониде Исааковиче Мандельштаме (о котором в первом издании очерка вообще не было) и другого, краткого, о С. И. Вавилове, дополняющего то, что о нем уже было рассказано. Во-вторых, очень существенно расширен очерк о Гейзенберге. В последние годы в обширной литературе о нем (в которой высказываются резко противоположные оценки его поведения при нацизме, почти всегда осуждающие его, из-за чего он подвергался остракизму со стороны западных физиков) возник новый бум из-за открывшихся ранее недоступных источников. Точка зрения автора отличается от этих оценок, даваемых людьми, не имевшими несчастья жить при бесчеловечной диктатуре. Во втором издании точка зрения автора еще более обострена.
Кроме этого, весь текст пересмотрен, исправлены замеченные опечатки и стилистические ляпсусы и по ходу текста внесены небольшие добавления, учитывающие полученные мною замечания читателей. Пользуясь случаем, выражаю всем им мою признательность. К сожалению, мне опять не удалось написать о многих, о ком написать нужно.
2002 год
МАНДЕЛЬШТАМ
Леонид Исаакович
(1879–1944)

Родоначальник
В монументальной стене Большой физической аудитории старого здания физического факультета Московского университета (еще на Моховой!) раскрылась правая дверь под запыленным бюстом Ньютона, и в зал вошел окруженный людьми довольно высокий, слегка сутулящийся, еще темноволосый, но уже стареющий человек в черном костюме. Под расстегнутым пиджаком с отвисающими из-за сутулости фигуры полами виден жилет. В жилетном кармане часы, с которыми он потом будет сверяться. На носу – пенсне без оправы, с зажимом на переносице. Мягкие щеки и подбородок. Редкие, но крупные – даже не морщины, скорее глубокие складки на щеках. В руках – плоский портфельчик. Он почти поспешно становится позади ближайшего к двери конца длинного – метров десять – стола, который отделяет слушателей от лектора. Позади него – две большие доски, покрытые черным коленкором (его можно передвигать, если, чуть согнувшись, повращать за ручку блестящее колесо справа внизу; почти всегда колесо «заедает»), и убирающийся огромный белый экран между досками. Сопровождающие (Игорь Евгеньевич Тамм, Григорий Самуилович Ландсберг, Михаил Александрович Леонтович, Борис Михайлович Гессен, философ и историк науки, – в первой половине 30-х годов декан факультета, до его характерной для того времени гибели, кое-кто еще) спешат к своим местам в первом ряду. Это ряд стульев, специально приставленных сегодня перед крутым амфитеатром, который весь – мест, вероятно, четыреста-пятьсот – заполнен до отказа и весь гудит, но быстро смолкает – обычное звуковое оформление начала лекции всеми уважаемого лектора. И Мандельштам сразу начинает.
Он говорит хотя и вполне четкими фразами, но вначале несколько скованно. Что-то извиняющееся в его тоне и даже позе будет прорываться и позже. Однако постепенно он «раскручивается» и переходит в то состояние, когда единственным, что существенно для него в мире, становятся произносимые слова, высказываемая мысль. Голос чуть-чуть в нос, негромкий, и только прекрасная акустика аудитории (позже перестроенной и, к сожалению, уже не существующей), ясность структуры и содержания каждой фразы делают этот голос воспринимаемым для слушателей даже в последних рядах. Мандельштам не оговаривается, не поправляется, он произносит только то, в чем уверен и что продумал. Но так до конца лекции и не покинет спасительный пятачок между концом стола и доской за ним. На столе лежат листки его записей, к которым он иногда плавно наклоняется или поднимает их к близоруким глазам, сняв пенсне и держа его в слегка отведенной в сторону руке. И это соединение четкости и твердости в существенном с мягкостью поведения, как мы еще увидим, характерно для него. Весь его облик – один из вариантов облика русско-европейского интеллигента предреволюционной эпохи. Все его поведение – один из вариантов поведения такого интеллигента, непреклонного в важном, понимающе уступчивого в несущественном. Выдающаяся сила ума и высокая духовная, нравственная культура позволяют ему лучше и четче других определять, что на самом деле для него существенно, а что нет. Так же вел себя в этой самой аудитории в один из близких годов Нильс Бор. И хотя черты лица у них совершенно несходны, хотя по сравнению с Мандельштамом крупноголовый, с мохнатыми бровями Бор выглядит несколько увальнем, родовые признаки общности несомненны.
Это был один из знаменитых мандельштамовских факультативных курсов тридцатых годов. Они продолжались много лет – по теории относительности, по физической оптике, по теории колебаний, по квантовой механике. В слове «факультативный» всегда звучит оттенок необязательности, сомнительной нужности. Но достаточно было начать вдумываться в то, что говорил Мандельштам, чтобы понять их необходимость для физика, желающего «дойти до самой сути».
Мандельштам читал лекции в какой-то камерной манере. Он формировался как личность в ту эпоху, когда наука вообще, физика в частности, были уделом немногих. Полутысячная аудитория, вместе с лектором обдумывающая тонкости обоснования – исторического и логического – теории относительности или квантовой механики, была чем-то новым. Обсуждаемые вопросы были к тому же в те годы у нас еще и ареной шумных боев. Хотя уже выросло поколение молодых ученых, для которых «парадоксов» этих наук так же не существовало, как не было ее в шарообразности Земли или гелиоцентрической системе мира для ученых, пришедших после Коперника, все же груз старых концепций в научной среде еще был силен. А в нашей стране «авторитетная» поддержка, которую некоторые (немногочисленные, но громогласные) физики-антирелятивисты и антиквантовики получали со стороны ряда высокопоставленных (но чрезмерно покорных официальной жесткой идеологии) философов, накаляла атмосферу. Мандельштам не спорил он спокойно объяснял. Он не боялся сам вызвать сомнение, а затем с удовольствием рассеивал его, находя точные доводы. Масштабность мысли, смелость в следовании четкому рассуждению перекрывали камерность и мягкость речи, улыбки, жестов.
Слова произносились, казалось бы, ровным голосом, но он не журчал убаюкивающе. Были значительные паузы. Были подчеркивания слов. Сформулировав какое-либо возражение в адрес теории, он обычно произносил, слегка торжествуя: «Но это не так!», – и негромкое «не» мягко подпрыгивало, с силой вдавленное в невидимую пружину.
У него были любимые поговорки, в основном вынесенные из годов обучения и работы в Страсбурге. «Hier springt der Frosch ins Wasser (здесь лягушка прыгает в воду)», – говорил он, переходя к изложению важной и тонкой мысли, разрешающей сложный парадокс. Он любил выражение «положить палец на это». Оно, по-видимому, заменяло слишком высокопарное для него евангельское «вложить персты в рану» (про Фому неверующего). Все это было несколько старомодно для молодежи тридцатых годов, но так органично для Мандельштама, что не казалось странным. Как свидетель и участник великих событий в науке, он часто не различал, чтó молодой аудитории уже не нужно объяснять, а чтó действительно трудно. Так, он подробно объяснял понятие групповой скорости пакета волн и для пояснения приводил сложный образ: плывет пароход, а из воды на корму выскакивают «мальчики и девочки», бегут вдоль парохода и с носа опять ныряют в воду. Но стоит пожалеть слушателя, который при этом объяснении расслабится и прозевает последующий тонкий анализ «ошибки Флеминга» (ее обнаружил еще в молодые годы сам Мандельштам) или не вдумается в обсуждение ограничений, которые налагает требование причинности на определение одновременности в теории относительности. Здесь будет упущено нечто важное. Это понимают и в первом ряду аудитории: А. А. Андронов, С. Э. Хайкин, С. М. Рытов, Г. С. Горелик и все другие – уже сами профессора – старательно записывают лекцию, и это потом оказывается благом.
А аудитория заполнена студентами и аспирантами не только университета, но и других вузов, преподавателями, научными сотрудниками, профессорами многих институтов. Здесь все они живут в высоком духовном мире, здесь царят страсть и радость познания, единение в постижении истины, наслаждение от братства в науке. За стенами зала страшный мир сталинской эпохи, мир лжи и лицемерия, ужас «большого террора», бесчеловечности. Здесь же чистый, честный мир глубокой мысли и доброжелательства. Прибежище личности. Храм.
* * *
Только спустя лет десять я узнал, как готовились эти лекции. Когда приступили к изданию пятитомного собрания научных трудов Л. И. Мандельштама, я получил почетное поручение подготовить к печати курс его лекций по теории измерений в квантовой механике. Материалом служили сделанные слушателями записи всех пяти лекций, прочитанных в 1939 г., и прежде всего особенно тщательные записи С. М. Рытова (свои записи я обнаружил уже после того, как лекции были опубликованы). Одна (четвертая) лекция была застенографирована. Но ни одной их этих записей, ни стенограммы Леонид Исаакович не видел и не визировал. Зато мне были вручены его сохранившиеся рабочие тетради за период 1938–1939 гг. Это были обычные «толстые» школьные тетрадки, в которые заносилось (довольно беспорядочно) многое, связанное с его работой тех лет: отрывочные вычисления без комментариев, какие-то заметки с формулами без разъяснений и среди всего этого – разрозненные куски трех нужных мне первых лекций. Леонид Исаакович писал их, выписывая полностью фразы, как будто готовил к печати. Каждый такой кусок существовал в нескольких не сильно отличавшихся вариантах. Видно было, что писал он по существу легко, готовыми, вполне литературно отточенными фразами. Было очень мало зачеркнутого или дописанного между строк. В то же время многократное повторение и варьирование целых отрывков, иногда взаимно переставляемых, отражало какую-то нерешительность, постоянное сомнение в готовности, в окончательности написанного, постоянную заботу об улучшении. Близость этих текстов к записям слушателей позволяла доверять и записям остальных лекций, относительно которых в сохранившихся тетрадях ничего не было.
Есть два типа думающих и пишущих людей. Одни разрабатывают, уточняют и формулируют самые мысли свои и их выражение в процессе писания или разговора, спора. Другие заранее все продумывают и высказываются – на бумаге или в речи – вполне законченно. Мандельштам, видимо, был ближе ко второму типу.
Характер Леонида Исааковича проступал в этих тетрадях и в таком эпизоде. Каждый академик должен представлять ежегодно личный отчет о том, чем он занимался в течение года (это делал еще Ломоносов). Академики в своем большинстве относились к этому как к не особенно серьезному делу, лишь отнимающему время. Но Мандельштам и здесь не мог допустить небрежности. Вариант за вариантом одного и того же отчета встречаются в этих тетрадях. Создается впечатление, что это пустяковое по существу дело было для него мучительно, и он считал своим долгом сделать и такой отчет, объемом в одну тетрадную страницу, безукоризненным. Запомним эту настойчивую повторяемость. Она, видимо, отражает что-то важное в его характере.
* * *
Но отвлечемся на время от этих впечатлений. Кем же был Мандельштам в науке, почему его бесконечно уважали, чуть ли не поклонялись ему его ученики и многие коллеги, соединяя это уважение с восхищением его личностью, с чувством, которое во многих случаях нельзя было не назвать любовью?
Он был не просто ученый. Это был мыслитель, для которого физика была путем к пониманию «природы вещей» (в смысле «De rerum naturae» Лукреция Кара). И в то же время – необъятным полем как разнообразных загадок, возникающих при изучении конкретных физических процессов, так и высоких тайн природы вообще, а он был неотвратимо охвачен желанием найти разгадки и понять их глубинный смысл. В оптике и электродинамике, в радио– и молекулярной физике, в квантовой механике и в теории относительности, в общих принципах познания мира – всюду.
Мандельштам принадлежал кроме того к редкому типу физиков, соединявших в себе теоретика, экспериментатора, инженера-изобретателя, педагога и философа. И «лирика»: он понимал и знал искусство, Пушкина обожал и знал чуть ли не на профессиональном литературоведческом уровне (его другом был известный пушкинист А. Б. Дерман). Вот несколько примеров.
Как теоретик он, исходя из своего опыта исследований в радиофизике и оптике, далеко разработал общую теорию линейных и нелинейных колебаний, имеющую неисчислимые конкретные приложения во многих областях физики и техники. Говорил о существовании единого «колебательного мышления». Развил общую теорию возникновения оптического изображения. Вместе со своим аспирантом М. А. Леонтовичем, на основе только что возникшей квантовой механики, открыл удивительное, парадоксальное явление – туннельный эффект (см. ниже), и т. д.
Как экспериментатор открыл (вместе с Г. С. Ландсбергом, его младшим другом, в известной мере его учеником) важное явление комбинационного рассеяния света (Нобелевскую премию получил параллельно открывший его, но не понявший его сути Ч. Раман, но об этом ниже), открыл и другие оптические явления и т. д.
Как изобретатель был обладателем почти 60 патентов, главным образом, в области радиотехники (половина из них – совместно с его другом с юных лет, занимавшимся почти исключительно радиотехникой, Николаем Дмитриевичем Папалекси).
Как педагог-ученый он не только был блестящим лектором, но (и это может быть самое важное, что он сделал для развития физики в нашей стране) создал мощную школу физиков высшего класса, главным образом теоретиков. Сравните: условно говоря, первое поколение (непосредственно его ученики и более молодые сотрудники) – выдающиеся физики А. А. Андронов, И. Е. Тамм, Г. С. Ландсберг, М. А. Леонтович, Н. Д. Папалекси, С. М. Рытов, блестящий С. Э. Хайкин, создатель принципиально новой системы радиотелескопов (сооружение первого такого телескопа было завершено уже после его смерти), оптик В. А. Фабрикант и другие. Среди них двое – талантливые профессора А. А. Витт и вначале тоже его (затем И. Е. Тамма) ученик – С. А. Шубин, успевшие уже в молодости сделать немало для науки, пока не были уничтожены в эпоху сталинского «большого террора».
Если же брать следующее поколение, «учеников его учеников», то тут идет впечатляющая геометрическая прогрессия. В школе моего учителя Тамма сформировались как ученые С. А. Альтшулер, В. Л. Гинзбург, Л. В. Келдыш, Д. А. Киржниц, В. И. Ритус, А. Д. Сахаров, Е. С. Фрадкин, С. П. Шубин и ряд других прекрасных теоретиков.
О школе Адронова, одного из основателей теории автоматического регулирования, нужно говорить, не только называя имена его ближайших учеников и сотрудников – М. А. Айзермана, Н. Н. Баутина, А. Г. Мейера и других, но и вспоминая, что он был вместе с Марией Тихоновной Греховой «отцом-основателем» института, впоследствии выросшего в мощное созвездие научных институтов в Горьком (Нижнем Новгороде), имеющее мировое значение. Здесь еще студентами слушали его лекции А. В. Гапонов-Грехов, В. С. Троицкий и много других известных физиков.
У М. А. Леонтовича выросли Е. П. Велихов, Б. Б. Кадомцев, М. Л. Левин, Р. З. Сагдеев, В. Д. Шафранов и армия не обязательно высоко титулованных, но весьма значительных ученых.
У Г. С. Ландсберга – С. Л. Мандельштам, И. Л. Фабелинский, И. И. Собельман, М. М. Сущинский, В. И. Малышев и многие, многие другие, составившие огромную созданную им школу оптической спектроскопии как чисто научной, так и необъятной по областям применения, исключительно ценной прикладной.
На всех этих (и других) школах в большей или меньшей степени можно различить легко узнаваемую мандельштамовскую печать – его научный стиль, нормы человеческого поведения. Обаяние его личности, соединявшей твердость и определенность принципов и суждений с необычайной деликатностью, мягкостью и чуткостью возникало, в частности, из-за того, как он работал с молодым учеником или коллегой. Нередко, если тот приходил к нему с сырым еще или даже неверным результатом, Л. И. начинал вместе с ним исправлять работу, но делал это так, что тот уходил от него убежденный, что все сделал он сам.
Собственно говоря, нашу теоретическую физику середины XX века создали две замечательные школы: Л. Д. Ландау и Л. И. Мандельштама, а также выдающийся теоретик мирового класса В. А. Фок (я не упоминаю здесь о более молодой третьей очень сильной школе Н. Н. Боголюбова, вначале скорее математика, которая, если не считать самого ее основателя, «вступила в игру» в физике уже после войны, во второй половине века).
Наконец, как философ Мандельштам не только исходил из убеждения, что современный физик не может не связывать свои проблемы с философскими (высказанного в неопубликованной рукописи, о которой мы еще будем говорить), но и (там же) сформулировал свою позицию в теории познания, в философии.
* * *
Однако прежде чем развивать сказанное, необходимо поговорить о реальных фактах жизни Л. И. В них можно увидеть, как резко менялись ее условия в силу событий бурного времени и как менялся он сам, пережив несколько довольно резко различающихся периодов прежде чем стал таким, каким он охарактеризован в последнее десятилетие его жизни в начале этого очерка и каким он остался в памяти дожившего до нашего времени считанного числа знавших его людей.
Леонид Исаакович родился в 1879 г., т. е. в один год с Эйнштейном, но и со Сталиным (и Троцким!). Прошло более двух десятилетий, прежде чем он восторженно почувствовал на себе мощное влияние величайшего научного гения, и более четырех десятилетий, когда на него и на всю страну легла тяжелая кровавая рука другого его сверстника.
Он вырос в Одессе, одном из немногих русских городов европейского типа с характерными особенностями портового города, возвысившегося на вывозе украинского хлеба за границу, с разбогатевшими на этом хлеботорговцами, с голытьбой грузчиков и рыбаков, с бандитами, но и с обширной интеллигенцией, с роскошным зданием оперы, где постоянновыступали лучшие певцы Европы. В Одессе, давшей вскоре стране множество музыкантов-виртуозов, завоевавших мир. И писателей, особенно послереволюционного времени, цвет русской литературы своего периода, сохранивших выдающееся значение и поныне, а также немало ученых.
Отец Л. И. был известным и процветающим врачом-гинекологом. К нему ехали роженицы со всей Украины, и в трамвае можно было услышать, как у кондуктора просят билет «до доктора Мандельштама». Детство и юность Л. И. были безмятежными.
Поступив после окончания гимназии в Одесский университет (он назывался Новороссийским), Леонид Исаакович был вскоре исключен из него за участие в студенческих политических беспорядках[1]1
Любопытно, что в автобиографии, написанной в конце 1917 г. [1, с. 68], он просто говорит: «В 1900 году я уволился с 4-го семестра и поехал в Страсбург». Оставляя в стороне некоторую неясность в датах (Н. Д. Папалекси пишет, что это было в 1899 г. [2]), следует обратить внимание на то, что Л. И. ничего не говорит о политической подоплеке своего «увольнения». Почему? Возможно, он не хотел приписывать себе «хорошее» политическое прошлое в условиях установившейся уже советской власти из самолюбия, а может быть, хотел уже дистанцироваться от нее (см. ниже).
[Закрыть] и поехал заканчивать образование за границу, как это делало едва ли не большинство российских молодых людей, увлеченных наукой. Он, как и многие, поехал в главную страну науки того времени, – Германию. Л. И. уже определился как физик, и его выбор остановился на прекрасном германском университете – Страсбургском, где физику возглавлял Карл Браун, один из основоположников радиотехники, вместе с Маркони получивший в 1909 г. Нобелевскую премию («Трубка Брауна», с соответствующими усовершенствованиями – это и осциллограф, и телевизор, и монитор в компьютере). В свое время у Брауна обучались или работали многие русские физики – П. Н. Лебедев, Б. Б. Голицын, А. А. Эйхенвальд и др. В этом университете были и выдающиеся математики. С одним из них, Рихардом Мизесом, Л. И. очень сблизился, в частности, как с единомышленником в понимании основ статистической физики и в философии. Привлекательным моментом было и то, что здесь работал Александр Гаврилович Гурвич (известный впоследствии биолог), дядя Л. И., который, однако, был старше племянника всего на 5 лет. Он на всю жизнь стал его ближайшим другом. Еще одним другом на всю жизнь стал независимо приехавший в Страсбург через 3 года тоже получать образование Николай Дмитриевич Папалекси.
Здесь Л. И. провел 14 лет и последовательно прошел все ступени научной иерархии. Он вернулся в Россию полным профессором (titular professor) в день объявления первой мировой войны.
Естественно, что его первые научные работы были выполнены по специальности Брауна, по радиофизике (неотделимой тогда от радиотехники). Это относится не только к дипломной работе, содержавшей важный для радиосвязи неожиданный результат, сделавший его сразу известным в среде специалистов. Очень скоро он стал «первым ассистентом» Брауна. Это значило, что он стал руководить исследовательской работой, раздавая темы приезжавшим в Страсбург молодым ученым со всей Европы. Папалекси поименно вспоминает 12 человек [2, с. 21].
Его научный авторитет возрастал. Когда он получил звание доцента и сопровождающее его право читать курсы лекций, на них нередко приходил сам Браун и делал записи в своей тетради. Он участвовал вместе с Брауном и в его работах (связанных с фирмой Сименс и Гальске), в практических испытаниях созданной ими системы радиотелеграфии. Познакомился с А. С. Поповым и другими русскими пионерами радиотехники.
Таким образом, Л. И. в возрасте, наиболее важном для формирования ученого, в особенности физика-теоретика, учился и работал в одном из лучших университетов мирной процветающей Европы, только в конце этого периода начавшей ощущать приближение грозных времен. Он познакомился со многими физиками, поездил по разным странам и стал в полной мере европейцем и зрелым ученым, хорошо известным научному миру. Показателем этого может служить почтовая открытка, полученная им в июле 1913 г. от Эйнштейна, который писал ему: «Дорогой господин Мандельштам! Я только что доложил на коллоквиуме Вашу красивую работу о флуктуациях поверхности, о которой мне ранее рассказывал Эренфест.[2]2
Друг Эйнштейна, один из виднейших физиков того периода, не нашедший после окончания венского университета работы у себя на родине, П.Эренфест в это время работал в Петербурге, где очень сблизился с русскими физиками и сделал много хорошего для развития современной физики в этом городе. Он сохранил эту близость и потом, после нашей революции. Эренфест очень серьезно обсуждал дискуссию Л. И. с М. Планком (см.ниже) и выражал желание приехать в Страсбург поработать с Мандельштамом, которое в конце концов однажды осуществил.
[Закрыть] Сожалею, что Вас лично здесь нет. С наилучшим приветом А. Эйнштейн». На открытке расписались еще 16 участников этого заседания (см. рисунок в [2, с. 59]).
* * *
Уже отсюда видно, что к 1913 г., к 35 годам, он далеко вышел за рамки радиофизики и радиотехники, остававшимися его «первой любовью». На этой основе вырос его интерес к теории колебаний вообще, и достигнутые здесь результаты привели к заинтересованности в других видах колебаний, прежде всего в оптике. Оптика играла тогда принципиальную для основ физики роль. С ней теснейшим образом связано возникновение квантовой физики. Именно для оптики М. Планк в 1900 г. ввел понятие квантов, т. е. порционного испускания света, а Эйнштейн в 1905 г. ввел понятие квантов света. Но тогда Л. И. заинтересовали не квантовые проблемы, а вопросы классической оптики и, в первую очередь, рассеяния света в однородной среде, например в атмосфере.
Надо представить себе «детскую» ситуацию в этой области в то время, когда эта проблема была еще во многом неясной. Показателем для читателей-физиков может служить то, что Л. И., вслед за Штарком (впоследствии нобелевским лауреатом), неправильно считал молекулы способными рассеивать свет, только если они электрически заряжены ([3, с. 121]). А между тем, рассеяние в атмосфере, считая ее вполне однородной, изучал такой глубоко почитавшийся Мандельштамом физик, как англичанин Рэлей. Сам Планк в 1902 г. опубликовал статью на эту тему. Мандельштам же в 1907–1908 гг. доказывал, что рассеивать свет плотная среда может только если плотность ее неоднородна. И это была правильная, глубокая мысль, но окончательно она была доказана гораздо позднее Смолуховским и Эйнштейном. А у Л. И., как теперь ясно, работа содержала ошибку.[3]3
Я благодарен И. И. Собельману за разъясняющую этот вопрос дискуссию.
[Закрыть]
Я прошу читателя-нефизика извинить меня за столь обширное уклонение в профессиональный вопрос. Но сейчас станет ясно, почему это нужно для понимания личности Л. И. того периода. Она удивит тех, кто знал его только гораздо более зрелым, в Москве после 1925 г.