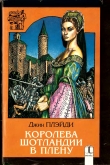Текст книги "Елизавета I"
Автор книги: Эвелин Энтони
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Кемпион с трудом поднялся на ноги. Его голова окончательно прояснилась, к нему даже вернулось прежнее остроумие:
– Прошу извинить мою неловкость, ваше величество; помещение, которое мне отвели в вашей темнице, было скроено по мерке кого-то пониже ростом, и у меня до сих пор немного ломит суставы. – Лестер улыбнулся, но королева, как видно, не смягчилась. Увидев, во что превратился Кемпион, она внезапно ощутила раздражение, а ещё больше её разгневало то, что он, молодой человек, за несколько лет превратившийся в немощного старика и одетый в нелепые лохмотья, осмеливался стоять перед ней и шутить над тем, что с ним сделали.
– Когда-то вы были моим верноподданным, – резким тоном сказала она. – Почему же вы мне изменили, Кемпион?
– Я никогда вам не изменял, ваше величество. – Его голос был ровным, почти ласковым.
– Вы папист и иезуит, и вы не считаете это изменой? Разве вам не известно, что являться сюда в сане священника и подстрекать против меня моих подданных – это тяжкое преступление?
– Я никого ни к чему не подстрекал, кроме одного – следовать заветам их веры. А если бы я этого не сделал, я был бы изменником перед лицом Господа.
– Вам запрещено сюда являться, – включился в разговор Бэрли. – Вы знали, что ждёт вас в этом случае. В Англии нет места изменникам.
– Англия – единственное место, где должны жить англичане. – Кемпион обернулся к нему.– И никакой закон на свете не в силах удержать нас от того, чтобы вернуться в Англию и служить её королеве так, как мы считаем правильным. Я не изменял ни своей государыне, ни своей родине. Я всегда любил и ту и другую, милорд.
– Если бы вы любили меня, – сказала Елизавета, – вы бы не встали в ряды моих врагов. Я когда-то была о вас высокого мнения; милорд Лестер оказал вам покровительство и рекомендовал вас для выдвижения на высокие должности. Вы могли быть в моём королевстве значительной персоной, но вы предпочли бросить всё это, бежать из страны, как затравленный пёс, и лизать ноги тем, кто меня ненавидит. Что скажете в своё оправдание, Кемпион? Вы стоите лицом к лицу со своей королевой – говорите же. Попробуйте оправдать свою измену, если сможете!
– Насколько я понимаю, следовать истине – это не измена, госпожа. Я пришёл к истине против своей воли; много лет я был слеп, точнее – ослеплён честолюбием и мирской суетой, подобно тому, как меня поначалу ослепил свет, когда я вошёл в эту комнату. Я и в самом деле мог бы быть значительной персоной в вашем королевстве, но тем самым лишился бы места в Царствии Небесном. Я, ваше величество, не могу считать себя храбрым и сильным человеком. Я боролся со своей совестью, сколько мог; в то время я действительно был изменником вам, ибо поддерживал то, что было ложно, и знал об этом. Я ваш верноподданный теперь, когда говорю вам, что римская церковь – это Церковь Христова и что истинные англичане будут являться к вам, дабы спасти вашу душу, ибо они любят и почитают вас. Виселица и дыба не поколеблют их любви. Смерть её не потушит. Пока они живы, они будут стараться обратить вас к истине; умирая, они будут за это молиться. И молиться за Англию.
– Я не для того вас сюда привезла, чтобы слушать проповеди, – сказала Елизавета. – Папа римский отлучил меня от церкви и освободил вас от присяги на верность мне. Теперь, если вы англичанин, ответьте мне на такой вопрос. Если в Англию вторгнутся враги, кому вы будете повиноваться, папе или мне?
– Прежде чем ответить, – вставил Лестер, – подумайте хорошенько, Кемпион.
Он полагал, что королева слишком спешит; духовная стойкость этого человека её разгневала. Она не желала слушать о Церкви Христовой и спасении своей души; она не желала видеть в Кемпионе человека, который имеет собственные священные идеалы, пусть даже и ложные. У неё было мало общего с этой сферой жизни, и, чтобы быть в состоянии общаться с Кемпионом, она должна была ввести его в ту сферу, где он будет ей понятен.
Но Кемпиона нельзя купить, обещав ему жизнь, если эта жизнь не будет иметь для него ценности. Сейчас он слаб и болен; нападки только заставят его упорствовать, а между тем, возможно, достаточно нескольких добрых, дружеских слов – и его решимость будет сокрушена.
– Я был о вас очень высокого мнения, – продолжал Лестер. – Я гордился вашими свершениями и гордился тем, что покровительствую вам. Я был тогда вашим другом и остаюсь им и сейчас. Поразмыслите, Кемпион. Всё, что от вас просит королева, это быть верным – обещать не оказывать помощи её врагам, если они нападут на неё. Разве это так уж неразумно? Разве не превосходит милосердие её величества к вам все ваши ожидания? Вы вернулись к себе на родину, ожидая смерти и мучений, а вместо этого ваша королева самолично принимает вас и даёт вам шанс загладить вину перед ней. И она обещает вам полное прощение и место в Оксфорде.
Он повернулся к Елизавете за подтверждением своих слов, и она кивнула. Она поняла, что Лестер прав. Этот человек знаменит и уважаем; переманить его на свою сторону очень важно. Его нужно заставить отречься, ибо, если он предаст Рим, его примеру в Англии последуют тысячи его единоверцев. Грозить ему бессмысленно. Елизавета понимала: если Кемпион выйдет из этой комнаты необращённым, его не сломят самые изощрённые пытки. Она оглядела его и спросила себя, откуда же он черпает такую силу?
– Я прошу у вас очень малого, – спокойно произнесла она. – Я не стану вас наказывать или подвергать унижениям, Кемпион. Всё, что от вас нужно, – это заверить меня в своей верности и один раз посетить официально установленную церковную службу. Всего лишь один раз. Что вы будете делать после этого и как вы сочтёте нужным молиться Богу, меня не касается. Я не гонительница чьей-либо веры; я не желаю вмешиваться в чьи-либо религиозные убеждения. Если бы все мои подданные католического вероисповедания признали меня верховной властью над собой и отвергли папскую буллу, я бы лично благословила их ходить к мессе. Вы человек известный; ваш пример мог бы утихомирить смуты в нашей стране, вы могли бы спасти от смерти многих безрассудных и неумных людей, показав им, что лучший выход – это компромисс. Дайте мне вашу руку, Эдмунд Кемпион. Поклянитесь повиноваться мне, вашей законной королеве, перед лицом моих врагов, и вы выйдете из этой комнаты совершенно свободным и прощённым.
Она протянула ему руку. На мгновение Кемпион заколебался, но королева и Лестер неправильно истолковали эти колебания, Кемпион колебался потому, что размышлял: может ли он поцеловать руку, которую она ему протянула, если собирается отвергнуть её предложение. Странно, что он, который считал себя слабым и страшился отречения под пыткой, он, который перед отправкой в Англию провёл много ночей без сна, не почувствовал никакого желания поддаться соблазну. Теоретически всё было очень просто: ему всего лишь нужно было признать недействительной папскую буллу и один раз появиться на еретическом богослужении – и он снова сможет жить у себя на родине, вернуться в свой любимый университет и спокойно предаваться учёным занятиям. Казалось бы, всё так легко; ему казалось, он чувствует, как воля трёх людей, которые находятся в этой комнате вместе с ним, давит на него, заставляя согласиться. Сильнее всех здесь была женщина – суровая женщина с умными глазами, которая не видела в нём ничего, кроме угрозы своей власти. Для неё папа был сварливым старикашкой, который вошёл в сговор с её врагами за границей. Он для неё был ничем не связан со скромным галилейским рыбарём, и она не видела чуда в том, что он и горсточка неграмотных евреев-апостолов вступила в борьбу против всей мощи языческого Рима. Она не усматривала чуда в том, что они одержали победу над этой мощью, а благодаря им христианская вера одержала победу во всём мире. Ей было легко требовать отречься от папы: для неё это было всё равно что перейти на службу к другому государю. Он не в силах будет объяснить ей, что невозможно отвергнуть истину. А для Кемпиона папа и его святость в этом злобном, алчном, погрязшем в борьбе за власть мире были частью истины, заключавшейся в вере в Божественный промысел.
Было грустно и в то же время необычайно радостно сознавать, что Елизавете нечего ему предложить взамен этого.
Кемпион приблизился и учтиво поцеловал королеве руку.
– Клянусь быть верным вам во всём, что дозволит мне моя совесть. Но она не позволяет мне отречься от власти наместника Христа и присутствовать на богослужении, которое я считаю ложным.
На минуту он заглянул ей в глаза; в них появились гнев и разочарование. Однако он успел разглядеть и ещё кое-что. В чёрных зрачках что-то мелькнуло, будто изменилось освещение. Это длилось лишь мгновение, но он это заметил. Разочарование, гнев – и сожаление. Для него теперь не было пути назад, но и для неё тоже; теперь ей ничего не оставалось, как отдать его во власть принятых ею законов.
– Что ж, будь по-вашему!
Она кивнула Лестеру и встала. В комнату снова вошли конвоиры, и, когда они заняли свои места вокруг Кемпиона, он увидел, как королева прикусила губу и отвернулась.
– Верните узника в тюрьму.
Это отрывисто бросил Бэрли, которому не терпелось вернуться домой и лечь спать. Кемпиона поспешно вывели из комнаты и отвели через парк на пристань. В плывущей по тёмным водам реки лодке он опустился на колени и стал безостановочно молиться, ощущая, как на него нисходит блаженное чувство необычайного умиротворения.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Все окна в комнатах королевы были распахнуты настежь, однако стояла невыносимая духота; в парке всё засохло, его вымощенные булыжником дорожки и каменные скамейки были так раскалены, что к ним было не прикоснуться, и даже с реки не дул ветерок. На памяти Елизаветы это было самое жаркое лето. Едва в Лондоне стали заметны первые признаки приближения летних эпидемий, она покинула Уайтхолл, а затем переехала из Гринвича в Хэмптонкорт. Это была её любимая резиденция; она очень любила богато украшенные здания из красного кирпича, просторные дворы и высокие залы, из которых открывался замечательный вид на реку и парки. Особенно королева любила аптекарские огороды и часами просиживала там с придворными дамами за вышивкой в тенистой беседке, где сладко и пряно пахло лекарственными травами. В тот день жара сделала её слишком раздражительной, чтобы отправиться на прогулку; такая погода расстраивала ей нервы и портила сон, и тем не менее она упрямо не желала позволить себе или своим придворным одеться полегче. Она сидела у самого окна, зашнурованная в платье из фиолетового атласа; его лиф, сплошь расшитый бисером и аметистами, казался усталым плечам Елизаветы тяжёлым, как стальная кольчуга. Голова, прикрытая золотисто-каштановым париком, болела; свои собственные волосы, седые и редкие, она открывала только в спальне, перед сном, и изо всех сил скрывала признаки возраста под ещё более роскошными нарядами, разноцветными париками и слоем белил и румян, для нанесения которых требовалось около двух часов дважды в день.
Рядом с ней сидела леди Бедфорд, которая обмахивала её веером, от этого Елизавете стало ещё хуже, и вскоре она отрывисто приказала ей прекратить. Она кричала на своих фрейлин; когда они ошибались или выводили её из себя, била их по щекам. Они её боялись и ненавидели, а она ненавидела их, потому что они были молоды, а её старых прислужниц оставалось всё меньше. Леди Дакр не стало уже давно, а Мэри Сидней умерла от лихорадки лишь несколько месяцев назад. Теперь вокруг себя королева видела молодые, свежие лица; этих женщин она помнила ещё маленькими девочками. Они улыбались и хихикали, всё время напоминая ей об её ушедшей молодости и с завистью наблюдая, как вокруг неё толпятся молодые мужчины. Будучи сама девственницей, Елизавета постоянно упоминала в разговорах о том, как важно сохранять чистоту и непорочность; она проявляла недовольство при виде чужого флирта и приходила в ярость, когда при ней упоминали о чьём-либо браке. Никому не было позволено наслаждаться плотской любовью, в которой королева отказала себе, – она монополизировала время и внимание всех мужчин при дворе. Расставшись с Алансоном, она считала для себя личным оскорблением видеть чужое счастье, и её мучили подозрения, что она выглядит просто смешно.
Она была эгоистична, требовательна и чрезмерно ревнива; порой презирала себя за слабость и неспособность обойтись без лести, но казаться юной и желанной стало для неё жизненной необходимостью. Без этого она не могла стоять, не сгибаясь, на той вершине, на которую взошла, а сойти с неё в пятьдесят лет Елизавета не смогла бы, даже если бы и захотела.
Она взглянула на самую молодую и красивую из своих новых фрейлин, Элизабет Трокмортон:
– Иди к клавесину и сыграй что-нибудь!
– Слушаюсь, ваше величество. – Бесс Трокмортон сделала реверанс и села к инструменту; минуту поразмыслив, она стала играть деревенскую мелодию, которая, как ей было известно, нравилась королеве. Она играла хорошо, но не слишком: Маргарет Ноллис как-то справилась с пьесой, которая показалась самой Елизавете чересчур сложной, и с тех пор та не подпускала её к клавесину на пушечный выстрел.
Отвлёкшись под влиянием музыки от мыслей о своём одиночестве, Елизавета вспомнила о родственнике своей придворной дамы, красивом и обаятельном Николасе Трокмортоне, которого хотела приблизить к себе. Ей вспомнился день, когда к ней пришёл Уолсингем и показал документы, которые доказывали, что Трокмортон – католик, замышлявший убить её и провозгласить королевой Англии Марию Стюарт. Трокмортон умер страшной смертью, предназначенной изменникам, но при раскрытии его заговора обнаружилась неприятная истина: всё больше образованных молодых людей высокого происхождения обращаются в римскую веру и становятся приверженцами королевы-узницы Марии Стюарт.
Виной тому были проникавшие в Англию миссионеры-иезуиты и католические священники, число которых росло. Их фанатизм раздувал уже потухшее было пламя старой веры, и королеве поневоле приходилось тушить это пламя кровью. Сохранять жизнь шотландской королевы было труднее, чем когда-либо, поскольку государственный совет и парламент видели в её существовании постоянную угрозу и для Елизаветы, и для самих себя. Она заменила Шрусбери на сэра Ральфа Сэдлейра и наконец поручила неблагодарную задачу охраны самой опасной узницы в Европе сэру Эмиасу Паулету. Сама Елизавета недолюбливала Паулета: то был мрачный, суровый пуританин, приверженец Уолсингема, которого было трудно упрекнуть в избытке рыцарской учтивости. Этот неусыпный страж сделал условия содержания Марии Стюарт просто невыносимыми; с тех пор как был раскрыт заговор Трокмортона, ей приходилось писать все свои письма в его присутствии, после чего он их просматривал. Благодаря бдительности Паулета Мария оказалась отрезанной от своих друзей в Англии и Испании и, можно сказать, похороненной заживо; когда она обратилась за помощью к своему сыну Иакову, который именовал себя королём шотландским, её известили, что он попросил у Елизаветы гарантий, что его мать никогда не будет освобождена. Елизавета диву давалась, как может Мария Стюарт быть настолько глупа, чтобы вообразить себе иной ответ. Неужели она верила, что узы сыновней любви привязывают к ней Иакова, который не видел её с младенчества и которому его нынешнее место на тропе матери очень нравится?.. Иаков ставил превыше всего собственные интересы и меньше всего на свете желал, чтобы его знаменитая и наделавшая столько шуму матушка вышла на свободу и потребовала вернуть ей корону.
В каком же нереальном мире жила Марид Стюарт, если она хотела опереться на своего сына и впала в пароксизм ярости и горя, услышав, что он примкнул к се заклятым врагам? Если Елизавета и вынесла какой-то урок из более чем двадцатилетнего правления людьми, то он заключался в том, что всецело полагаться на них – это безумие. Друзья и родные, возлюбленные и дети – глупо привязываться к ним сердцем, если честолюбие так легко рвёт эти привязи.
Прищурив глаза, Елизавета глядела прямо перед собой. Она правит уже столько лет, но по-прежнему не может чувствовать себя спокойно; она уже старуха, не без усилия призналась она самой себе, но той борьбе за власть, которой посвятила себя, не видно конца. Она дала своим подданным мир; они живут лучше, чем когда-либо в истории Англии, и всё же она не может почивать на лаврах и быть уверенной в их благодарности. Они готовы следовать за химерами: за титулом Марии Стюарт, за верой, защитницей которой та себя объявила, хотя всем известно, что Мария борется за власть, а не за папство – самую большую химеру из всех, которая тем не менее обрекает людей, подобных Эдмунду Кемпиону, самим идти на казнь и вести за собой множество других. Таким людям мало хлеба, мира и благополучия, и они всегда оказываются лучше тех, кто этим довольствуется. Они храбрее и благороднее окружающих её прихлебателей, слагающих песни и пишущих стихи во славу её красоты, которой она не блистала даже в молодости.
В попытках свергнуть с трона лучшего монарха за всю историю Англии (а Елизавета без ложной скромности считала, что имеет полное право претендовать на это звание) не было ничего героического, это была чёрная неблагодарность: поэтому королева ненавидела и беспощадно карала заговорщиков. Больше всего ей была ненавистна Мария Стюарт. В то время как столько друзей Елизаветы умерло, её враг, несмотря на сырость, тяготы заключения и эпидемии, продолжал жить, служа путеводным маяком для всех изменников.
– Может быть, если её не станет, я наконец-то обрету покой.
– Вы что-то сказали, ваше величество?
В размышления королевы вмешался голос леди Сазерленд, и она поняла, что, должно быть, думала вслух.
Она встала и щёлкнула пальцами, приказывая Элизабет Трокмортон прекратить игру.
– Пошлите за лордом Бэрли и сэром Фрэнсисом Уолсингемом. Когда они придут, вы можете удалиться.
Бэрли и секретарь королевы сели у окна; премьер-министра по-прежнему мучила подагра, и он докучал королеве просьбами об отпуске, которые та пока что не сочла нужным удовлетворить. Она нуждалась в Бэрли; он был осторожен, уравновешен и мудр, а то в государственном совете появилось слишком много молодых людей с утопическими идеями вроде Уолсингема, которые начинают брать верх.
– Какая жара; мне кажется, перед нами вот-вот появится дьявол! Бедный мой Бэрли, полагаю, когда я вас потревожила, вы опять спали?
– Нет, ваше величество, для этого сейчас слишком жарко. Я всего лишь читал.
– А вы, Уолсингем?
– Работал, ваше величество. Жара мне нипочём.
– Вам всё нипочём. Иногда я спрашиваю себя, человек ли вы?
Секретарь королевы вспыхнул. Всякий раз, когда у Елизаветы было плохое настроение, она вымещала это на нём. Его чувству собственного достоинства был нанесён непоправимый урон, когда он однажды резко возразил ей, а она в ответ сняла с ноги туфлю и бросила ему в лицо.
– Что докладывает Паулет относительно шотландской королевы?
– Его последний доклад государственному совету поступил на прошлой неделе и не содержал ничего нового. Её здоровье удовлетворительно, она непрерывно протестует против цензуры своих писем и бранит вас, ваше величество. Больше ничего достойного внимания.
– У него нет новостей, – внезапно вмешался Уолсингем, – потому, что Марию Стюарт слишком строго охраняют. Когда мы тайно вскрывали её почту, нам было известно, какие интриги она плетёт против нас. Теперь она ничего не знает, и мы тоже.
– Согласна, – сказала Елизавета. – Как вы правильно заметили, Мария Стюарт была нашим самым надёжным источником информации. Из-за усердия этого идиота Паулета этот источник начисто иссяк. Я полагаю, её дела для нас менее опасны, нежели её молчание.
– Если Паулет смягчится, она может что-нибудь заподозрить, – сказал Бэрли. – Нам придётся организовать передачу её писем на волю без его ведома. Уолсингем, вы могли бы найти для этого способ.
– Я всегда был против того, чтобы отрезать Марию Стюарт от внешнего мира, – напомнил секретарь. – Мы знаем, что она – заклятый враг королевы и не остановится ни перед каким преступлением против неё. Но чтобы совершить преступление, у неё должна быть для этого возможность, а чтобы покарать её, мы должны иметь доказательства.
– На сей раз, – заметила Елизавета, – вы не опережаете события. Я сумела справиться с заговором Трокмортона; следующий убийца может оказаться посноровистее. Но если первой об этом узнает королева Мария, одновременно с ней о заговоре узнаем и мы. А если она в очередной раз вступит в сговор с моими врагами и это будет раскрыто, станет возможным покарать её но заслугам.
На минуту Бэрли и Уолсингем застыли, не в силах произнести ни слова. Почти двадцать лет Елизавету уговаривали убить Марию Стюарт, и было трудно поверить, что Елизавета выбрала этот душный тихий вечер для того, чтобы наконец решиться на это.
– Если вы, ваше величество, хотите сказать, что готовы наконец послушать наших советов, мне хочется упасть на колени и возблагодарить Господа, – произнёс Бэрли.
– Я ещё не знаю твёрдо, чего именно я хочу, – возразила Елизавета. – Просто мне надоело постоянно опасаться за свою жизнь из-за этой женщины. Мне надоело слышать, что она поносит меня, все эти годы спасавшую её от смерти, что она не может жить спокойно сама и не даёт мне. Но её забывайте, я пока ничего не обещала.
– Ваше величество, умоляю вас, не нужно колебаний! – Вцепившись пальцами в колени, Уолсингем наклонился к ней; его светло-зелёные глаза сверкали от волнения. – Лишите её своей зашиты. Это змея, которую вы пригрели на своей груди! Неужели вы думаете, что она бы испытывала угрызения совести, если бы вы с ней поменялись местами? Вы были бы давно убиты рукой палача или подосланного убийцы – для неё это одно и то же. Дайте нам слово: если будет раскрыт ещё один заговор, она поплатится за участие в нём!
Елизавета смерила его взглядом; её лицо было непроницаемо. Если в её глазах и было какое-то выражение, то Уолсингему казалось, что это едва ли не выражение скуки.
– Сперва раскройте этот заговор и найдите доказательства её вины. Затем я вам отвечу.
На этом аудиенция закончилась, и двое мужчин прошли длинной раскалённой галереей мимо придворных, которые сидели, беседуя, группами возле окон, а затем через кордегардию, где расположилась личная охрана королевы из пятидесяти наёмных гвардейцев. Первым заговорил Бэрли:
– Какое сегодня число, сэр Фрэнсис?
– Двадцать третье июля, милорд.
– Запомните этот день, – вполголоса произнёс премьер-министр. – Я знаю королеву. Теперь Марии Стюарт конец...
Королеву Марию снова перевезли на новое место. Глухой зимой, когда убийственный холод и сырость в замке Татбери довели её до того, что она стала умолять Елизавету о более тёплом жилье, шотландскую королеву перевели в новую тюрьму – Чартли в Стаффордшире. Это был хорошо укреплённый дом, охранявшийся многочисленным гарнизоном под командованием сэра Эмиаса Паулета, однако его покои были удобны и хорошо отапливались, так что впервые за много месяцев Мария смогла подняться с постели. Она проводила целые дни, вышивая со своими фрейлинами или глядя из окна на пустынный парк, залитый дождём. Она никогда не смеялась и даже редко улыбалась; её угнетало предчувствие смерти, которое сделало её ещё более набожной, но отравленные ненавистью и злобой молитвы не приносили ей утешения. Сын не оправдал её ожиданий; Франция и Испания ничего не сделали для её освобождения, а из-за бесчеловечной строгости Паулета ей приходилось пребывать в мучительном бездействии. У неё не было никаких надежд на побег, никакого способа узнать, готов ли хоть один человек помочь ей, и ощущение того, что все её покинули и надеяться не на что, лишало её воли к жизни.
В сорок три года Мария Стюарт была больна ревматизмом и не могла ходить без палки, её прекрасная фигура постепенно расплылась, а волосы поседели. Это была старая, усталая, озлобленная женщина, от красоты которой не осталось практически ничего, кроме удивительных переменчивых карих глаз. Она провела в заточении почти восемнадцать лет и впервые осознала, что ей не выйти из тюрьмы живой. Враги восторжествовали над ней при жизни, но, возможно, ей всё-таки удастся вырвать из их рук победу уже после смерти. Когда Марию Стюарт перевозили из Татбери, некоторые из её слуг уволились. В присутствии своего секретаря Нау и фрейлины Мэри Сетон шотландская королева составила завещание и показала его помощнику Нау, который вскоре должен был отправиться во Францию.
– Ступайте в Париже к епископу города Глазго, – сказала Мария, – и скажите ему, что вы видели мою последнюю волю. Я официально лишаю своего сына Иакова прав на английский трон и объявляю своим наследником испанского короля. Скажите епископу, чтобы он известил короля Филиппа об этом, а также о том, что я дам этому письменное подтверждение, как только найду способ пересылать на волю письма.
Теперь, думала Мария Стюарт, пристально глядя на огонь в камине своих покоев в Чартли, если я умру, самый заклятый враг Елизаветы получит права на её корону. Теперь Филипп нападёт на неё; ничто не в силах его удержать. А если он победит, то двинется на Шотландию, где правит мой подлый сын...
Она заметила, что за ней наблюдает Сетон, и улыбнулась. Бедный Сетон; Сртон, который всё время чем-то обеспокоен, который старается ободрить её, когда она впадает в уныние, и утешает во время приступов бессильного гнева, который часами сидит рядом с ней, когда она, плача, вспоминает прошлое. Она любит Сетона; она любит Нау и его помощника Керла; она любит спаниелей, которые сидят у её ног, а по ночам спят с ней в постели. Но это мелкие и обыденные чувства, их недостаточно, чтобы оградить её от мучительных сожалений и разочарований. Самоотверженная верность этих существ не может вознаградить её за предательство Дарнли, Босуэлла, брата, а теперь и сына. Судьба жестоко обошлась с Марией Стюарт, так щедро одарив её поначалу, поманив ослепительными надеждами и заставив затем смотреть, как эти надежды одна за другой гаснут среди измены, насилия и крови. Мария Стюарт не смирилась и не успокоилась, она была не в силах простить своих врагов, живых или мёртвых; она могла утешиться, лишь попытавшись нанести им удар хотя бы из могилы.
Уолсингем не заметил стоявшего перед ним человека и ещё некоторое время продолжал писать. Когда тот переступил с ноги на ногу и кашлянул, секретарь королевы окинул его холодным взглядом.
– Полагаю, никто не видел, как вы прибыли сюда, господин Гиффорд.
– Ни одна душа, сэр Фрэнсис. Все полагают, будто я нахожусь в деревне Чартли; перед тем как отправиться сюда, я сказался больным.
Карие глаза Гиффорда избегали взгляда секретаря – он смотрел в стену. У него всегда был бегающий взгляд, а сейчас он особенно нервничал. Впервые он встретился с главой шпионского ведомства Елизаветы, будучи арестован за пропаганду католицизма, и ему так и не удалось избавиться от страха перед Уолсингемом. Гиффорд не отличался храбростью, а убеждения для него по сравнению с природной страстью к интригам были чем-то второстепенным. Он легко пожертвовал своими взглядами ради спасения жизни и поступил на службу к королеве. Он не отличался благородством, но был способным шпионом и давно преодолел угрызения совести, предавая тех, кто доверял ему, будучи в неведении о том, что он переметнулся на сторону врага. Уолсингем выбрал его своим агентом, и Гиффорд понимал: от успеха ловушки, которая готовилась для Марии Стюарт, зависит, получит ли он окончательное прощение или нет.
– Каковы ваши успехи? – спросил Уолсингем.
– Я дал королеве способ передавать письма на волю, – ответил Гиффорд. – Я сговорился с дворецким сэра Эмиаса Паулета, и он согласился провозить бумаги в бочонке с пивом, запас которого в доме, где её содержат, пополняют еженедельно. Я сказал дворецкому, что служу вам и что от его благоразумия зависит его жизнь. Первое письмо было от меня, она получила его две недели назад, и я привёз с собой её ответ.
Уолсингем прочёл поданную записку; она содержала лишь благодарность и просьбу соблюдать осторожность. Мария Стюарт просила связаться с Морганом, её доверенным лицом в Париже, и передать ей его ответ.
– Вы многого добились, – сказал секретарь. – А Морган вам ответил?
– Именно так. – Гиффорд положил на стол пакет. – Я его вскрыл, сэр Фрэнсис, но так, что никто не заметит повреждённой печати.
Уолсингем медленно прочёл письмо. Забыв на минуту о стоящем перед ним соглядатае, он вдруг издал негромкое торжествующее восклицание, а когда поднял глаза на Гиффорда, его тонкие губы всё ещё улыбались.
– Это начало нового заговора, – сказал он. – К Моргану обратился сэр Энтони Бабингтон – он просит указаний, каким образом он может помочь шотландской королеве... у него есть приспешники, такие же твёрдые в вере католики, как и он сам, и они готовы ради её освобождения пожертвовать жизнью. Всё, что ему нужно, – это инструкции. Во имя Господа, он их получит. Я его знаю – он сейчас здесь, в Лондоне! Перешлите это письмо в Чартли, а сами свяжитесь с Бабингтоном. Скажите ему, что вы агент шотландской королевы и узнали о нём в Париже от Моргана. Разузнайте всё, что сможете, и доведите до его сведения, что он должен подробно изложить свой план королеве в письменной форме и ничего не предпринимать, пока он не получит её письменного согласия.
– Положитесь на меня. – Гиффорд поклонился.
– Самое главное – получить одобрение, исходящее от Марии Стюарт, – сказал Уолсингем. – Нам известно, что Бабингтон изменник; схватить его мы сможем всегда. Нам нужна другая добыча – шотландская королева. Убедите Бабингтона не стесняться в средствах, намекните, что убийство королевы Елизаветы – единственный способ спасти Марию Стюарт. Подчеркните это особо. И заставьте его написать ей об этом так, чтобы она согласилась. Запомните, Гиффорд... – Уолсингем бросил на шпиона такой взгляд, что у того задрожали колени. – Если вы провалите это дело, то умрёте за то преступление, в котором вас обвиняли первоначально. Здесь, в моём доме, где вы сейчас находитесь, есть одна комната, где я иногда допрашиваю изменников, и я позабочусь, чтобы вы побывали в этой комнате и вышли из неё только на виселицу. Если вы преуспеете, я вознагражу вас из собственного кармана и представлю королеве.
Гиффорд кивнул. Он был бледен как полотно.
– Я уже говорил вам, сэр Фрэнсис, вы можете на меня положиться. Я исполню ваше приказание, и вы получите и шотландскую королеву, и Бабингтона, клянусь вам.