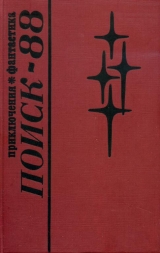
Текст книги "Поиск-88: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Эрнст Бутин
Соавторы: Лев Леонов,Павел Панов,Евгений Пинаев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Арлекин, персонаж комедии дель арте, известен мне только по работе французского живописца Сезанна. Других изображений я не знаю, а в предвоенные годы не был знаком и с этим. Я к чему клоню? А к тому, что никогда внешность Володьки, Владимира Алексеевича значит, не имела никакого сходства с тем классическим персонажем.
Настоящий Арлекин, как я понимаю, – хитрец, проныра и везунчик. По крайней мере, такой он у Сезанна. А Володька? Я не мастер на портреты, тем более словесные. Так что заранее прошу извинения за избитые сравнения и частые повторения «но», – привык к так называемым «штурманским зарисовкам», которые требуют не художественности, а стандартных характеристик.
Был Володька в ту довоенную пору молод, это естественно; не высок, но и не то чтоб низок, круглолиц, но – скуласт. Не красавец, но... В общем, здоров как бык и жилист как черт. При всем при том грузен, но не толст. Внешность – сплошные противоположности. И лишь одно не вызывало сомнения, что определялось тогдашним словечком «моща». Силенкой наградил его батька-кузнец, любовь к морю досталась от Каспия, возле которого прошло детство, а вот ноги слегка искривили конские бока. Мальчишкой был великим охотником до скачек на «диких мустангах». Не упускал случая потягаться в джигитовке со сверстниками-персюками, жившими бок о бок. И нужно сказать, именно кони были выбраны, чтобы добраться до «настоящего» моря. Году, что ли, в двадцать шестом, когда граница имела много прорех, Володька с дружком-персиенком, и тоже сыном кузнеца, перешли в Иран, присоединились к каравану и пересекли Аравийский полуостров. Родители настигли беглецов в Адене, где капитан австралийского парохода уже согласился взять мальчишек «боями». Папаши не чикались. Отлупили отпрысков и в связанном виде доставили в Пехлеви. Оттуда – к родным очагам.
То путешествие также знаменовало первую встречу с языками. С английским, в частности. И способности прорезались, но об этом позже.
Кстати, о происхождении Арлекина. В том смысле, откуда взялось это имя. Владимир Алексеевич может обижаться на меня, но я и по сю пору считаю Красотулю виновной в его нелепом прозвище. «Красотуля», между прочим, Володькино словечко. Так он зовет жену, так и я буду называть ее впредь. Тем более, присутствовал при их знакомстве и могу свидетельствовать как на духу.
...Мы с Володькой пробирались крутой узкой улочкой.
Солнце успело сплюснуться о горизонт, вечерело, но мой капитан сразу углядел у побеленной стены двух фыркающих котят. Рыжий лупил черного по усатой рожице, но было ясно – игра.
Володька швырнул в салажат щепку и даже расхохотался от полноты чувств – была у нас в тот день какая-то удача.
– Лопес! Бонифаций! Быстро ко мне! – послышалось из-за кустов инжира. Звонкий девичий голосок. И сразу же, без пауз, гневное: – Шляются тут разные хулиганы!
Мы, понятно, обернулись к хозяйке пушистых обормотов. Мать честная... Краса-девица с умопомрачительной косой толщиной в перлинь![1] 1
Перлинь – растительный трос толщиной 102—152 мм в окружности.
[Закрыть] Впрочем, все остальное тоже впечатляло.
– Вот так красоту-уля... – шепнул Володька и громко добавил с командирским металлом, что означало приказ, требующий моментального исполнения: – Старпом, поторопись на вахту, а я слегка задержусь для обсуждения с гражданкой зоологического феномена: отчего один котофей что закат в пустыне, другой – черней черноморской ночи. Лопес и Бонифаций? Оч-чень мило... – Перемахнул низкий заборчик и был таков.
Вот так он всегда – с места и в карьер. И в жизни Володька управлялся, как на мостике буксира.
Что оставалось делать? Примерился и – ударил под гору.
Естественно, через неделю весь городишко знал о состоявшемся знакомстве. И город мал, и Володька-капитан – фигура.
Несколько слов о городе.
До войны он представлял заурядное зрелище: маячок, за молом два приземистых пакгауза, выкрашенных словно бы яичным желтком, а рядом – славный особнячок управления порта. Фасад его, с претензиями и финтифлюшками, выпячивался на площадь без названия. Здесь всегда торчал обшарпанный фаэтон старого осетина Гони-Султана, имелся фотосарай Артельсоюза и самый большой в округе духан. Еще имелась набережная – «эспланада» – с пыльными вазонами, утыканными окурками, и рядом – мутный прибой. Остальная часть городка помещалась на горе, зажатая между речкой и оврагом, который назывался почему-то «ущельем», но становился таковым лишь далеко в горах. И последняя достопримечательность – лечебница-санаторий, обосновавшаяся в заброшенных хоромах какого-то купца.
Тамошние пациенты, кроме болезней, обладали воистину болезненным пристрастием к устройству всяких торжеств и празднеств. Их старались приурочить и к официальным датам, и в честь заезда-отъезда отдыхающих, а само гулянье разворачивали на «эспланаде», благо и город поставлял участников – повеселиться, подурачиться любили все: и аборигены, и строители порта, который в ту пору как раз начали расширять.
Я уважал своего капитана. Командовал он быстро и к месту, азартно, но всегда без рывков и лишних реверсов, которых, как известно, не любят механики и, само собой, механизмы. Капитан понимал машину, нутром, нервом чувствовал скорость, инерцию. Предвидел, как откликнется буксир на десяток добавленных или сброшенных оборотов. Это было искусство, а оно невозможно без красоты, помноженной на х а р а к т е р.
Не помню, из-за чего вышел спор, но ударили по рукам, что капитан за год в совершенстве овладеет английским. Ударили и забыли. Все забыли, кроме него. А ровно через год... «Хау ду ю ду, мистер Браун?», как пелось в те времена. «Мистер Браун», кажется, то был главврач санатория, даже опешил и вместо четырех дюжин пива, проигранных на пари, выставил пять. Пиво, конечно, ерунда. Но каков Володька!
Правда, как выяснилось, он лукавил, ибо начинал не на пустом месте. Помните бегство в Аден? А позже, лет в пятнадцать, работал на шхуне. Там же, на Каспии. Шхуна крохотная, а называлась «Два друга». На ней мальчишка подружился с негром Джо Иморе, сбежавшим, как он говорил, с электрического стула. Джо научил болтать на сленге, а систематизированных знаний добавил институт водного транспорта. Многое забылось ко времени заключения пари – пришлось подналечь. Занимался с капитаном порта – стариком-полиглотом, который «ставил» Володьке произношение, шлифовал слух к идиомам. Увлекался Володька английским всерьез и больше не запускал...
В самый канун Нового года на побережье обрушился свирепый норд-ост. Городишко притих, лечебница затаилась, и только мой капитан воспрянул духом: появилась надежда, что, может, не придется надевать костюм Арлекина, который сам был и вынужден сшить, чтобы предстать в новогоднем маскараде рядом с Пьеро-Красотулей. Володька, конечно, испробовал все средства, лишь бы уклониться от карнавала, но у девицы тоже имелся характер, и капитан подчинился. А тут – шторм! В такую погоду не до маскарада.
Норд-ост застал буксир в небольшой гавани южнее Туапсе. О выходе в море не могло быть и речи. Не та посудина. Даже рации не имела. Капитан отправился на почту, чтобы дозвониться до начальства: ведь и в порту наверняка беспокоились о буксире.
Посматривая на дребезжащие стекла, Володька надрывал связки:
– Алло, мне управление порта! Управление порта, говорю!.. Раечка? Май гёрл, передай всем-всем, что вверенный мне буксир гордо стоит у причала! Что значит «ближе к делу»? Принимай: упорно сопротивляясь напору стихии и не сомневаясь в надежности родного моря, экипаж все еще держится на его поверхности и в канун Нового года шлет коллективу – братскому коллективу! – порта наилучшие пожелания и трудовых успехов. Раечка, ты не уснула? Тогда передай Красотуле пламенный черноморский привет и мое величайшее сожаление-огорчение из-за невозможности участвовать в карнавале!
Однако шторм пошел на убыль. День он еще куролесил на огромном пространстве от Новороссийска до Трапезунда, ночь прошла и так и сяк, а утром тридцать первого декабря ветер стал затихать. Для малыша буксира появилась возможность выскочить за мол. Море, правда, еще билось, порой исступленно и зло, но капитан уже прикидывал в уме и на карте расстояние, размышляя о силенках буксира. Ежели врубить их на всю железку, добавить на всю катушку, а после еще наддать сверх того, то можно, пожалуй, успеть к самому разгару веселья на «эспланаде», буде таковое состоится. Но если так... Значит, «хау ду ю ду», Красотуля? Твой Володька напялит костюм Арлекина, чтобы у Пьеро – упаси боже! – не испортилось настроение в новогоднюю ночь.
...Небо прояснело. Пронзительно-колкие зимние звезды чуть высветили гребень хребта. В черном стыке берега и моря оранжево подмигивал маячок. Капитан поправил на мне одеяло и вздохнул:
– Пора готовиться к маскараду... Тьфу, к швартовке!
Именно так: «поправил на мне одеяло», ибо лежал я в койке, лежал в бинтах и примочках, помятый штормом, когда он особенно ярился три дня назад. И вот капитану пришлось доверить буксир мальчишке-штурману – старпом, то есть я, вышел из строя. Причем крепко.
Володька переоделся в тесный клоунский наряд, поправил чулки у колен и покрутил головой: каков ферт – людям на смех!
Все, что происходило вне каюты, излагаю по рассказам очевидцев. Ветер ослаб, но изредка задувал несильными порывами. Море, раскочегаренное норд-остом, однако швыряло буксир, как мандариновую корку. Заметно потеплело. Ишь, сколько народа высыпало на «эспланаду», сколько зевак толчется у вазонов! И мангалы чадят под пальмами. Быть карнавалу! У балюстрады не протолкнуться. Люди таращатся на буксир, который, что блоха, прыгает на волнах, чем не развлечение для тех, на берегу?
Возле желтых пакгаузов, к которым из последних силенок полз буксир, два портовых матроса горланили песни и передавали друг другу обмякший бурдюк. Только они не смотрели на море, только они не слышали хриплого гудка.
Капитан не видел ни бака, ни боцмана, но сразу заметил через иллюминатор метнувшийся на причал бросательный конец. Молодец, боцманюга! Изловчился и выбил легостью[2] 2
Легость – грузик, подвязанный к бросательному концу.
[Закрыть] изо рта портового абрека горлышко бурдюка. Лишь теперь швартовщики повернули головы и вскочили, сообразив, что праздник – праздником, а дело – делом, если принесло с моря какого-то психа. Они выволокли швартов на причал и потащили к ближайшей тумбе. Тащил, собственно, один. Второй, не в силах оставить бурдюк, плелся следом, подбадривая товарища советами и жестами.
Капитан поглядывал на берег, не ведая, что начинается его превращение в Арлекина.
Волна поддала в днище – буксир взбрыкнул и рванул швартов. Матрос вскинул голову – напря-ягся-я... Кажется, пена, невидимая, как у коня на Аничковом мосту, закапала с удил. То бишь с подбородка. Но разве же осилить пусть сильному, но пьяному мариману несгибаемую мощь физических законов и даже рывок маломальского судна? Нет и нет! Швартов сдернул его, как пушинку, и это до того удивило напарника, что горлышко бурдюка вывалилось изо рта. Он вроде отрезвел. Глотнул еще раз и так резво сиганул на помощь, что едва не угодил под форштевень буксира.
В любой миг судно могло раздавить людей. Времени на раздумье не оставалось, а мальчишка в рубке растерялся. И тогда на палубу выскочил... Арлекин.
«Неизгладимое зрелище!» – вспоминали позже зеваки. «Непотребное зрелище...» – сокрушался после мой капитан. Он признался, что его корежило оттого, что знает, КАК ВЫГЛЯДИТ со стороны.
А в ту минуту...
Боцман перевесился через фальшборт, приготовившись ухватить за волосы швартовщиков, как только они окажутся в пределах досягаемости. Вращая рукоять брашпильного стопора, капитан лягнул боцмана в зад – кончай ночевать! – крикнул растерявшемуся штурману:
– Лево руля! Самый полный задний!
Якорь скрежетнул в клюзе – затарахтела цепь. Нос клюнул влево, замер, но теперь заносило корму. Наконец буксир попятился от стенки. Капитан ослабил ленточный стопор и, потравливая цепь, с облегчением посматривал на ширившуюся полосу воды, из которой подоспевшие на пирс люди тащили мокрых абреков.
– Арлеки-и-ин! – раздался с берега восторженный голосок Красотули, не ведавшей, что этим возгласом навсегда закрепила прозвище своего возлюбленного.
С тех пор приклеилось: Арлекин да Арлекин. Даже песенку сочинили. В городе ее знали все, но песня – мелочь, на которую Володька не обращал внимания.
Весной он женился, а летом началась война...
Я ничего не слышал о своем капитане до тех пор, пока в одесском медсанбате не попал в руки Красотули. Заштопала мне простреленное плечо и поведала кое-что о муже. Стал капитан-лейтенантом, дважды тонул. Теперь в морской пехоте, но где? Давно никаких известий...
Мы все-таки встретились с ним. В обугленной Аполлоновке, на задымленной Корабельной стороне. Короткой была та встреча. Взвод моего бывшего капитана уходил в бригаду Потапова на Макензиевы высоты. Я успел рассказать о встрече с Красотулей, он – о гибели буксира и смерти боцмана, последнего из довоенной команды, не считая, естественно, нас двоих. «В тот день, Федор, и меня отметило в первый раз. Но, думаю, не зря поливаем землю парной кровушкой. – В глазах Володьки мерцали холодные льдинки. – И если чайки – действительно матросские души, то флотская доля велика есть на весах будущей победы...»
Со стороны Бартеньевки наползали копоть и дым, небо над Северной стороной напоминало голенище солдатского кирзача, осилившего сотни верст осеннего бездорожья. Тусклое солнце, похожее на медную заклепку, едва светило сквозь хмарь и мглу. Погано было на душе. Муторно было. Володька понял мое состояние.
– Не журысь, старпом, – ободрил он, – и помни: за нами не заржавеет.
Бухта прорастала грязно-зелеными столбами взрывов, у морзавода вскипала и лопалась земля, у собора за Южной бухтой беззвучно рушились закопченные стены белого некогда города.
Под каменной аркой древней стены показались два расхристанных грузовичка. Капитан-лейтенант поднялся и скомандовал посадку своей полосатой пехоте.
Следующая встреча на крымской земле была, если так можно сказать, односторонней. Я был ранен в голову, находился без сознания, но судьба в лице Володьки, оказавшегося рядом, спасла, когда не было, кажется, никакого шанса. Меня погрузили на подлодку, одну из последних, прорвавшихся в Севастополь.
3
...не зная горя, горя, горя,
в стране магно-лий пле-щет
море!..
Голос у певца меланхоличный и временами бесстрастный. Но есть в нем какая-то ностальгическая хрипотца – выжимает, стервец, слезу, на нее и работает. Арлекин тоже задумался и даже подмурлыкал: «И на ще-ках играла кровь...»
– Вспомнились карнавалы на «эспланаде»? – предположил я.
– Нет... Приятно, конечно, но не вспоминаю. – И, увидев мое недоверчивое лицо, уточнил: – Не хочу вспоминать. «Эспланада» и все, с этим связанное, неизбежно вызывают в памяти войну. Я, Федя, по горло сыт войною. Не жалуюсь. Мы были обязаны пройти через ЭТО, но порой мне кажется, что я всегда попадал в самые дерьмовые ситуации.
– Многие попадали... – осторожно вставил я.
– Ну-ну... С некоторых пор я и книг про войну не читаю, и фильмов не смотрю. Зачем, коли она сидит в печенках. Да что там в печенках! Что ни тронь – везде больно. Вот им, – кинул на обрыв, – было бы полезно ЭТО знать, чтобы никогда не испытать на собственной шкуре. Она у россиян хотя и дубленая, но вовсе не обязательно, чтобы ее снова испытывать войной.
Замолчал Арлекин, долго смотрел в небо и вдруг негромко запел:
Зэ сабмарин боутс уилл сайлентли хэйл ас.
Зэ полар хэлл дэпс из аур грэйв,
Зи оунли римайндер ов дэд ган сэйлорз, —
Э фэруэлл рэс он зе уэйв...
Мне далеко в английском до Владимира, но всё-таки язык я знаю достаточно хорошо и без труда понял, о чем песня. В ней говорилось, что подводные лодки молчаливо поприветствуют нас, глубина полярного ада – наша могила, а единственное напоминание о мертвых матросах – прощальный венок на волне. Что-то в этом роде.
Помолчав, он продолжил по-русски. Наверно, сам и перевел:
Мы ставим на жизнь, но не в покер, а в драке.
Коль банк не сорвем, то проглотим крючок.
Земля не сверкнет нам маячной слезою, —
Блеснет перископа смертельный зрачок...
– Вот тебе, Федя, воспоминаньице, к примеру. – Он перевернулся на бок и оперся на локоть. – Брали мы батальоном высотку. Брали раз, другой, третий... В конце концов уложил нас немец на склоне рылом в песок и расстреливал весь день. Я взводным был, а потому имел десятизарядку. Помнишь, поди, с ножевым штыком? То ружьецо очень уж боялось песка да мусора. Вот и мое заклинило, как только зарылись. Глянул я влево-вправо – рядом Семен Петухов с дыркой во лбу, а возле – безотказная трехлинейка. Приподнялся, руку протянул, а с верхотуры по мне – дурной очередью. Все, думаю, хана Арлекину, потому как на животе – каша. Чувствую, вся амуниция расползается. А кишки?! Щупаю – пузо вроде цело. Очередь, к счастью, прошла скользом, да и пули были на излете. Сколько нас осталось от батальона – не знаю. Ночью немец полез добивать оставшихся. Встретили мы его гранатами да и кувыркнулись с той бородавки. Бежим, а у меня – смех и грех! – штаны сваливаются, потому как все ремни-пуговки перебиты. Однако дую галопом. Штаны придерживаю и ружье не бросаю. Махнули аж за овраг в свои окопы и застряли в них до весны. Овраг тот за зиму трупами набили, плотненько. Ползешь, бывало, по спинам, а головы что булыжники. Где чьи – не разберешь...
Он замолчал надолго – я не торопил, – потом закончил:
– Все это, Федя, я когда-то рассказывал О’Греди. Очень уж расспрашивал ирландец. Интересовался, как мы устояли, где силы брали... Выслушал Джордж – задумался, но, вижу, все равно не понял, а ведь храбрец из храбрецов и фашистов ненавидел по-настоящему. Н-да... Так, говоришь, спрашивал про меня? Вэри вэлл – не забыл, значит, лейтенант-коммандер.
– Сейчас он кептен в отставке. А эту песенку слышал? – Я пропел: – «Вдруг – немецкий перископ. Джордж О’Греди! Джордж кричит: «Машины – стоп!» Джордж О’Греди!..»
– Слышал! – и подхватил хриплым баском: – «И английский офицер Джордж О’Греди носит орден эСэСэР, Джордж О’Греди!»
Наша встреча в Лондоне зимой сорок четвертого была короткой и сумбурной. Он рассказывал о себе вяло и неохотно. Приходилось вытягивать каждое слово. В конце концов до меня дошло, что Володька просто-напросто еще весь там и в том, что пришлось пережить во время трагического рейса «Заозерска». Но все-таки успел многое рассказать, хотя и не все – времени не было. Закончив дела до ленд-лизу, я утром улетел в Москву, а Володя был вынужден задержаться в Англии.
На север Владимир попал из госпиталя. Выковыряли из него кучу железа и хотели определить в нестроевые – взбунтовался. Сочли возможным направить капитан-лейтенанта в распоряжение флота, правда, на вспомогательные корабли.
В Мурманске обрадовались: готовый капитан танкера! Потом засомневались – в чьей-то памяти всплыло довоенное «дело» и его финал: черноморский буксир. А финал сей мог быть причиной деквалификации, то есть пусть временной, но – профессиональной непригодности. И пошло-поехало. Полезла наружу разная мелочь; кто-то (всегда найдется такой!) даже припомнил услышанное мельком, когда-то, от кого-то о странной кличке – Арлекин. Отчего, по какой причине? Отдает, знаете ли, бичкомером, попахивает, знаете ли, кабаком! Спросили самого – объяснил. Оказывается, все просто, ничего страшного, но... Деквалификация вполне возможна, значит, нужно повременить с назначением. Не коком идет – капитаном. И направили Владимира Алексеевича вторым помощником на старенький танкер «Заозерск», чем обрадовали донельзя.
Танкеру предстоял долгий и дальний путь в Штаты. Надежда на возвращение? Никакой гарантии – война...
Но им повезло. «Заозерск» в одиночку прорвался до Флориды, совершил переход в Сан-Франциско, оттуда, с бензином, сделал рейс на Владивосток; потом вернулся в Штаты, снова закачал в танки авиагорючку и снялся в Исландию, где формировался конвой на Мурманск.
Еще до Хваль-фиорда «Заозерск» много раз спасало мастерство капитана и кормовая «сорокапятка». «Фокке-вульфы» лезли настырно, танкер отбивался умело и зло. И отбился, но... погиб старпом – тринадцать пуль разорвали тело от плеча до паха. Должность досталась Володьке. При этом он по-прежнему оставался вторым, то есть грузовым помощником. С тем и пришли в Исландию, где танкер включили в караван.
Две ноши любому посеребрят виски, если учесть ситуацию и возможности старого судна. А ведь в танках у него не мазут – высокооктановая горючка, идущая по первому разряду, и значит, самая взрывоопасная. Володька знал коварные свойства авиационного бензина по прежним рейсам на Каспии и требовал с донкерманов глаза да глаза. И сам, как говорится, доверял, но проверял: осмотрел и ощупал грузовые клинкеты, разобщительные клапаны на пожарной магистрали, винтовые приводы крышек у горловин танков, не оставил без внимания самый незначительный, казалось бы, вентиль. Да есть ли на танкере, как и на любом судне, впрочем, что-либо незначительное? Едва ли. Все – в деле, все предельно функционально, иначе... Зачем на судне ненужная деталь? Словом, новый старпом, чтобы не было в дальнейшем ни малейших сомнений, проверил важнейшие узлы, включая системы заземления, вентиляции и пожаротушения, чуть ли не на карачках «пронюхал» герметизацию танков и только после этого доложил о готовности судна к выходу в море.
Капитан не имел к старпому претензий по службе, но личные отношения складывались не лучшим образом. Точнее, начали складываться, когда, вопреки строжайшему приказу «О несовместимости морской службы в условиях военного времени с любым отвлекающим моментом и о запрещении наличия такового», на танкере появился щенок. Вернее, годовалый пес. В числе прочих «моментов» перечислялись собаки и кошки, а также попугаи и обезьяны, попавшие в реестр, как полагала команда, не столько для красного словца или вящей убедительности, сколько от старческой ностальгии кепа по экзотическим портам: он немало повидал их за долгие годы, проведенные на море.
Собака появилась накануне возвращения из Акурейри, где, в помощь «сорокапятке», монтировали дополнительное вооружение. В базу ВМС «Заозерск» пришел одновременно с крейсером «Абердин», несшим флаг коммодора Маскема, назначенного командующим сформированного конвоя, выход которого откладывался вновь и вновь. Эта неопределенность, очевидно, заставила старшего офицера крейсера заняться кой-какими хозяйственными работами. «Абердин» стал кормой к швартовым бочкам, форштевнем ткнулся в причал.
На стенку из клюзов высыпали тяжелые якорные цепи; десятка три матросов принялись растаскивать их, цепляя крючьями-абгалдырями. Калибр звеньев заставлял матросов тужиться изо всех сил, как и во времена парусов и воротов-кабестанов, помогая себе тягучей, заунывной песней. Запевал верзила с вытатуированной бабочкой на правой щеке.
Прощальные крики смешались в эфире,
А «юнкерсы» снова заходят дугой...
Фрегат накренился, и вспыхнула «Мери» —
В Атлантике гибнет полярный конвой...
Матросские спины напряглись – цепь поползла пыльной змеей; голоса вторили глухо, но торжественно, хор подтягивал, хор звучал как реквием.
Ударит торпеда, и кончится Джонни...
Не нужно ни денег ему, ни наград.
О вереск зеленый, ах домик в Йоркшире!..
Могила – глубины, Атлантики ад...
Казалось, еще никогда не приходилось слышать ему такой обреченности в песне, которая должна была взбадривать, задавать ритм. Это – не «Дубинушка» с глухой угрозой и могутной силой!
Не знаем судьбы и не верим в удачу.
Судьба, что торпеда – безжалостен бег.
Рвануло у борта: «Прощай, моя Долли!»
И хлынуло море в пробитый отсек...
А может, обреченность только почудилась? Может, сказывается усталость, копившаяся месяцами, а нынче поддержанная томительной неизвестностью ожидания? Но нет...
Плывут они рядом – разбухшие трупы...
У Бена глазницы подернулись льдом.
Вот Джонни, вон Роберт, там Чарли с «Тобрука»,
Тут Питер-валлиец с фрегата «Энтрём»...
Матросы тащили концевые звенья аж за корму танкера. У Арлекина хватало время выучить каждую строчку, запомнить мотив. Песня и для него теперь звучала грозным пророчеством, в которое не хотелось верить, от которого сжималось сердце...
Слепые глазницы – вечернее небо,
И плещет волною в раскрытые рты...
Вот Джерри-везунчик, вон Робин-повеса,
А тот, обгоревший, механик с «Фатьмы»...
Матрос с бабочкой тяжело дышал, пел отрывисто и хрипло:
У Джека и Полли отцовские скулы.
Не нужно молитв и не трите глаза:
На ложе из ила прилягут матросы,
Чтоб вечностью стать, как морская волна...
Натурализм описания напоминал многое. Да-а... Видел, видел такие трупы... И гнал мысли, и сжимал кулаки, и, бывало, тер лоб, и тискал виски, схваченные холодом безысходности. А песня... Даже щенок, и тот запоскуливал. Была в скулеже просьба, почти мольба о защите. Хотелось обрести ее псу, найти хозяина, довериться человеку, но были глухи матросы, загнавшие себя в такую же собачью тоску.
Бездомный щенок и решил дело. Ну, что мы хороним себя раньше времени? И жить будем, и будем плавать! И о щенке позаботимся. Словом, нарушил капитанское «вето» – привел пса на танкер.
Кличку Сэр Тоби пес получил не за сходство с шекспировским персонажем, а только по причине заграничного происхождения. Поселил на баке – в боцманской кладовой. Капитан «Заозерска», успевший хватить досыта и «той германской» и, что естественно, нынешней, уже неделю маялся застарелым радикулитом и не вылезал из постели, но о появлении собаки узнал в тот же день. Не стоило гадать, как удалось старику пронюхать о Сэре Тоби. Смиренно и как должное принял Владимир первый разнос, но тут же произнес речь о «пользе четвероногих слухачей именно в условиях военного времени». Доверительно склонившись к больному, добавил с иезуитской кротостью: «В этих условиях собака – не отвлекающий момент, а верный друг и помощник судоводителя».
– И потом, присутствие собаки положительным образом влияет на команду, – гнул свое старший помощник.
– Мне лучше знать, что и как влияет на команду! – упрямился капитан.
Старик в конце концов смирился. Лишь поворчал, что «когда не спят собаки – спят впередсмотрящие и сигнальщики, а сие означает форменный бардак-с в вопросах службы. Значит, старпом – не тянет, вахта – спит, а капитана, допустившего это непотребство, пора на свалку». Выговорившись и растерев ноющую поясницу, он поставил непременное условие: «Пес не должен появляться в жилых помещениях и писать в коридорах, но если с этого... Сэра Тоби? придется спрашивать службу, как с матроса, извольте поставить пса на довольствие и обеспечьте уход...»
Наконец появились признаки скорого выхода в море.
Матросы «Абердина» торопились закончить работу. На причале их толклось не менее полусотни. Скребки и стальные щетки обгладывали ржавчину до девственного металла, но кисти тут же прятали праздничный шик-блеск под каменноугольную смолу. Окраской цепей командовал знакомый матрос с бабочкой на щеке. К нему и обратился Арлекин, когда понадобилось немного черни для судовых нужд. Матрос нацедил краски. Возвращая кандейку, спросил о собаке и остался доволен ответом. Пес пристроен, накормлен, что ж еще надобно? Сэнк’ю, мистер чиф-мейт!
– Пойдете под нашей охраной, сэр, – бабочка сморщилась и собрала крылышки; голова на кадыкастой шее качнулась в сторону орудий крейсера, – в обиду не дадим. Британцы, сэр, любят собак, но иногда, – он усмехнулся, – не забывают и друзей.
– Ол райт, камрад, – подыграл русский старпом, – мы тоже любим тех и других. Заходите в Мурманске – угостим от души, по-русски.
– Мы – крейсерское прикрытие и вряд ли пойдем дальше Медвежьего, где караван примут русские эсминцы.
– Ну что ж, спасибо вам, англичанам, и за это!
– Я – шотландец, сэр, – возразил матрос.
– А я – русский. Владимир. – И протянул руку. – Рад был познакомиться с вами.
Матрос растерянно глянул на него – офицера! – но все-таки решился, ответил рукопожатием:
– Роберт Скотт... – И привычно добавил: – Сэр!
Трое суток как покинули Исландию.
«Заозерск» последним выполз из Хваль-фиорда и занял место в походном ордере. Корабли охранения рыскали, по-собачьи принюхивались к туманчику и чем-то напоминали Сэра Тоби, которому непривычная для этих широт осенняя погода доставляла, если так можно выразиться, бодрое и чуткое удовольствие. В туманной кисее было что-то нереальное. Не разобрать, кто поджидает за ней. Ясно одно – кто-то все равно ждет, но враг или друг?
Сэр Тоби равнодушно поглядывал на фрегаты и эсминцы, не подымая головы с мосластых лап. Зато моряки «Заозерска» смотрели на корабли конвоя уважительно, с одобрением прислушиваясь к гулу их турбин. Реальная боевая мощь внушала веру в благополучный прорыв: все надежды возлагались на огневой заслон эскорта. Хоть и появились на средней надстройке танкера пулеметные установки на турелях, хоть и укрепили в Акурейри фундамент «сорокапятки», но... пушка все равно – пукалка, по самолетам из нее не шибко бабахнешь, а пулеметные установки, скорее, для самоуспокоения. Так считали. И зря.
На пятые сутки, когда из бликучей кисеи, слегка голубевшей в зените, выскочили «юнкерсы», Сэр Тоби первым облаял грохочущих ящеров. Откликнулась «сорокапятка». Ударила, не поспевая за пулеметами, зазвенела дымящимися гильзами, и... ящеры с черными крестами начали забирать вправо. На развороте их перехватил подоспевший фрегат «Черуэлл» и «эрликонами» зажег одну из машин. Остальные волной прокатились в стороне и принялись клевать ядро каравана.
«Заозерск» сбавил ход и чуть-чуть, самую малость, подотстал, готовый, впрочем, в любой миг рвануться вперед. Так и пришлось сделать, когда «юнкерсы» решили долбануть его на отходе. Отогнали пулеметами. Своими и фрегата, который все время держался в хвосте ордера.
В общем, пока везло. Пилоты, уверенные, что в любой момент успеют зажечь из одинокого танкеришки факел, не слишком настырничали вначале, а после не успевали. К тому же их соблазняли крупные суда.
Дымы над караваном почти не сносило. Они поднимались столбами, подпирая вздрагивающие колбасы аэростатов – заграждения. Наверху расплывались грязные шлейфы; в гуще сухогрузов взрывы и пламя рождали мощные завихрения, которые разбрасывали над морем густую копоть, скрывающую очертания судов.
Однажды «Заозерск» едва не врезался в задранную корму «Тайдрича». Топки парохода еще не погасли, котлы давали пар. Винт исступленно вращался, работал вразнос. «Заозерск» успел отработать задним, когда палубу «Тайдрича» вышибло взрывом. Корпус встал торчком и в какие-то секунды скрылся под водой, швырнув в небо свистящий мутный гейзер. Он тут же опал, воронка всосала клочья пены и выбросила новые, а с ними – расщепленные доски, мусор и несколько трупов, которые терлись головами, будто уговариваясь о чем-то...








