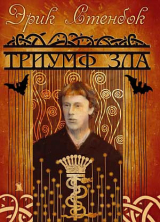
Текст книги "Триумф зла"
Автор книги: Эрик Стенбок
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Прежде я похвалялась своей наблюдательностью. Но следует признать, что Маргарет так и осталась для меня загадкой. Она могла просидеть почти весь день перед катафалком, читая молитвы. А ведь она никогда не производила впечатления религиозного человека. Религия для нее состояла из воскресных посещений Messe des Paresseux[54], куда они с Альфредом неизменно опаздывали, хотя церковь находилась неподалеку, тогда как Генри брал Сибу с собою в церковь ежедневно в утренние часы. После первого всплеска эмоций Маргарет сохраняла ледяное спокойствие. Но вот чего я совсем не понимала; увиденное мной убедило меня в ее искренней любви к мужу. Почему же тогда она предпочитала общество Альфреда? Не сказать было, что она любит его; она попросту держалась с ним слишком по-дружески. Я часто видела, как она по утрам, пренебрегая всеми convenances[55], входила в комнату Альфреда в наброшенном халате или пеньюаре, что казалось очень странным для женщины, придававшей своей внешности такое значение. И я ни разу не замечала, чтобы она входила в номер Килкорана, где спал также и Сибу, няня которого по причине ненадобности получила расчет. Они с Альфредом часто отлучались вместе. Оказалось, что они сделали все распоряжения насчет похорон: погребение должно было состояться в следующий четверг. А за день до того, войдя в комнату, чтобы присмотреть за ребенком, я услышала слова Альфреда:
– Наконец-то все улажено; через год мы встречаемся в Брюсселе и вступаем в брак.
Маргарет дала ему любопытный ответ:
– Да, я думаю, Генри бы это одобрил.
Однако в тот же день мне довелось услышать нечто большее.
Глава VIII
Вечером ко мне в номер пришла Маргарет. В руке ее был запечатанный конверт с надписью: «Для Элизабет, в случае моей смерти».
– Подождите, Элизабет, и послушайте, что я хочу сказать, – произнесла она. – Это письмо моего мужа к вам: думаю, я догадываюсь о его содержании. Но прежде, ради Бога, выслушайте мой рассказ.
Меня это удивило: я не ждала от нее подобной доверительности.
– Я должна выложить вам всю правду, – продолжала она. – Возможно, вы станете жалеть меня. Возможно, испытаете отвращение и презрение. Скорее всего, последнее.
– Не знаю, почему, – отвечала я, – но, скорее всего, именно жалость. Во всяком случае, вам стоит рассказать мне все.
– Перед тем, как начать, могу ли я задать вам один вопрос?
– Пожалуйста, – ответила я. – Столько, сколько вам будет угодно.
– Вопрос таков – ведь вы были замужем – любили ли вы вашего мужа?
– Нет, – ответила я, – в этом смысле нет. Определенно он нравился мне. Видите ли, я была очень молода, без семьи и средств к существованию, и попала под опеку невыносимой старой тетки; и я была только рада принять предложение первого мужчины, чтобы вырваться из этой неволи. Это оказалось не так уж и плохо, как можно было ожидать. Однако страсть в моем браке отсутствовала напрочь, если вы именно это хотели знать.
– Что ж, – сказала она, – в моем браке страсть была. Поэтому вам не понять, как сильно я любила Генри.
– Человеку возможно понять то, через что он сам не проходил, – возразила я.
Ее глаза, цветом напоминавшие сапфир, внезапно приобрели переливчатый оттенок, который можно встретить лишь на Адриатическом море. Она продолжила:
– Старое выражение: «Я целовала землю, на которую ступала его нога» точно подходит к моему случаю. Все, чего бы он ни коснулся, становилось для меня реликвией. Я ревновала его к коту, к собаке – даже к стулу. – Она попыталась рассмеяться, но глаза ее наполнились слезами. – Чтобы не томить вас долгой историей, – продолжала она быстрее, собравшись с духом, – как-то мой муж поехал в Бельгию по делам: и они привели его сюда, в Остраке. Он вернулся в сопровождении юноши по имени Сибрандт ван ден Вельден. Вам наверняка знакомо это имя, – быстро добавила она, продолжив с деланным равнодушием: – Тогда он уже подавал большие надежды в музыке, и многие прочили ему блестящую карьеру. – Она громко засмеялась, но смех прозвучал хрипло и жутко; слезы на глазах высохли. Смотреть на нее в этот миг было страшно. Приложив усилие и становясь прежней, она продолжила свою историю: – По словам Генри, тот совсем переутомился за своей учебой и поэтому был приглашен погостить в Килкоран. Должна сказать, что поначалу он мне понравился. Он прекрасно играл, был умен и довольно привлекателен. Но, как я уже говорила, моя ревность не знала границ. Если меня раздражало, когда Генри гладил кошку или собаку, то можете представить мои чувства, когда этот мальчишка буквально завладел всеми мыслями Генри. Я возненавидела его той тихой ненавистью, в которой таится сатана. Я захотела отомстить.
С едва уловимой, неприятной улыбкой она продолжала:
– У меня это получилось. Разве нет? Считается, что месть сладка. Едва ли последствия моей мести были сладки. – Она зло рассмеялась. Ей потребовалась пауза, чтобы успокоиться, и она заговорила жестким сухим голосом: – Вы знаете, что женщина может сотворить с молодым впечатлительным мужчиной. А ведь в то время меня нельзя было назвать непривлекательной. – Да, «непривлекательной» в ту пору ее назвать определенно было нельзя; представляю, какова она была тогда. Голос ее стал еще жестче и суше: – Моей целью было, чтобы Генри обнаружил измену своего дружка. Тогда он, возможно, убил бы его. Меня бы он убил тоже, но меня это не волновало. Я горела желанием быть пойманной in flagrante delicto[56], и, по крайней мере, я этого достигла.
– Генри сказал, – продолжала она без выражения, – «Что же, дорогая Маргарет, вы вольны поступать, как вам заблагорассудится. Вас же, Сибрандт, я попросил бы, когда вы приведете себя в порядок, зайти ко мне в кабинет». Я надеялась, что месть моя удалась: каково же было мое удивление, когда вечером я увидела Сибрандта за столом, как будто ничего не случилось. А пыл Генри к нему только возрос. Было ли это местью, измышленной его утонченным умом, – заставить меня увидеть воочию мой грех? Уж он-то знал, что я любила лишь его одного. Этого я так и не узнала. Моя месть пошла еще дальше. У Сибрандта было больное сердце. – Я удивилась, увидев румянец на ее бледном лице. – Вы жена врача, – с заминкой пояснила она, – и должны знать, что некоторые физические усилия могут оказаться смертельными. Как бы там ни было, – произнесла она с жутким истерическим смешком, – Сибрандт умер! – Мне показалось, что она вот-вот впадет в истерику – и приготовилась оказать ей помощь, насколько это позволяли мои медицинские познания; ведь в подобных обстоятельствах такая вещь может произойти самым естественным образом. Но нет, она спокойно и едва улыбаясь продолжала: – Полагаю, вы не понимаете, зачем я рассказываю вам все это. Милой эту историю не назовешь. Однако я уверена, что в письме говорится, что Генри – не отец Сибу, и что вы – единственная наследница поместья Килкоранов. Не знаю, что там сказано про меня. Не сомневаюсь, однако, что он оставил мне, сколько можно: и все же я решила, что вы должны узнать правду сначала от меня. Потерпите немного и позвольте мне закончить. Мы с Генри продолжали жить вместе. Он всегда по-доброму относился ко мне и не делал никаких намеков. Но мы перестали жить супружеской жизнью. Он предоставил мне делать все, что хотелось. Вы сами видели, он даже не возражал против моей связи с Альфредом. – Она засмеялась тем же ужасающим смехом: а затем, воздев руки, вскричала страдальчески:
– О, Генри!
Здесь не выдержали даже ее крепкие нервы, и она рухнула на пол в глубоком обмороке.
Глава IX
Вскрыв письмо Килкорана, я прочитала следующее:
«Моя дорогая Элизабет,
Я давно хотел открыться Вам, однако не находил в себе мужества. Мне известно, что Вы не верите в сверхъестественное, но в последнее время меня преследуют мысли о моей близкой смерти. Вчера вечером Вы назвали Сибу маленьким виконтом. Именно поэтому я и решился написать Вам. Возможно, мое предчувствие обманывает меня; тем не менее, элементарная честность побуждает меня сказать – он не мой сын. Это к Вам перейдет все мое наследство. Хотя бы из милосердия прошу Вас отнестись к ребенку с добротой. Сказать большее, Вы, с Вашей наблюдательностью, наверняка заметили, что он похож на Маргарет. О манерах здесь и речи нет, но разве суть в манерах? Помню, что недавно я настаивал на том, что суть не важна, важны манеры. Здесь манеры не важны, все дело в сути – для меня и для Вас.
Позвольте мне обойтись без дальнейших предисловий. Вы мой друг – и справедливости ради я должен подробнее рассказать Вам обо всем: менее всего Вы должны осуждать Маргарет, чья вина несоизмеримо меньше моей. Мне необходимо сделать позорное признание, но, как я уже сказал, Вы мой друг и не осудите меня строго – по крайней мере, слишком строго. Я боюсь, что Вы возложите всю вину на Маргарет. Зачем я это пишу? Нет, не хочу начинать все заново. Оставлю все, как есть. Итак, продолжу, где остановился. Не вините ее. Вот пытаюсь объяснить, но никак не получается.
Я лучше изложу всю историю вкратце. Ибо, как сказано, Вы мой друг и моя двоюродная сестра. Было так: я приехал в Бельгию по делам жены и здесь, в Остраке, познакомился с Сибрандтом ван ден Вельденом, чье имя Вам знакомо, ибо недавно Вы упоминали его. Тут я подхожу к теме, в которой женщины ничего не понимают; конечно, это не относится к Вам. Ну и мешанина у меня выходит. Но примите ее со словами Понтия Пилата: «Что написал, то написал». По крайней мере (кажется, я уже неоднократно повторил эти три слова), попробую продолжить и просто пересказать всю историю. Но и тут необходимо сделать небольшое отступление. Я написал, что женщины этого не поймут, по крайней мере (повторюсь опять), я видел, как Вы были захвачены его музыкой – его божественной музыкой. Чего Вам не понять, это того, как я был захвачен его невероятной красотой. Волосы его завивались, как усики винограда, глаза его были фиолетовы, по-настоящему фиолетовы… Боже! К чему я занимаю Вас описанием его внешности. Завтра я напишу приличное письмо, а это пусть останется черновиком. Ну и вот (сохраню-ка я все, как есть), я взял Сибрандта с собой в Килкоран, о котором Вы слышали и которого еще не видели, хотя надеюсь, что скоро увидите.
Его все больше и больше влекла моя жена. Здесь начинается самая позорная часть.
Вместо вполне ожидаемого негодования я всячески поощрял их связь. У меня не было ребенка, а я его очень хотел. Сибрандт страдал болезнью сердца, от которой можно умереть в любой момент.
Я любил Сибрандта, любил больше своей жизни или даже его собственной, что я Вам еще попытаюсь объяснить. Никого еще я не любил так сильно, как Сибрандта. Меня постоянно мучила мысль, что Маргарет станет ревновать его ко мне, и поэтому был рад, что они сблизились друг с другом. И тогда у меня возникла порочная мысль.
А почему бы и нет?
Я уже, кажется, говорил, что у меня не было детей. Сибрандт мог умереть в любой миг. Отчего бы ему не породить сына, похожего на себя?
Я не виню Маргарет. Разве не естественно было привязаться к Сибрандту, никто не смог бы удержаться. Позвольте повторить, ее искушение было слишком велико. Я этому не удивляюсь.
В любом случае, результат налицо.
Мой ребенок! Да! мой! дитя пусть не тела, но души моей. Он похож на Сибрандта, и у него чудесные золотые локоны матери. Волосы Сибрандта были бронзового цвета.
Я чувствую близость смерти и поэтому рассказываю Вам все.
Извините меня за эту многословную чепуху. Мне хотелось разорвать это письмо. Но зачем бы я тогда писал его? Ведь я снова совершу все те же глупые ошибки, и я должен написать это письмо, ибо я знаю, что бы Вы ни говорили о предчувствиях, – я умру в ближайшие два дня.
Элизабет, будьте добры к бедному маленькому Сибу. Не отвергайте его, хотя он и так отверженный. По крайней мере, это не его вина. Вы были добры к нему, и я верю Вам. Дозвольте моему ребенку – повторяю, моему – быть под Вашей защитой; оградите моего – повторяю, моего единственного ребенка – от всякого зла.
Вам не знакомы католические молитвы, но, возможно, в Вашей службе тоже используют эти строки из Псалтири: «Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою»[57].
Элизабет!
Разумеется, Вы не станете молиться за меня после моей смерти. Ваша религия не признает молитвы за упокой души. Возможно, помолится Маргарет.
Я рассказал Вам все, что должен был рассказать.
(Подпись)
КИЛКОРАН»
Постыдные признания возмутили меня до глубины души. И с такими людьми я жила бок о бок и поддерживала дружеские отношения. Мне тут же захотелось пойти и проведать ребенка, которого я отныне считала своим подопечным. Он спал на полу, его рука лежала на руке отца (теперь-то я знала, что он не был его отцом: но ведь он сам пребывал в неведении, и разве нужно было разубеждать его невинные представления?)
Так он и лежал, и при свете свечей, стоявших подле гроба, его длинные ресницы бросали тень на щеки.
Я протестантка и практичная женщина: настолько практичная, что сразу подумала, что он легко может сбить во сне один из подсвечников и устроить пожар в гостинице. Но то была мимолетная мысль. Клянусь, если бы какой-то художник рисовал образ спящего младенца-Иисуса, он не нашел бы лучшей модели. И это дитя я должна была лишить наследства.
Нет, никогда!
Ему незачем было знать о том, что я одна и знала.
Однако я не могла отдать его под опеку женщины вроде Маргарет. Тем более, что письмо Килкорана наделяло меня в этом смысле определенными полномочиями.
Глава X
Похороны состоялись на следующий день.
Чтобы немного отвлечься, я совершила прогулку по городу. Первым, что мне попалось на глаза, было объявление о смерти Килкорана – нелепый панегирик о достоинствах покойного и его заслугах перед большим, важным городом Остраке. Я не была настроена юмористически, скорее саркастически. Статья заканчивалась так:
«Торжественная панихида состоится завтра в церкви Нотр-Дам: нам доподлинно известно, что оркестром в полном составе будет исполнен «Реквием» нашего прославленного соотечественника (или как он был там назван, «citoyen») Сибрандта ван ден Вельдена. Партию первой скрипки будет играть синьор Сарини (кажется, так), в связи с чем рекомендуем любителям музыки посетить указанное мероприятие, даже если они не являются друзьями покойного. Погребение назначено на четверть двенадцатого».
Каким образом здесь вновь оказался Сибрандт ван ден Вельден? Довольно несчастий от него было при жизни. Почему же на погребении Килкорана опять навязывают его музыку?
Из похоронного бюро прибыли croquemorts[58]. Мальчик по-прежнему не отходил от тела. Альфред положил руку ему на плечо и очень ласково, хотя и с толикой цинизма, которую я всегда ненавидела в его манере говорить, произнес:
– Малыш, они пришли забрать папу. Теперь твоим папой буду я.
– Нет, нет, нет, нет! – прижимаясь к телу, вскрикнул мальчик.
Тогда Маргарет, выглядевшая неестественно спокойной, если учесть всплеск эмоций ночью, сказала:
– Сибу, дорогой, папу должны похоронить, и мы вернемся в Ирландию.
Внезапно ребенок оторвался от отца, подбежал ко мне, обвил меня руками и со слезами на глазах взмолился:
– Тетя Элизабет, ведь вы не дадите им увезти меня? Вы ведь позаботитесь обо мне?
Должна сказать, я не верю в сверхъестественные явления и тому подобное, но в тот момент меня не могло не поразить совпадение последней просьбы Килкорана, прочитанное прошлой ночью, с просьбой мальчика.
– Да, мой дорогой, – в порыве чувств ответила я, – я позабочусь о тебе.
И посмотрела на Маргарет, которая бесстрастно произнесла:
– Мне кажется, Элизабет, если вы не против, так будет лучше всего.
Я сказала, что опасалась за рассудок ребенка. Сейчас он вел себя разумно и все полностью осознавал.
Croquemorts забрали тело, и мы отправились в церковь. Сибу держал меня за руку. Маргарет казалась противоположностью Галатеи, словно обратившись в статую. Ее бледная кожа, оттененная траурным платьем, напоминала мрамор.
Затем был «Реквием».
Сама церемония, без сомнения впечатляющая для тех, кто в этом разбирается, для меня не имела никакого смысла: но музыка – определенно я была несправедлива к Сибрандту ван ден Вельдену, отозвавшись о нем как о просто неплохом композиторе – это его произведение было восхитительно. Это было откровение! Каким же гением он был и мог бы быть, если бы – нет, кровь закипает в моих жилах при мысли о том, что человек с такими изумительными способностями был Парисом для развратной женщины и Антиноем для распутного мужчины.
Музыка очень взволновала Сибу, особенно вначале. Глаза его загорелись при звуках того, что, кажется, называется Жертвоприношением. Особенно мне запомнились слова: «Libera eas de ore leonis»[59], которые исполнял высокий скорбный дискант в сопровождении серии нисходящих хроматических гамм, что завершилось одной долгой, низкой вибрирующей нотой словно бы виолончели – хотя на самом деле это плакала первая скрипка. Описать невозможно – ибо невозможно передать словами музыку, – почему при прослушивании у меня возник образ змеевидно переплетенной хроматической гаммы, напоминающей монограмму? Но такие ощущения достойны запечатления, ибо только так и можно передать взаимодействие различных искусств. И эта торжественность хоровых серебряных труб. Я была настолько поглощена музыкой, что упустила момент, когда ребенок потерял к ней интерес. На лице его появилось туповатое, равнодушное выражение, и чуть позже, когда похоронный кортеж двинулся к кладбищу, он погрузился в полнейшую апатию, тогда как я ожидала и боялась бурного проявления чувств. Он молча позволил отвести себя за руку на кладбище и обратно в гостиницу. Там он опустился на стул и застыл. Маргарет и Альфред куда-то исчезли. Я думала, они следуют за нами. Необычное поведение ребенка настолько отвлекло меня, что я совершено, забыла о них.
Они пропали бесследно. Я ожидала, что Маргарет хотя бы придет посмотреть на ребенка. И, конечно, не была особенно удивлена, когда она не появилась и за ужином.
Очевидно, горе придавило ее. После некоторых колебаний я решила подняться в ее комнату и спросить, нужна ли моя помощь. Хотя ее ночное признание вызвало у меня к ней отвращение, как Маргарет и предполагала, все же я испытывала к ней огромную жалость. И у меня было время для размышлений.
Подойдя к ее двери, я тихо постучала; потом громче и, наконец, отворила дверь. Внутри было темно и не было ни души. В коридоре появилась горничная.
– Мадам упаковала вещи и уехала в Брюссель четырехчасовым поездом, – сообщила она. – А месье уехал в другом направлении двумя часами раньше, не знаю, куда именно. – Вспомнив что-то, она достала из передника конверт: – Мадам la Comtesse[60] просила передать вам письмо.
Глава XI
Вот что говорилось в письме:
«Моя дорогая Элизабет,
После того, что произошло между нами, Вы наверняка поймете, почему я избегаю устных объяснений.
Вы обещали позаботиться о моем ребенке, и я знаю, что Вы сдержите ваше слово. Я еду в Ирландию уладить оставшиеся после мужа дела. Покуда это не сделано, я не смогу сказать, какая сумма Вам причитается. До прояснения всех обстоятельств я буду посылать Вам ежемесячно по двести фунтов и прошу в ответ хотя бы парой строк на почтовой открытке извещать меня о здоровье и состоянии моего ребенка. Возможно, Вы не откажетесь время от времени писать мне.
P.S. Мой адрес: замок Килкоран, Голуэй, Ирландия.
Ваша
Маргарет Килкоран».
И как прикажете отнестись к такому письму, особенно после того, что случилось? Я дважды переписывала ответ, оставив его без приветствия:
«Вы что же, полагаете, что я возьму хотя бы грош из ваших денег? Я не нуждаюсь и не вижу никакой причины сообщать ребенку о том, что он не является наследником поместья Килкоранов.
Полагаю, вы никому больше не раскрыли своих постыдных тайн. Обещаю, однако, каждую неделю извещать вас о здоровье ребенка. Сейчас, к моему сожалению, выглядит он неважно. Надеюсь, что в следующем письме смогу дать вам более благоприятный отчет.
Элизабет Рэнделл».
Глава XII
Постепенно мне открылась пугающая истина – ребенок лишился рассудка. В какой-то миг – наверное, во время «Реквиема» – разум покинул его. Он остался послушен и благонравен, но погрузился в полную апатию. Его чудесные глаза утратили блеск. Он все время молчал, лишь иногда бормотал что-то себе под нос и только после долгих уговоров соглашался поесть.
Как же болело мое сердце за это дитя! Подумать только, что в ковчеге его прекрасного тела больше не обитает душа. По крайней мере, так казалось. Иногда он реагировал на ласки; особенно если гладили его прекрасные золотистые волосы, мягкие, завивающиеся на кончиках, с налетом серебра, – самые чудесные волосы, которые я когда-либо видела.
Тогда он довольно улыбался, изредка невнятно бормоча, словно курлычущий во сне голубь. Так его ласкал Килкоран. Вероятно, мальчик вспоминал его. Хотя вряд ли он что-то помнил. Тем не менее, ему хватало ума вести себя достойно в быту и прекрасно ориентироваться в пространстве. Он никогда не путал комнаты. Просто он был апатичен; он мог часами сидеть в одной позе, но позволял отвести себя в прогулку по городу и ближайшим окрестностям; ходил он прямо и уверенно, но ни к чему не проявлял интереса. Все время приходилось присматривать, чтобы его не переехал автомобиль. Однажды это едва не случилось. Моя дочь лишь на мгновение отпустила его руку, и его чуть не сбило несущееся на полной скорости такси. Любопытно, но при его абсолютной апатии, едва мы проходили мимо церкви, он каждый раз тянул меня туда, а внутри автоматически зачерпывал святой воды и обязательно преклонял колени перед алтарем. Иногда он садился, иногда становился на колени, – всегда с полным безразличием. Наверное, он мог бы стоять так сутками.
Но после консультации с лучшим специалистом в Бельгии у меня появилась надежда, что звуки музыки могут пробудить в Сибу разум. Поэтому я часто водила его в церковь, особенно на воскресные послеобеденные службы, когда музыкальное сопровождение было воистину прекрасным. Но он совершенно утратил свое чувство музыки. Все же я не теряла надежды, ибо однажды, когда скрипка играла интерлюдию к «Salut», или «Благословению», как его называют в Ирландии и Англии, тень улыбки мелькнула на его лице.
Но это был временный эффект.
Глава XIII
Однако я не отчаивалась.
Оказалось, что Маргарет распорядилась о торжественной службе в память годовщины смерти Килкорана. В своих письмах (мы по-прежнему обменивались скупыми посланиями) она не сообщала, будет ли сама присутствовать на ней. Но меня осенила мысль: а вдруг звуки «Реквиема» вернут Сибу рассудок? Тем более что газеты сообщили, что во время богослужения будет исполняться та же самая вещь Сибрандта ван ден Вельдена, что и в прошлый раз. Только на этот раз заметку разместили в театральной рубрике.
И я отправилась с Сибу в церковь.
Ребенок был, как всегда, апатичен; но когда исполняли Жертвоприношение, на этот раз чрезвычайно скверно, по телу его пробежала дрожь. Сосредоточенно глядя перед собой, он преклонил колени, но неподвижный взгляд его убедил меня в том, что воздействие музыки опять временно.
Когда «Реквием» закончился, я взяла его за руку, чтобы вывести из церкви. Каково же было мое удивление, когда он крепко схватился за нее. Еще больше я удивилась, когда на обратном пути он засмеялся и заговорил, как ни в чем не бывало. Он походил на воскресшего из мертвых.
Когда мы вернулись в гостиницу, он помчался в салон и открыл крышку фортепьяно, на котором уже год не играл, – здесь могу сказать, что мы с дочерью неплохо владеем инструментом, но после описанных ужасных событий не осмеливались прикоснуться к нему; хотя меня часто посещала мысль, что игра на фортепьяно могла бы пробудить Сибу от жуткой летаргии. Так вот, мальчик открыл крышку фортепьяно и заиграл, да еще подпевая дивным дискантом. До этого я никогда не слышала, чтобы он пел.
Боже, но что он играл! То была тема «Libera eas de ore leonis» из «Реквиема». И на этом жалком, расстроенном инструменте ему удавалось создать эффект целого оркестра. Мне казалось, что я слышу виолончель и серебряные трубы!
А как он пел! Дойдя до этой каденции, слова которой запомнились мне накрепко: «Fac eas Domine Deus de morte transire ad vitam»[61], его голос издал странное низкое тремоло на слове «morte» и угас, после странного хроматического пассажа, на слове «transire» (любопытно, как подробно вспоминаются детали тех событий, которые затронули нас до глубины души). Как ему удавалось так петь? Я никогда не слышала, что он поет, за исключением тех случаев, когда он напевал что-то себе под нос. Но здесь он исполнял одно из самых сложных музыкальных произведений. Помню, мне пришла в голову довольно тривиальная мысль, как долго должен обучаться хорист такой сложной интонации. А этому ребенку удалось исполнить эту вещь с первого же раза, и куда как лучше! всего лишь после одного, ну двух прослушиваний. Все это пришло мне в голову прямо тогда, ибо позже у меня уже не оставалось времени для рассуждений.
Мотив заканчивается на слове «vitam», подвешенном к долгой, высокой «си». Не могу описать изысканность интонации, которую он придал этой ноте, обычно слишком пронзительной. Она казалась немного затянутой; затем голос его задрожал; и вслед за этим раздался грохот.
Сибу упал со стула на пол.
Да, я догадалась тотчас же: мне не требовался доктор, чтобы констатировать «внезапную остановку сердца».
Открылась дверь, и кто бы еще мог войти в комнату, как не Маргарет?
* * *
Достаточно сказать, что в тот день, в тот самый день, что и ровно год назад, салон опять был убран под «chapelle ardente».
Альфред тоже присутствовал там вместе с Маргарет. На третий день явились croquemorts и забрали тело. Но прежде чем они ушли, Альфред и Маргарет встали по бокам гроба, где лежал этот чудесный ребенок, который словно спал и видел райские сны. Они сплели руки над телом мальчика и застыли в этой позе, безмолвно глядя друг на друга.
Затем Альфред уехал. Я больше не видела его, а Маргарет говорила мало, только самое необходимое. Мы расстались в молчании.
ЭПИЛОГ
Как-то несколько лет спустя, когда мы с дочерью находились в Лондоне, Дороти сообщила мне:
– Камилла сказала, – Камилла была ее подругой, – что сегодня после обеда в церкви *** будет исполняться «Романс» для скрипки Сибрандта ван ден Вельдена. Помните, мама, его исполняли на концерте в том забавном местечке, Остраке? Вы должны его помнить.
Уж я-то помнила!
– Давайте сходим туда и еще раз послушаем, – продолжала Дороти, и я подумала: «А почему бы и нет?», хотя знала, что едва ли при этом во мне проснутся приятные воспоминания.
Случайные совпадения происходят чаще, чем об этом принято думать. Двукратные совпадения настолько распространены, что люди замечают их только тогда, когда это сопряжено с каким-то памятным событием.
Троекратные совпадения происходят реже. Но по закону случая они куда более вероятны, чем об этом принято думать.
Таким-то образом я пытаюсь объяснить то, что последовало за этим. Мне припомнилось множество споров с Килкораном о влиянии сверхъестественного на человеческую жизнь. Он всегда настаивал на его существовании, а я это настойчиво отвергала.
Церковь, о которой идет речь, была католической, принадлежала какому-то ордену и была довольно известна своими оперными концертами. Туда мы и отправились.
У дверей висело объявление о том, что в этот день состоится скрипичный концерт синьора такого-то; а рядом – многословная болтовня о каких-то приютах святой Пелагеи, в чью пользу намечался сбор пожертвований.
Мы вошли во время вечерни. Ее сопровождали однотонные распевы вкупе с органом. Мало разбираясь в происходящем, я подумала, что мы опоздали на концерт и что знаменитый синьор доигрывает «Романс» для скрипки Сибрандта ван ден Вельдена. Однако дочь, разбирающаяся в таких вещах куда лучше (я всегда подозревала ее в симпатиях к католицизму, против чего, правда, совсем не возражаю), произнесла:
– Подождите, мама, мы пришли слишком рано, нам надо бы придти попозже.
После окончания вечерни и ектеньи, на удивление монотонной, на кафедру взошел монах и начал проповедь на тему: «Не судите, да не судимы будете». Он говорил от имени приютов святой Пелагеи; по крайней мере, его проповедь в основном была посвящена им. Голос его пробудил во мне какие-то воспоминания. Я где-то уже слышала его, хотя тон был иным.
Ну разве могло такое произойти? Это исхудавшее аскетическое лицо – Альфред Этенри! Чем дольше я всматривалась в него, тем больше убеждалась в своей догадке. Те же четкие, оригинальные черты. Я терялась в сомнениях до тех пор, пока он не заговорил о современной научной мысли, и на лице его появилась та самая циничная усмешка, что вызывала во мне такую неприязнь несколько лет назад. После проповеди, в качестве интерлюдии перед благословением – как подробно объяснила мне дочь, – монахини ордена святой Пелагеи в своих длинных, подбитых красным одеждах, которые так им шли, вынесли тарелки для сбора пожертвований. Их передавали от одного места к другому с небольшим опозданием; я этого не замечала; мое внимание было всецело поглощено «Романсом» для скрипки Сибрандта ван ден Вельдена. Монахиня, подставившая мне тарелку, заметно волновалась. Рука ее дрожала. Кладя в тарелку монету, я подняла глаза к ее лицу и – передо мной стояла Маргарет!
После был впечатляющий обряд благословения, потом священник прочитал несколько молитв по-английски, и последними его словами были:
«И души усопших по милосердию Твоему да почивают в мире».
ЖИРАНДОЛА
Этюд о болезненной патологии
Повествование сэра Джозефа Рэнделла, доктора медицины
Для начала сгодится и упоминание о том, что я – врач. Я считаюсь авторитетом в своей области. Специализация моя – мозг. В связи с этим у меня выработалась привычка внимательнейшим образом наблюдать за всем, особенно за тем, что представляется нам странным или ненормальным.
Я подумываю о том, чтобы описать несколько любопытных патологических случаев, которые доводилось мне наблюдать и которые могут после моей смерти принести специалистам определенную пользу. Вот вам первый случай.
Как-то раз я ехал в омнибусе; я предпочитаю омнибус докторской одноконной карете, поскольку в омнибусе представляется гораздо больше возможностей для наблюдений за людьми и событиями. Тогда я только избавился от большинства своих пациентов, отослав их в Гомбург и подобные же места. В другом конце омнибуса сидела девушка, которая на первый взгляд была слишком неприметна, чтобы привлечь чье-нибудь внимание. Но по какой-то причине я с первого же взгляда заинтересовался ею.








