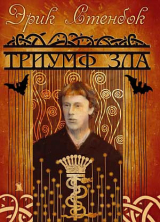
Текст книги "Триумф зла"
Автор книги: Эрик Стенбок
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Внезапно в комнату вбежал Габриэль; в волосах его запуталась желтая бабочка. В руках он держал бельчонка и был, как обычно, босоног. Незнакомец поднял взгляд на брата, и я увидела его глаза. Они были зеленые и словно бы расширялись, вырастали в размерах. Габриэль застыл перед ним, точно птичка, загипнотизированная змеей. Но, тем не менее, он протянул гостю руку, и тот пожал ее, зачем-то – не знаю, отчего мне запомнилась эта подробность – пощупав указательным пальцем пульс на его запястье. Внезапно Габриэль бросился вон из комнаты и ринулся к себе наверх, на этот раз по лестнице, а не по веткам дерева. Я была в ужасе оттого, что граф подумает о нем. К великому моему облегчению, Габриэль вскоре спустился в бархатном воскресном костюмчике, чулках и ботинках. Я причесала его и вообще привела в порядок.
Когда гость спустился в гостиную к ужину, его наружность переменилась; сейчас он выглядел гораздо моложе. Я никогда не видела у мужчин такой упругой кожи, такого изящного телосложения. До этого меня поразила его бледность.
Во время ужина он очаровал всех нас и в особенности отца. Казалось, ему знакомо все, чем так увлекался отец. Когда отец завел речь о своем военном прошлом, Вардалек вскользь упомянул о маленьком барабанщике, тяжело раненном в бою. При этом глаза его снова раскрылись, расширились, и на этот раз выражение их было особенно неприятно: мертвенно-тусклый взгляд, оживленный в то же время каким-то жутковатым возбуждением. Впрочем, выражение это тут же пропало.
Главной темой застольной беседы были некие мистические книги, которые отец недавно приобрел у букиниста и в которых никак не мог разобраться, причем оказалось, что Вардалек прекрасно понимает, в чем дело. Когда подали десерт, отец спросил, торопится ли граф завершить свое путешествие: если спешка не велика, не откажется ли он погостить у нас какое-то время: хотя мы и живем в глуши, он может найти в нашей библиотеке много интересного.
– Я не спешу, – отвечал Вардалек. – У меня нет особой причины продолжать свое путешествие, и если я могу помочь вам в толковании книг, то буду рад оказать услугу.
И он прибавил с улыбкою – горькой, очень горькой:
– Видите ли, я космополит, скиталец по земле.
После ужина отец спросил его, не играет ли он на фортепьяно. Тот ответил:
– Да, немного, – и, сев за инструмент, заиграл венгерский чардаш – бурный, упоительный, чудесный. Эта музыка сводит мужчин с ума. Он играл и играл в том же ритме.
Габриэль застыл у пианино, глаза его расширились и невидяще смотрели вдаль, тело сотрясала дрожь. Наконец, выбрав момент в мелодии, который можно было бы назвать relâche[12], когда исходная, обманчиво-медленная часть чардаша начинается вновь, он проговорил:
– Пожалуй, я мог бы это сыграть.
Быстро сбегав за скрипкой и самодельным ксилофоном, он и вправду сыграл мелодию, меняя инструменты. Вардалек взглянул на него и печально произнес:
– Бедное дитя! Музыка – в твоей натуре.
Я не могла понять, почему он сочувствует Габриэлю, а не поздравляет его с необыкновенным даром.
Габриэль был застенчив даже с ластящимися к нему дикими зверюшками. Незнакомых людей он всегда сторонился. Если к нам приезжал незнакомец, Габриэль обычно прятался у себя в башне, и я доставляла ему туда еду. Представьте же мое удивление, когда на следующее утро я увидела его в парке с Вардалеком, – они гуляли, держась за руки и оживленно беседуя, и Габриэль показывал тому своих лесных зверей, из которых мы устроили настоящий зоологический сад. Казалось, он полностью находится под властью Вардалека. Удивило нас то (ибо незнакомец пришелся нам по нраву, особенно за свою доброту к Габриэлю), что Габриэль на первый взгляд незаметно – хотя это не относилось ко мне, замечавшей все происходящее с ним, – теряет присущие ему здоровье и живость. Бледным он, правда, не был; но в движениях его появилась некоторая вялость, которой прежде не было.
Отец все больше и больше увлекался графом Вардалеком. Тот помогал ему в штудиях, и вскоре уже отец с трудом соглашался отпускать Вардалека в его поездки – как тот говорил, в Триест. Возвращался он всегда с подарками для нас – странными восточными драгоценностями или тканями.
Я знала, что в Триесте случалось бывать разным людям, в том числе и из восточных стран. Однако было в этих вещах нечто настолько странное и великолепное, что я была уверена, что они не могли быть куплены в Триесте, который запомнился мне главным образом своими галстучными лавками.
В отсутствие Вардалека Габриэль только и говорил о нем. И в то же время прежние сила и живость возвращались к нему. Вардалек же по возвращении всегда выглядел старше, усталее, слабее. Габриэль подбегал к нему и целовал в губы. При этом по телу Вардалека пробегала дрожь, и скоро он обретал прежний молодой вид.
Так продолжалось довольно долго. Отец не желал больше слышать об окончательном отъезде Вардалека. Тот постепенно превратился в домочадца. Мы с мадемуазель Воннар не могли не заметить необычную перемену, случившуюся с Габриэлем. И только один отец был абсолютно слеп ко всему.
Однажды ночью я спустилась в гостиную, чтобы захватить какую-то забытую там вещь. Поднимаясь наверх, я прошла мимо комнаты Вардалека. Он играл на фортепьяно, которое специально было установлено в его комнате, один из ноктюрнов Шопена. Он играл так хорошо, что я остановилась и, прислонившись к перилам, заслушалась.
Внезапно в полумраке лестницы возникла белая фигура. В наших местах верят в привидения. Оледенев от ужаса, я вцепилась в перила. Каково же было мое изумление, когда я увидела Габриэля, медленно спускавшегося вниз, с заставшим взглядом, точно в трансе! Это напугало меня еще больше, чем предполагаемый призрак. Могла ли я поверить своим глазам? Был ли то Габриэль?
Я не могла пошевелиться. Габриэль, в длинной ночной рубашке, спустился по лестнице и открыл дверь в комнату Вардалека. Дверь осталась открытой. Вардалек, продолжая играть, заговорил, на этот раз по-польски:
– Nie umiem wyrazic jak ciechi kocham[13]. Мой милый, я бы с радостью пощадил тебя; но твоя жизнь – моя жизнь, а я должен жить, хотя куда охотнее бы умер. Неужели Бог не сжалится надо мной? О, жизнь! о, муки жизни! – Он взял полный отчаяния аккорд и стал играть заметно тише. – О, Габриэль! любимый мой! Жизнь моя, да, жизнь – но отчего жизнь? Мне кажется, это самое малое из того, что я хотел бы взять у тебя. Ведь при том изобилии жизни, что в тебе, ты можешь уделить толику ее тому, кто уже мертв. Но постой, – произнес он почти грубо, – чему быть, того не миновать!
Габриэль все так же стоял подле него, с пустым и застывшим взглядом. По-видимому, он явился сюда в состоянии лунатического сна. Вардалек, вдруг прервав мелодию, издал горестный стон, а затем сказал с нежностью:
– Ступай, Габриэль! Довольно.
При этих словах тот вышел из комнаты и поднялся по лестнице к себе все той же медленной поступью и с тем же невидящим взором. Вардалек ударил по клавишам, и хотя играл он не очень громко, мне казалось, что струны вот-вот оборвутся. Ручаюсь, вам никогда не услышать музыки настолько странной и душераздирающей.
Я знаю лишь, что утром меня нашла у подножия лестницы мадемуазель Воннар. Был ли это сон? Сейчас я знаю, что нет. А тогда меня терзали сомнения, и я никому ничего не сказала. Да и что я могла сказать?
Позвольте мне сократить эту длинную историю. Габриэль, который в жизни не знал болезней, внезапно захворал, и мы вынуждены были послать в Грац за доктором, так и не нашедшим объяснение странному недугу. Постепенное истощение, заключил он, при отсутствии органических заболеваний. Что могло это означать?
Даже отец, наконец, осознал, что Габриэль серьезно болен. Беспокойство его было ужасно. Последние темные волосы в его бороде пропали, и она стала совсем белой. Мы привозили докторов из Вены. Результат оставался тем же.
Габриэль приходил в сознание лишь изредка, узнавая одного Вардалека, который постоянно сидел у его постели и ухаживал за ним с исключительной нежностью.
Однажды я сидела в соседней комнате и вдруг услышала внезапный неистовый крик Вардалека:
– Быстрее! Пошлите за священником! Быстрее! – повторял он и добавил: – Теперь уже поздно!
Габриэль протянул руки и судорожно обвил ими шею Вардалека. Это было его единственное движение за долгое время. Вардалек склонился к нему и поцеловал в губы. Я бросилась вниз, чтобы позвать священника. Когда мы вернулись, Вардалека там уже не было. Священник соборовал Габриэля. Думаю, к тому времени тот был уже мертв, хотя тогда мы еще в этом сомневались.
Вардалек навсегда исчез из замка; мы так и не смогли найти его, и с тех пор я ничего о нем не слышала.
Вскоре умер и мой отец: он как-то внезапно постарел и согнулся от горя. Все состояние Вронских перешло ко мне. В память о Габриэле я открыла приют для бездомных животных, и теперь на старости лет люди смеются надо мной – они по-прежнему не верят в вампиров!
ЧЕРВЯЧОК УДАЧИ
– Нет, мама больше меня не любит; а папу я ненавижу.
Так говорил, стоя посреди леса, мальчик лет четырнадцати, в темных глазах которого читались гордость и вызов. Он был с непокрытой головой, ветер развевал его волосы, но все же одет он был прилично. Наружностью он был очень похож на Иоанна Крестителя с известной картины Андреа дель Сарто. Ему пришло в голову многое, да, пожалуй, вся его жизнь. Отца он помнил смутно. Всего только и запомнился ему смуглый человек, который был очень добр с ним и каждую ночь убаюкивал его очень необычной колыбельной, подыгрывая себе на скрипке. Затем вспомнилась ему жизнь, состоящая из палаток, фургонов и скитаний; после чего внезапно он перенесся на шикарную виллу где-то на побережье Адриатики. Сначала все шло хорошо. Его отчим относился к нему приветливо, дарил игрушки, а мать выводила его на прогулку наряженным в элегантный матросский костюмчик с золотыми галунами, что сделало его любимцем всех женщин в округе. Однажды он услышал слова отчима: «Я, право, еще не отчаялся сделать из Шандора джентльмена». Он не вполне понял, что это означало, но отчего-то замечание разозлило его. Потом возникла помеха. Родился ребенок. И граф фон Гратгейм, имея сына и наследника, передал права наследования ребенку от красивой цыганки, на которой женился в приступе непреодолимой страсти, ибо цыганские дочери не отдаются иначе.
Шандор обожал музыку и подобно любому цыганскому ребенку прекрасно играл на скрипке. Отчим же терпеть не мог музыки. А сам Шандор питал особую неприязнь к ребенку, который, как он думал, отобрал у него расположение матери. Он даже не желал находиться с ним в одной комнате. Так что все шло к худшему, и вот в день, когда ребенку исполнилось три года, Шандор сидел в уголке гостиной, скрытом пальмами и олеандрами, импровизируя на своей скрипочке, – настолько погрузившись в это занятие, что даже не заметил, как вошел отчим.
– А, так это ты, цыганенок! – в бешенстве вскричал тот. – А ну, кончай пиликать! Ты и вправду не годишься для цивилизованного общества. От всей души желаю, чтобы ты убрался к своему народу.
Глаза Шандора полыхнули огнем, не говоря ни слова, он вышел из дому и отправился прямо в лес, захватив с собой одну скрипку.
Внезапно он услышал между деревьев пение струн – ксилофон, на котором играли цыганскую музыку. Он выглянул украдкой и увидел трех мужчин. Они прекратили играть. Один сказал:
– Куда пойдем – направо или налево?
Второй сказал:
– Наверно, лучше пойти направо, там есть город.
Третий сказал:
– Нет, нам нужно возвращаться; в следующее воскресенье – День теней, и у нас мало времени, чтобы вернуться восвояси.
Первый ответил:
– Ну да, конечно. Я и забыл. Нужно сниматься прямо сейчас.
Неожиданно из-за деревьев выскочил мальчик и закричал:
– Возьмите меня с собой. Я тоже немножко умею играть на скрипке.
Первый мужчина ответил очень мягко:
– Хорошо, малыш, мы возьмем тебя с собой, только знай, что у нас нелегкая жизнь. Мы, цыгане, не спим на пуховых перинах.
Второй заметил:
– Сдается мне, он нашего племени.
Третий закатал ему рукав и обнажил руку.
– Ого, – воскликнул он, – это же знак нашего рода. Как это понимать?
Но тут от истощения и возбуждения мальчика оставили чувства. Первый мужчина взял его на руки и произнес:
– Как он похож на Шандора!
Мальчик очнулся и пробормотал:
– А я и есть Шандор. Меня назвали так в честь отца, – и снова впал в беспамятство. Второй мужчина сказал:
– Ну вот, теперь я все понял. Это, должно быть, сын Гизелы, которая навлекла позор на наш род, выйдя замуж за чужака.
Третий откликнулся:
– Так ведь цыганскую кровь не приручишь. Он вернулся к своему народу.
– Да, – подтвердил мальчик, неожиданно оживая, – я вернусь к своему народу. Он назвал меня сегодня «цыганенком»!
– Дорогой мой, – сказал первый мужчина, – знаешь ли, что ты сын моего брата? Я твой дядя Ференц.
– О да, – ответил мальчик, – кажется, я видел вас раньше.
Итак, они привели Шандора в свой более-менее постоянный табор, и мальчик вскоре приспособился к их жизни. Ему сказали, что если в эту неделю он обнаружит совиное гнездо, возьмет оттуда яйцо и закопает его под ореховым деревом, ровно через семь лет на этом месте он найдет червячка, приносящего удачу. Совиные гнезда не так-то просто отыскать, но для желающих найти совиные яйца есть одно преимущество – сова повторно откладывает яйца, пока первая кладка еще в гнезде, так что в случае удачи можно завладеть ею, когда птица отправляется добыть корм для птенцов. Однажды ночью он увидел какого-то зверька, на которого сверху, из своего гнезда, с пронзительным криком упала большая белая сова. Тотчас же, быстрый, как мысль, он взобрался вверх по дереву, нашел в гнезде одно невысиженное яйцо и закопал его под ореховым деревом.
В день 23 апреля род избрал его представлять «Зеленого Георга». Его обнажили и украсили гирляндами из листьев, а затем погнали по лесу, словно Диониса. Сначала он немного испугался; он думал, что его хотят принести в жертву, но потом сказал себе: «Лучше быть принесенным в жертву собственному народу, чем жить с теми». Но его не принесли в жертву, лишь бросили в воду в чем был.
Семь лет он жил со своим родом. В тот самый день, когда он закопал совиное яйцо, он пришел на место и, раскопав землю, нашел длинную зеленую гусеницу, которую тут же проглотил.
Он всегда прекрасно играл на скрипке, но в ту ночь все были изумлены его игрой. Сами цыгане были поражены его оригинальностью и вдохновением. В результате было решено, что он будет странствовать в одиночку, играя на скрипке и зарабатывая деньги для рода. Однажды он забрел в один городок, где к нему подошел некий профессор и сказал:
– Да ведь ты замечательно играешь. Такой игры я прежде не слышал. Но самое удивительное в том, что ты можешь извлекать такие звуки из этой треснутой скрипчонки. Пойдем со мной, и я дам тебе скрипку Страдивари, которая досталась мне по наследству и на которой я не умею играть. Я только прошу в качестве вознаграждения сыграть на ней для меня разок.
Шандор согласился. В первый раз почувствовал он, какой силой обладает. В следующем городке он смело объявил о концерте. Этот концерт давал он один. Городок был небольшой, но весьма модный во время сезона. Модные люди, в поисках развлечения, собрались из любопытства послушать «der Grüner Georg»[14], который сам объявил о своем концерте. (Теперь он называл себя Зеленым Георгом, особенно сейчас, когда он был близко от знакомых мест). Аудитория была потрясена, и с этого дня он везде производил фурор. Деньги (большую часть которых он передавал роду) сыпались ему в руки; он стал светским львом. К счастью для него, он, несмотря на свое происхождение, уже бывал в обществе и знал его законы, – но все это не сбивало его с толку. Его вновь тянуло к прежней дикой жизни.
Однажды в своих странствиях он очутился в городе, где когда-то жил.
– Ха, ха! – вырвалось у него. – Они и не предполагают, что Зеленый Георг – это я!
Устав от роскоши, он часто углублялся в лес и спал на открытом воздухе. Сейчас он решил, что устроит себе ночевку в том месте, куда он сбежал семь лет назад. Он сидел там, наигрывая на скрипке и вспоминая прошлую жизнь, когда из-за деревьев вышел мальчик и произнес:
– Я так люблю музыку. Можно мне послушать?
– Конечно, – ответил он. – Что ты хочешь, чтобы я тебе сыграл?
– О, все, что угодно, – сказал мальчик, усаживаясь у его ног. – Отец ненавидит музыку и не позволяет играть в доме; но я музыку люблю, особенно такую.
Шандор играл и играл; затем сказал мальчику:
– Скажи мне, как тебя зовут?
– Мать зовет меня Дюла, – ответит тот, – но отец – только Джулиус или Жюль, потому что он говорит, что мне нельзя называться венгерским именем.
– Кто тогда твоя мать? – спросил Шандор.
– О! моя мать – графиня фон Гратгейм.
– Она и моя мать тоже, – сказал Шандор.
– Значит, – сказал мальчик растерянно, – вы мой – брат.
– Да, милый, – ответил Шандор, целуя его. – Ты и вправду – мой брат.
– Но как вас зовут?
– У меня нет фамилии, но при крещении меня назвали Шандор.
– Шандор? – переспросил мальчик. – Да ведь только вчера мать сказала: «Если бы только знать, как там бедный Шандор!», а отец ответил: «Не упоминай его имени. Его очень кстати назвали Шандором, ибо он навлек schande[15] на нашу семью». Я не знаю, что это значит, – простодушно добавил он.
– Однако, – сказал Шандор довольно желчно, – я уже не бедный Шандор. У меня куча денег. Отважусь заметить, что ты, может, даже слышал обо мне. Меня называют «Зеленый Георг».
– Так это вы Зеленый Георг! – воскликнул мальчик. – Я коплю деньги, чтобы послушать вас, а однажды я собрался улизнуть на один из ваших концертов. Папа все равно не позволит мне, потому что, не знаю, он просто не выносит всего, что связано с цыганами, а я вот услышал вас бесплатно.
– Дорогое мое дитя, – сказал молодой человек, – ведь ты тоже связан с цыганами. Наша мать цыганка, хотя, возможно, ты этого не знал.
Стояла поздняя осень, было довольно тепло; но пока они разговаривали, солнце село, совсем стемнело.
– Дитя, – сказал Шандор, – сейчас ты уже не сможешь добраться до дому, но если ты останешься здесь, я обещаю проводить тебя завтра утром. Дорогу я знаю, – добавил он с ноткой горечи. – Смотри, я заверну тебя в свою шубу. Я могу соорудить для тебя хорошую постель с подушкой из палой листвы. Я это хорошо умею. Сейчас не очень-то холодно. – И он пробормотал сквозь зубы: – Теперь он увидит, что цыганскую кровь не приручишь.
– Но вам самому будет холодно, – сказал мальчик.
– О нет, – ответил Шандор. – Я привык спать прямо на земле. Мы, цыгане (сказано это было тем же презрительным тоном, каким произнес это слово его отчим семь лет назад), не спим на пуховых перинах.
И он завернул мальчика в свою шубу и сделал ему удобную постель из листьев. Ребенок проговорил сонно:
– Шандор, братец, сыграй мне еще что-нибудь.
– Да, дорогой, – откликнулся он и заиграл ту колыбельную, которой убаюкивал его отец. То же действие произвела она на Дюлу; а там и сам он примостился рядом с братом. Ветер усиливался, листья сыпались сверху и укрывали Зеленого Георга сплошным покрывалом.
– Когда-то я был Зеленый Георг, – прошептал он печально, – а теперь я, кажется, пожелтел, – и он уснул.
Ночью, как часто бывает в тех местах, неожиданно похолодало. Повалил густой снег и укутал двоих в белый кокон. Затем ударил сильный мороз. Они этого не заметили; оба крепко спали, Дюла – положив голову на плечо брата. Но этот мороз умертвил и тепло укутанного мальчика, и крепкого молодого мужчину.
Если бы кто-нибудь оказался там в то необыкновенно холодное утро, он бы несказанно удивился при виде элегантно одетой дамы, бродящей по лесу и безутешно взывающей:
– Дюла! Дюла! Господи! Неужели, потеряв одного, я должна потерять другого!
Наконец, она пришла туда, где, укрытые снегом, лежали они.
– Дюла! – вскричала она. – Что ты здесь делаешь?
Потом она взглянула и узнала.
– Шандор, дитя мое, мой первенец! Ты здесь!
Она бросилась к нему и горячо поцеловала.
– Я твоя мать, разве ты не узнаешь меня? Проснись же! Скажи хоть слово!
Они не двигались. Ни единой слезы не уронила она. Сняв с себя свое роскошное соболиное манто, она накрыла им своих детей, точно покровом. Потом она сняла с себя все кольца и украшения; и, отрезав свою черную косу, связала двоих своих сыновей этим странным ожерельем.
– Я возвращаюсь к своему народу, – промолвила она и ушла в лес.
ТА СТОРОНА
Бретонская легенда
À la joyouse Messe noire[16]
– …не то чтобы это мне по нраву, но после этого так хорошо… благодарствую, матушка Ивонна, можно еще капельку.
Так-то старухи, рассевшись вокруг камина, и попивали свой подогретый бренди с водой (принимаемый, конечно, исключительно в медицинских целях, как средство от ревматизма), и матушка Пинкель продолжала рассказ:
– Ну и вот, когда достигаешь вершины холма, там видишь алтарь с шестью свечами, такими черными, а между ними еще что-то, что никому еще не удавалось разглядеть, и старый черный баран с человечьим лицом и длинными рогами начинает служить мессу на какой-то непонятной тарабарщине, и две странные черные твари, вроде обезьян, выскальзывают откуда-то с книгой и сосудами, – и музыка, такая музыка. Там бывают твари, сверху до пояса как черные коты, а снизу как люди, только ноги их покрыты густой черной шерстью, они еще играют на волынках, и когда они всходят на возвышение…
Меж старух, на коврике перед камином, лежал мальчик, его огромные чудные глаза расширились, а тело трепетало от страха.
– Это все правда, матушка Пинкель? – спросил он.
– Конечно, правда, и не только это, самое-то интересное впереди; потому что они берут ребенка и… – тут матушка Пинкель осклабилась, показав клыки.
– Матушка Пинкель! А ты тоже ведьма?
– Помолчи, Габриэль! – приказала матушка Ивонна. – Как у тебя язык поворачивается сказать такое? Ей-богу, мальчику давно пора в постель.
И тут же все, кроме матушки Пинкель, дрожа, перекрестились, ибо послышался самый жуткий звук на свете – волчий вой, начинающийся троекратным отрывистым лаем, который переходит в долгое завывание, лютое и отчаянное одновременно, и заканчивающийся приглушенным рыком, полным извечной злобы.
Деревня стояла у самого леса, на этой стороне ручья, и никто не отваживался перейти ручей на ту сторону. Там, где была деревня, все было зелено, приветливо и плодородно; на той же стороне деревья никогда не выбрасывали зеленый лист, и тень лежала под ними даже в полдень, а по ночам оттуда доносилось завывание волков-оборотней, и людей-волков, и волков-людей, и еще тех нечестивцев, что каждый год на девять суток обращаются в волков; однако на зеленой стороне волков никогда не видели, и лишь маленький серебристый ручеек бежал посередине.
Наступила весна, и старухи оставили теплые местечка у каминов, предпочитая греться на солнышке у своих домиков, и были так довольны, что перестали рассказывать байки о «той стороне». Однако Габриэль по своему обыкновению продолжал гулять по берегу ручья, влекомый туда каким-то странным притяжением пополам со страхом.
Товарищи по школе не любили Габриэля; они издевались и насмехались над ним, потому что, кроткий по природе, он не был жесток; и как редкую, прекрасную птицу, сумевшую выбраться из клетки на волю, клюют обычные воробьи, так мучили Габриэля в школе. Всяк дивился тому, как матушка Ивонна, эта дородная, почтенная матрона, могла произвести на свет такого сына, со странными мечтательными глазами, который, по мнению всех, был «pas comme les autres gamins»[17]. Друзьями его были лишь аббат Фелисьен, в чьей церкви он прислуживал каждое утро, да девочка по имени Кармель, которая любила его неизвестно по какой причине.
Солнце уже село, а Габриэль все бродил по берегу ручья, исполненный смутного ужаса и неодолимого влечения. Солнце зашло, и выплыла луна, полная, огромная и очень яркая, свет ее затопил лес по эту и по ту стороны ручья, и Габриэль внезапно заметил, как раз по ту сторону, огромный темно-синий цветок, чей странный пьянящий аромат донесся до него, заворожив на месте.
«Если бы только сделать один шажок, – подумал он, – ведь вреда не будет, если я только сорву цветок, и никто не узнает, что я переходил на ту сторону», – ибо жители деревушки встречали ненавистью и подозрением любого, кто переходил на «ту сторону», – так что, собрав все свое мужество, он легко перепрыгнул на тот берег. Луна, выйдя из-за тучи, засияла необыкновенно ярко, и он увидел прямо перед собой целое поле точно таких же странных синих цветов, один чудеснее другого, и, не в силах решить, сорвать ли один цветок или несколько, он все двигался и двигался вперед, и ярко сияла луна, и запела странная невидимая птица, чья песня была похожа на соловьиную, только громче и прекраснее, и сердце его заныло от желания неизвестно чего, а луна сияла, и пела птица. Но тут внезапно черная туча закрыла луну, и все погрузилось во тьму, стало черным-черно, и в этой тьме он услышал приближающееся завывание волков, словно преследующих добычу, и вот мимо проследовала жуткая процессия волков (черных, с красными горящими глазами), а с ними людей с волчьими головами и волков с человечьими, а над ними реяли совы (черные, с красными горящими глазами), и летучие мыши, и длинные змеевидные черные твари, и последним, верхом на огромном черном баране с отвратительным человеческим лицом, – хозяин волков, на лице коего лежала вечная тень; они не остановились и продолжали свою жуткую охоту; и когда они миновали его, луна засияла еще ярче, и странный соловей запел снова, и странные ярко-синие цветы вновь расстилались перед ним во все стороны. Одного лишь не было раньше: среди странных яркосиних цветов шла она, с длинными сверкающими золотыми волосами, она обернулась – глаза ее были того же цвета, что и цветы, и Габриэль против своей воли последовал за ней. Но когда туча вновь набежала на луну, он увидел вместо прекрасной женщины волка и в ужасе метнулся прочь, сорвав по пути один цветок, одним прыжком перескочил ручей и бросился домой.
Дома он, не удержавшись, показал свое сокровище матери, хотя знал, что ей это совсем не понравится; но при виде странного синего цветка матушка Ивонна только побледнела и произнесла:
– Дитя, где ты взял его? Это же ведьмин цвет.
И она, выхватив цветок, зашвырнула его в угол, и тотчас же вся красота вместе с необычным ароматом испарились из него, он почернел, как будто обуглившись. И Габриэль с надутым видом, даже не поужинав, молча лег в постель, но не уснул, а подождал, пока все в доме не успокоится. Только после этого он тихонько прокрался вниз прямо в своей длинной белой ночной рубашке, чувствуя босыми ступнями холод каменного пола, торопливо схватил почерневший, увядший цветок и прижал его к своей теплой груди, – и немедленно цветок расцвел опять и стал еще чудеснее, и Габриэль уснул крепким сном, однако сквозь сон слышал мягкий низкий голос, поющий под окном на неизвестном языке (в котором мягкие звуки переливались из одного в другой), но ни единого слова не мог он разобрать, кроме своего имени.
Когда наутро он отправился в церковь, цветок все еще был на его груди. И когда священник начал литургию словами «Introibo ad altare Dei»[18], то Габриэль отозвался: «Qui nequiquam laetificavit juventutem meam»[19]. Аббат Фелисьен обернулся, услышав этот странный ответ, и увидел, что лицо мальчика смертельно побледнело, взгляд застыл, члены задеревенели, и прямо на глазах у священника мальчик рухнул на пол в обмороке, так что ризничий вынужден был отнести его домой и поискать для священника другого прислужника.
Но когда аббат Фелисьен пришел навестить его, Габриэль почувствовал странное нежелание рассказывать о синем цветке и первый раз в жизни утаил правду от священника.
После обеда, когда закат уже близился, он почувствовал себя лучше, к тому же пришла Кармель и уговорила его выйти погулять на свежий воздух. И они вышли, держась за руки, – темноволосый мальчик с газельими глазами и белокурая девочка с вьющимися волосами, – и что-то заставило его направить стопы (полусознательно, ибо он не мог не идти) к ручью, на берегу которого они и сели.
Габриэль решил, что теперь уж он точно сможет поведать Кармель о своей тайне, и, вытащив из-за пазухи цветок, сказал:
– Гляди, Кармель, видала ли ты когда-нибудь такой чудесный цветок?
Но Кармель побледнела и, задрожав, произнесла:
– Габриэль, что это за цветок? Я всего-то дотронулась до него, как сразу почувствовала, что от него исходит что-то странное. Нет, нет, мне не нравится его запах, в нем что-то не то, милый Габриэль, позволь мне выбросить его, – и не успел он ответить, как она выхватила цветок из его рук и отбросила его, и тотчас же красота и аромат покинули его, он почернел, словно обуглился. Но тут на том месте, где упал цветок, на этой стороне ручья, появился волк, он стоял и смотрел на детей.
– Что нам делать? – прошептала Кармель, прижавшись к Габриэлю, но волк только пристально смотрел на них, и тут Габриэль узнал в его глазах странные ярко-синие глаза женщины-волчицы, которую он видел на «той стороне», и произнес:
– Оставайся на месте, милая Кармель, видишь, она лишь с нежностью смотрит на нас и не тронет нас.
– Но ведь это волк, – сказала Кармель, вся дрожа от страха, но Габриэль повторил вяло:
– Она нас не тронет.
Тогда Кармель в ужасе схватила Габриэля за руку и потащила его за собой до самой деревни, где подняла тревогу, пока не собрались все мужчины деревни. Они никогда не видели волков на этой стороне и, взволновавшись до крайности, решили устроить назавтра великую волчью облаву, – один Габриэль тихо сидел в сторонке и молчал.
Той ночью он не мог ни уснуть, ни заставить себя произнести молитву; он лишь сидел в своей комнатушке у окна, рубашка его была расстегнута у горла, и странный цветок лежал на сердце, и опять он услыхал голос, поющий под его окном на том же мягком, тягучем языке:
Ма зала лираль ва е
Чуамюло жаела е
Карма уради эль яве
Ярма, симаи, – карме —
Жала явали тра е
Аль вю аль влаюле ва азре
Сафралье вайралье ва я?
Карма серайя
Лайя лайя
Лужа!
И, всмотревшись, он увидел мерцающие в серебристых тенях золотые волосы и странные темно-синие глаза, блестящие в ночи, и ему показалось, что он не в силах удержаться и не следовать за ней; едва одетый, босой, с застывшим взором, он спустился по лестнице, словно во сне, и вышел в ночь.
А она то и дело оборачивалась к нему, и ее странные синие глаза были полны нежности и страсти и печали такой, какая недоступна созданиям человеческим, – и он уже знал, что они придут на берег ручья. Там она, взяв его под руку, обратилась к нему как к старому знакомому:








