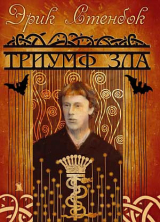
Текст книги "Триумф зла"
Автор книги: Эрик Стенбок
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
– Не поможешь мне, Габриэль?
И ему показалось, что он знает ее всю свою жизнь – так что он легко перешел с ней на «ту сторону», но там никого не увидел подле себя; однако уже через миг увидел рядом двух волков. Охваченный неописуемым ужасом, он (кто в жизни не думал об убийстве живого существа) схватил валявшуюся рядом палку и ударил ею одного волка по голове.
Тотчас же женщина-волчица явилась рядом с ним, изо лба ее сочилась кровь, пачкая чудесные золотые волосы, и с бесконечным укором глядя на него, она произнесла:
– Кто же это натворил?
Затем она шепнула пару слов другому волку, который перемахнул ручей и устремился к деревне, и, повернувшись к Габриэлю, произнесла:
– О Габриэль, как мог ты поднять руку на меня, любившую тебя так долго и так крепко.
Ему снова показалось, что он знает ее всю жизнь, но он был словно в дурмане и промолчал в ответ – но тут она сорвала какой-то темно-зеленый, странной формы лист и, прижав его ко лбу, произнесла:
– Габриэль, поцелуй это место, и все станет как прежде.
И он поцеловал ее, как она и просила, и ощутил соленый вкус крови во рту и после уже ничего не помнил.
И вновь перед ним предстал хозяин волков в окружении своей жуткой свиты, заседающий в каком-то странном конклаве, а вокруг на деревьях сидели черные совы, и черные летучие мыши свисали с ветвей. Габриэль стоял в центре круга, и сотни злобных глаз вперились в него. Собрание, видимо, решало, что с ним делать, говоря на том же странном языке, который он уже слышал под окном. Внезапно он почувствовал, как кто-то взял его за руку, – таинственная женщина-волчица стояла рядом. Тогда началось то, что казалось каким-то колдовским ритуалом, – создания человеческие и получеловеческие завывали по-звериному, а звери говорили тем самым неизвестным языком. Потом хозяин волков, чье лицо было вечно скрыто тенью, произнес несколько слов глухим голосом, звучавшим словно издалека, но Габриэль только и разобрал свое имя и ее – Лилит. И тут же почувствовал, как его обвивают руки.
Габриэль проснулся – в своей комнате – так это был сон? – но какой ужасный! Да, но неужели это его комната? Вон там его пальто на спинке стула – да, но… распятие – где распятие, и маленькая купель со святой водой, и освященная пальмовая ветвь, и древний образ Богоматери вечного спасения с неугасимой лампадкой перед ним, к которому он каждый день возлагал цветы, – но только не синий цветок, его он возложить так и не решился.
Каждое утро, еще не оправившись ото сна, он устремлял к этому образу глаза, произносил «Аве Мария» и осенял себя крестным знамением, приносящим мир душе, – но как страшно, как непостижимо – его больше нет там, совсем нет. Он, верно, еще не проснулся, по крайней мере, не совсем проснулся, сейчас он совершит крестное знамение и освободится от этого страшного морока – знамение, да, он совершит его – но как надо его свершать? Неужто он забыл? Или рука его парализована? Он не мог шевельнуться. Значит, он забыл – а молитва – он должен ее помнить. «A… vae… nunc… mortis… fructus…» Нет, кажется, не так – но очень похоже – да, это все наяву, и он может двигаться – он попытался убедить себя – вот сейчас он поднимется и увидит за окном старую серую церковь с изящными остроконечными шпилями, озаренными восходом, и тотчас же глубоко и торжественно ударит колокол, и он сбежит вниз и натянет свой красный стихарь, и затеплит высокие свечи на алтаре, и благоговейно дождется, когда нужно облачать доброго, любезного аббата Фелисьена, прикладываясь к каждому одеянию и поднимая его на вытянутых руках.
Но ведь это же не рассвет; это больше похоже на закат! Он выбрался из своей белой кроватки, и необъяснимый страх овладел им, он задрожал и вынужден был схватиться за стул, прежде чем достичь окна. Торжественных шпилей серой церкви не было – вместо них расстилались глубины леса; чащи, которые он прежде не видел, – но ведь он обходил его вдоль и поперек, а это, наверное, «та сторона». К страху примешалась вялость и утомление не без приятности – пассивность, примирение, снисхождение, – он почувствовал, как на него накатывает мощная ласковая волна чужой воли, одевая невидимыми руками в неосязаемые одежды; он почти механически оделся и сошел по той же лестнице, по которой обыкновенно с шумом скатывался. Широкие квадратные ступени, лучащиеся разноцветьем, показались ему необыкновенно красивыми – почему прежде он этого не замечал? – но он постепенно терял способность удивляться – вот он вошел в комнату – на столе был обычный кофе и булочки.
– Габриэль, ты припозднился сегодня.
Мягкий голос, но интонация какая-то странная, – перед ним была Лилит, таинственная женщина-волчица, ее сверкающие золотые волосы были стянуты в тугой пучок, она была одета в платье кукурузного цвета, на коленях ее лежала вышивка со странными змеевидными узорами. Пристально глядя на него своими прекрасными темно-синими глазами, Лилит произнесла:
– Габриэль, ты припозднился сегодня, – и он ответил:
– Вчера я утомился, налей мне кофе.
Сон внутри сна – да, он знал ее всю жизнь, они жили вместе; разве не всю жизнь они жили вместе? Она брала его с собой в прогулки по лесным полянам и собирала ему цветы, такие, каких прежде он не видел, и, не сводя с него удивительных синих глаз, рассказывала истории странным низким грудным голосом, который словно сопровождался слабой вибрацией струн.
Мало-помалу огонь жизненных сил, горевший в нем, стал затухать, гибкие стройные члены делались все более вялыми и пухлыми, – но он все так же был исполнен томного довольства, а чужая воля постоянно довлела над ним.
Как-то в своих блужданиях он увидел странный темно-синий цветок, похожий цветом на глаза Лилит, и внезапное воспоминание мелькнуло в нем.
– Что это за цветок? – спросил он, но Лилит съежилась и промолчала; но вот они прошли еще немного, и перед ними возник ручей – ручей, о котором он думал; он почувствовал, как ковы спадают с него, и чуть было не перепрыгнул через ручей, но тут Лилит схватила его за руку и изо всех сил оттащила; вся дрожа, она проговорила:
– Обещай мне, Габриэль, что ты не перейдешь на ту сторону.
Но он произнес:
– Скажи мне, что это за синий цветок и почему ты молчишь о нем?
И она ответила:
– Посмотри на ручей, Габриэль.
И он взглянул и увидел, что хотя это был тот самый разделяющий ручей, он не был похож на себя, – вода в нем оставалась неподвижной.
И чем больше вглядывался Габриэль в неподвижную воду, тем больше казалось ему, что он различает голоса – ему показалось, что это вечерня по усопшим. «Hei mihi quia incolatus sum»[20] – и вновь: «De profundis clamavi ad te»[21], – о, эта пелена, все затемняющая! Отчего он не видит и не слышит как следует, и почему воспоминания просачиваются к нему как будто через трехслойную полупрозрачную занавесь? Да, они молятся за него – но кто они? Вновь услышал он страдальческий шепот Лилит:
– Уйдем же отсюда!
Тогда он произнес без выражения:
– Что это за синий цветок и каково его назначение?
И низкий будоражащий голос сказал:
– Он зовется «люли ужюри», – две капли его – и спящий будет спать.
Он был точно ребенок в ее руках и страдал, что позволил увести себя оттуда, но, тем не менее, незаметно сорвал один цветок, держа его чашечкой вниз. Что она подразумевала? Проснется ли спящий? Останется ли от синего цветка след? И можно ли стереть его?
Но на рассвете, сквозь сон, он слышал далекие голоса, возносящие молитвы за него, – голоса аббата Фелисьена, Кармель, матери, и некие знакомые слова проникли в него: «Libera me a porta inferi»[22]. Он понял, что там служат мессу за упокой его души. Нет, он не может долее оставаться, он должен перепрыгнуть через ручей, он знает дорогу – но он запамятовал, что ручей неподвижен. И к тому же Лилит узнает – что же ему делать? Синий цветок – вот он лежит у изголовья – тут он понял; тихонько он пробрался туда, где спала Лилит, ее золотые, сияющие волосы разметались вокруг нее. Он уронил две капли сока ей на лоб, она вздохнула, и тень сверхъестественного ужаса легла на ее прекрасное лицо. Он бежал – ужас, угрызения совести, надежда разрывали его душу и заставляли бежать все дальше и дальше. Прибежал к ручью – он видел текущую воду – это и впрямь разделяющий ручей; перейдя этот предел, он снова окажется среди людей. Он прыгнул и…
Внезапно он осознал какую-то перемену – что с ним? Он не мог произнести ни слова – неужели он передвигается на четырех конечностях? Да, несомненно. Он глянул в ручей, чьи неподвижные воды застыли, словно зеркало, и там, о ужас, увидел себя; но был ли это он? Голова и лицо его; но тело было волчьим. Позади себя он услышал отвратительный насмешливый хохот. Он обернулся – там, позади, в струящемся красном свете, он увидал одного, с человеческим телом – и с волчьей головой и глазами, полными извечной злобы; и тот, в облике зверя, смеялся над ним громко, по-человечески, а он, пытаясь заговорить, издал только долгий волчий вой.
Но перенесемся мыслями от чужих пределов «той стороны» к простой деревушке, где когда-то жил Габриэль. Матушка Ивонна не была особо удивлена, когда он не явился к завтраку – он частенько поступал так, настолько он был рассеян; она только и сказала:
– Видать, ушел со всеми на волчью облаву.
Не то чтобы Габриэлю нравилась охота, просто на его счет матушка Ивонна имела привычку глубокомысленно изрекать:
– Никогда не знаешь, что он надумает.
Мальчишки же говорили:
– Небось эта нюня Габриэль прячется и скрывается где-нибудь, он просто боится выйти на волчью охоту; да он поди и кошки не зашибет, – ибо в их понятии превосходство сводилось к убийству – чем больше игра, тем больше слава. В обычные дни они ограничивались воробьями и кошками, но втайне надеялись, что когда вырастут, станут командовать армиями.
И этих-то детей учили кротким словам Христа – но увы, почти все брошенное семя пало при дороге и не смогло дать ни цветов, ни плодов; как же малые сии могли познать страдания и горький ужас и понять все значение слов, сказанных тем людям, о коих написано: «Иное упало в терние»[23].
Волчья охота пока ознаменовалась успехом в том смысле, что охотники один раз увидели волка, и неуспехом, ибо волк перемахнул через ручей на «ту сторону», где, конечно же, они побоялись преследовать его. Никакое другое чувство не укоренено в умах обычных людей так, как страх и ненависть к чему-нибудь «чужому».
Дни проходили, а Габриэля нигде не было видно – и матушка Ивонна, наконец, поняла, как сильно любила своего сына, которого другие матери только жалели, – гусыня и лебединое яйцо. Габриэля искали или притворялись, что искали, дойдя даже до того, что прочесали бреднем все пруды, что превратилось в великую забаву для мальчишек, убивших таким образом множество водяных крыс, – а Кармель сидела в уголочке и плакала весь день. Матушка Пинкель тоже сидела в уголке и, хмыкая, заявляла, что всегда считала, что Габриэль добром не кончит. Аббат Фелисьен был бледен и встревожен, но говорил мало, – только с Богом и присными Его.
Наконец, когда поиски кончились ничем, все решили, что Габриэля и в самом деле нет – то есть что он умер. (О других местах они знали так мало, что им и в голову не пришло, что он станет жить где-нибудь за пределами деревни). Так что было решено, что в церкви установят пустой катафалк и зажгут вокруг высокие свечи, и матушка Ивонна прочла все молитвы из своего молитвенника, с самого начала до самого конца, независимо от назначения молитвы, включая даже пояснения к разделам. А Кармель сидела в уголке боковой часовенки и все плакала и плакала. Аббат Фелисьен велел мальчишкам петь вечерню по усопшим (это им показалось малым развлечением по сравнению с прочесыванием прудов), а на следующее утро, на рассвете, отслужил панихиду с реквиемом, – их-то Габриэль и услышал.
Затем аббату сообщили, что один больной нуждается в последнем причастии. Так что он снарядил торжественное шествие с зажженными факелами, чей путь лежал по берегу разделяющего ручья.
Пытаясь заговорить, он издал лишь протяжный волчий вой – самый жуткий из всех звуков, исторгаемых животными. Он выл и выл – может, Лилит услышит его? Может, спасет? И тут он вспомнил о синем цветке – начале и конце его напастей. Его вопль пробудил всех обитателей леса – волков, людей-волков и волков-людей. В ужасе несся он впереди них – а позади, верхом на черном баране с человеческим лицом, скакал хозяин волков, чье лицо было вечно скрыто тенью. Лишь однажды он обернулся – ибо среди визга и завываний дьявольской охоты расслышал один голос, мучительно стонущий. И там, среди них, он увидел Лилит, с волчьим телом, почти скрытом покровом ее золотых волос, а на челе ее был синий след цвета ее таинственных глаз, полных слез, которые она была не в силах сдержать.
Путь святого причастия лежал вдоль ручья. Вдалеке послышались страшные завывания, и факельщики, побледнев, задрожали, – но аббат Фелисьен, держа перед собой причастие, твердо сказал:
– Они не смогут повредить нам.
Внезапно показалась дикая охота. Габриэль перепрыгнул через ручей, аббат Фелисьен осенил его причастием, и сразу человеческий облик вернулся к нему, павшему ниц в преклонении. Но аббат Фелисьен все держал воздетой дароносицу, и вокруг люди встали на колени в страхе, однако лицо священника, казалось, распространяет божественное сияние. Но тут хозяин волков поднял в своих руках нечто по форме устрашающее и невообразимое – дароносицу с адским причастием, и трижды поднимал он ее, насмехаясь над святым обрядом благословения. И на третий раз языки пламени брызнули из его пальцев, и вся «та сторона» леса занялась пламенем, и все покрыла великая тьма.
Все, кто были там, сохранили память об этом на всю жизнь, – даже на смертном одре воспоминание не стерлось. Вопли, ужасающие до невообразимости, разносились всю ночь – а потом хлынул дождь.
Ныне «та сторона» безопасна – одни обугленные пни; но до сих пор никто не решается перейти ручей, кроме Габриэля – ибо каждый год на девять дней странное безумие настигает его.
МИФ О ПАНЧЕ
На свете существует четыре великих сюжета: Фауст, Тангейзер, Дон Жуан и Панч.
Каждый из них может рассматриваться в зависимости от своей индивидуальности. В первом выразилось стремление человеческой души к счастью, недостижимому на этой земле; во втором – извечная война плоти и духа; в последних же двух – триумф абсолютного зла. Казалось бы, с этой точки зрения последние два сюжета тождественны друг другу. Однако это не так; они существенно различаются. Замысел первого Дона Жуана принадлежит испанскому монаху[24], и получившийся персонаж ужасающ и трагичен. Еще более мрачным выходит он у Граббе[25], в его чрезвычайно яркой драме, так мало известной; потом у Мериме[26] и, особенно, у Бальзака[27] он предстает интеллектуалом, хотя нам он знаком, скорее, в образе легкомысленного распутника, которого сопровождает забавный слуга, – образ, приниженный Мольером[28] и позднее – знаменитой оперой[29]. В сущности же, персонаж этот совсем не комичен и склонен к одному лишь роду порока.
Образ Панча гораздо более устрашающ, ибо призван забавлять – и забавлять детей.
Каково происхождение этой странной драмы? Ее находят повсюду: по всей Европе и дальше на восток. Главный персонаж появляется под разными именами: Петрушка, Каспар, Карагёз, Панч. Поэтому бессмысленно утверждать, что имя «Панч» является производным от имени Пульчинеллы, персонажа старой итальянской пантомимы, окруженного Арлекином, Коломбиной, Бригеллой и прочими. Наш английский Панч принял образ итальянского Пульчинеллы по чистой случайности. Русский Панч, например, чей сюжет повторяет в общих чертах наш, не имеет горба или длинного носа или таких черт, которые присущи нашему Панчу; нет их у Карагёза или Каспара; нет их, пожалуй, и у итальянского Панча, но все они говорят одним и тем же скрипучим голосом, напоминающим о крайнем издевательстве.
Генрих Гейне свидетельствует, что впервые драма о Фаусте ставилась в театре Панча. В самом деле, все четыре сюжета объединены одним элементом – триумфом сатаны. Любопытно, что именно в Англии эта драма до сих пор сохранила свою цельность. Поэтому мы будем рассматривать именно английского Панча. Итальянский Панч довольно дружелюбен и невинен. Большую часть времени он болтает с музыкантом и даже не помышляет об убийстве жены. Русский Панч также много общается с музыкантом и приветливо встречает персонажей, пришедших его навестить, заключая их в объятья, хотя потом всех их убивает. И когда, переодетый в овечью шкуру, появляется черт, чтобы утащить его, приветливый Петрушка начинает гладить его, и тут черт сбрасывает с себя шкуру и предстает в своем истинном обличье. Восточный Панч довольно непристоен, более связан с образом Дона Жуана, но и он под конец сталкивается с Иблисом. Однако особенно трудно приходится с дьяволом немецкому или, вернее, баварскому Панчу, и он даже обращается к детям с вопросом, что ему с тем делать. Они предлагают ему разное, например, накрыть сатану кастрюлей или шарахнуть сковородкой и так далее. Наконец, бедному Каспару[30] приходит в голову блестящая идея: он побьет дьявола его же оружием. Он берет трезубые вилы и пронзает дьявола. Сначала кажется, что он победил; дьявол исчезает. Но нет! скоро он вновь появляется, но уже утроенный – три дьявола вместо одного. Не слишком ли богохульно будет подумать, что это намек на одну притчу из Писания? Заложен ли в этом определенный серьезный смысл? Думаю, да. Но давайте проанализируем английского Панча, с которым мы знакомы сызмальства.
Ныне Панча показывают редко, а когда показывают, то в ухудшенном варианте. В драму включены все и всяческие глупые, поверхностные эпизоды: аллигатору с сосисками или Тоби, персонажу, драме абсолютно чуждому и приходящемуся к месту в одной-единственной сцене, там, где Панч вступает в спор с одним из многих людей, которых потом убивает, о том, кому принадлежит собака (эпизод этот совершенно излишен), сейчас отводятся главные роли, в том числе самой собаке. Часто драма даже не имеет концовки. Опишем же старые постановки Панча.
Помню – и это одно из самых первых моих воспоминаний – старого, всего в заплатах, Панча, который начинал представление со странной сцены: его отец, чем-то напоминавший самого Панча, заключал некий договор с Дьяволом и отдавал в руки того тщательно изготовленного Панча-дитятю. Помню, тогда это произвело на меня, маленького ребенка, ужасающее впечатление. Возможно, эта сцена – ключ ко всей драме Панча, развившейся, как и Дон Жуан, в угрюмом воображении какого-нибудь монаха. Но это всего лишь один пример, и я, быть может, преувеличиваю. Рассмотрим же, как Панча ставят сейчас, и проследуем его историю.
При первом своем появлении он очень дружелюбен; приветствует зрителей, зовет жену, к которой проявляет самые нежные чувства, и ребенка, показывая себя прекрасным мужем и семьянином. Декорации напоминают альпийский пейзаж. Почему? Невозможно сказать. Даже самое скрупулезное исследование не сможет установить, в какой стране появился и расцвел театр Панча. Законы этой страны, правда, весьма своеобразны. Но это не имеет никакого значения; Панч – не местный, а универсальный персонаж. Иной раз мы в какой-то мере склонны отдать ему свои симпатии, как, например, в следующем эпизоде. К своему ребенку он относится со всей добротой и любовью. Ребенок же нарочно вопит так, что ни один человек не выдержит. И Панч выкидывает его в окошко. Жена Панча, Джуди, – мне так и не удалось установить, почему ее зовут Джуди и каково происхождение этого имени, но в русском Панче ее именуют Юшей[31]; возможно, она каким-то образом связана со старым кукольным действом о Юдифи и Олоферне[32], – спрашивает его, естественно, что сталось с ребенком. Он отвечает с восхитительной откровенностью: «Я вышвырнул его в окно». Тогда она ныряет вниз, появляется с палкой и начинает дубасить Панча. Однако Панч не таков, чтобы спускать жене побои, поэтому он вырывает у нее палку и отплачивает ей тою же монетой, что приводит к самому катастрофическому результату. Умышленно ли этот убийство или нет, я так и не смог понять. Но именно с этого момента начинается вакханалия преступлений Панча. К нему является педель, символизирующий в стране Панча закон и власть, чтобы выбранить его за несоответствующее поведение. Опять же, поневоле симпатизируешь Панчу, ибо кто выдержит брань педеля? К тому же, убив раз, Панч не видит причин, почему не убить в другой. Так что педель получает палкой по голове, и это – предумышленное убийство номер один. После этого к Панчу является несколько людей с разными поручениями, и со всеми он поступает так же. Удается спастись лишь одному – клоуну Джоуи. Аллегорический смысл здесь налицо – только смех может ускользнуть от абсолютного зла. После этого наши симпатии опять на стороне Панча, ибо на этот раз к нему является человек, представленный «чужеземцем». Люди непременно должны говорить по-английски, а если не могут, то должны научиться. Ведь нелепо говорить просто «шаллабалла!»[33]. Затем происходит отвратительная оргия с трупами, в которой участвуют Панч и клоун. Клоун засовывает их вечно не туда, пока Панч с гордостью ведет подсчет.
Затем наступает центральная часть драмы; он на миг испытывает угрызения совести. Вне себя от удовольствия, что убил так много людей, он сидит, свесив ноги через парапет, и напевает песенку. Позади тихо появляется белый призрак. Панч оглядывается; в нем еще сохранились остатки совести. При взгляде на привидение он падает в обморок. Очнувшись и будучи без сомнения знаком с современными теориями, он приписывает появление призрака своему состоянию и хочет проконсультироваться с врачом.
С врачами частенько трудно договориться насчет их гонорара, но когда Панч предлагает врачу грош да еще требует сдачи, а врач на это справедливо негодует, – в общем, довольно невежливо убивать еще и врача. Никому не позволено безнаказанно убивать врачей; закон, судья, присяжные и палач – все в одном лице – приходят, чтобы, наконец, привлечь Панча к правосудию (Как, однако, все легко устроено в стране Панча!) И Панча бросают в темницу, где он делается очень печальный и поет Miserere из «Трубадура». Потом приходит представитель правосудия и притаскивает с собой виселицу. Беднягу Панча хотят вздернуть. И тут Панч применяет подлый прием, весьма недостойный его сатанинского нутра. Он говорит палачу, что его никогда прежде не вешали и что, хотя он лично совершенно не против виселицы, он не знает, с какой стороны продевать в петлю голову, и просит палача показать ему, что тот и проделывает. И тогда Панч затягивает петлю, и вот палач, единственный представитель законного возмездия, повешен сам! То, как ведут себя Панч и клоун, втискивая тело в слишком тесный гроб, попросту неприлично. Панч утерял свои манеры, а с ними – и мораль.
Палач повешен, закон и власть попраны, все ограничения отменены, и Панч затягивает победную песнь. Но, как и в прошлый раз, является еще более жуткий призрак. Сам заклятый Враг. И тогда Панч с потрясающей ловкостью огревает Сатану своей палкой; после чего эта отвратительная пародия на Спасителя заключает Смерть и Ад в Плен. И смеется в лицо Богу и человеку; но все-таки последним смеется Сатана.
Многие пытались уничтожить Сатану, от Панча до профессора Гексли. Едва ли они в этом преуспели.
Я нарочно повествую обо всем в легком ключе, чтобы подчеркнуть неописуемый ужас, который внушает этот сюжет. Отчего же он забавляет нас?
Это отвратительное, уродливое создание убивает нескольких человек ударом палки по голове. Забавно ли видеть, как люди умирают от удара палки по голове? И если да – почему? Жуткая трагедия Панча состоит в том, что он непреодолимо комичен. И почему же он комичен? Что вообще значит комическое? Думаю, объяснением может послужить вот что.
Будучи изгнаны из рая, куда нам уже не вернуться, мы смягчаем ужас и безобразие жизни нашей способностью смеяться. В минуты, когда темно и тихо, timor nocturnus, страх ночи, как он назван в Псалтири, который при свете дня казался нам попросту нелепым, превращается в удушливый кошмар. Мы не смогли бы жить, если бы живо воспринимали уродство мира. Поэтому, как слезами изливается наше разочарование в том, чего мы не достигли, и никогда не достигнем в этом мире, того, что наверху, так смех приносит нам утешение от страха того, что внизу. Природе, чистой и благостной, незнаком смех; как сказано где-то о Христе, «многие видели Его плачущим, но никто – смеющимся».
Чем развращенней становится эпоха, тем острее ее чувство юмора. Я использую слово «юмор» за неимением более подходящего слова. Юмор подобен трупным мухам, рождающимся от гниения и питающимся разложением.
Тем не менее, стоит быть благодарными за то, что у нас есть это чувство, которое превращает уродливое в гротескное, а жестокое – в смешное.
Может показаться, что я рассматриваю кукольный театр чересчур серьезно. Отнюдь. Драма Панча прекрасно иллюстрирует мысль, которую я хочу передать. Действительно, сущность ее еще страшнее первых трех сюжетов, упомянутых мной в самом начале, благодаря своей теме, служащей развлечением для детей; и тема эта – триумф абсолютного зла!
МАЗУРКА МЕРТВЕЦОВ
Трагибуффонада в шести частях
Dramatis personae[34]:
В прологе:
Князь Фердинанд фон Молденберг; графиня Штерн; Люсиль, ее дочь; мадам Изольда де ла Вальер; Антуан, паж.
В драме:
Карл Флотт и Максимус-Фидель, немецкие студенты; граф и графиня Аксельманштейн; Ирэн и Шарлотта, их дочери; а также три молодых человека.
Между Прологом и Сценой первой должно пройти сто лет.
ПРОЛОГ
Описание сцены: Роскошный салон, обставленный в стиле рококо восемнадцатого века. КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД ФОН МОЛДЕНБЕРГ играет на клавикордах. Он моложав, женственен, с тонкими чертами лица, его длинные белые руки унизаны перстнями. Он одет по моде своего времени, однако чересчур пышно, утопает в изобилии белоснежных кружевных оборок. На нем длинный пудреный парик, он нарумянен, глаза его подведены.
КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (играет очень печальную мазурку, говорит под музыку): Что ж, полагаю, идея не то чтобы очень оригинальна. Она уже приходила в голову Сарданапалу и тому же Нерону. Но как мы можем быть оригинальны сейчас: в нынешний век, когда все идеи затасканы, мы носим парики вместо волос, а на щеки наносим румяна. Все – сплошная подделка. Наши чувства, наша поэзия, живопись, музыка, – все. А то, что я сейчас играю, – тоже подделка? Не думаю: хотя было бы подходяще иметь притворную песню смерти. Определенно мне нравится эта мазурка. Я сыграю ее им; наверняка она вызовет у них восхищение. О! Подумать только – последний вопль встречают притворным восхищением! Им, однако, суждена та же дорога. Замысел, конечно, жесток. Однако я пощадил Антуана, у которого будет на что провести остаток жизни: которого я по-настоящему люблю и временами склонен думать, что он любит меня. Забавно будет наблюдать, как изящные ноги мадам де ла Вальер охватит огонь из преисподней, а (со смехом) графиня Штерн будет даже чересчур забавна. (Задумчиво). К счастью, ныне в такие вещи мы уже не верим: мы просто задохнемся, примем легкую смерть, задолго до того, как пламя коснется нас. Вот так в своем бедном маленьком княжестве я смогу реализовать то, что Сарданапал в его великой империи сделал задолго до меня. Сейчас уже поздно отступать. (Снова играет мазурку, медленно и мучительно; затем зовет): Антуан!
(Входит АНТУАН)
Итак, командор, ты знаешь, что нужно делать. Однако я еще раз повторю инструкции. Когда ты услышишь, как я играю эту мазурку (играет), ты возьмешь факел и подожжешь дом. Перед этим под каким-нибудь предлогом выведи вон слуг. Скажи им, к примеру, что я хочу побыть один или что даю им выходной: (вручает деньги) это им на развлечения. Что касается тебя самого, то я отдаю тебе (передает деньги) все деньги, что у меня есть. Разумеется, ты должен будешь сразу покинуть страну. Но думаю, что этого тебе хватит на всю жизнь.
АНТУАН: Ах, монсиньор! Почему вы просите меня совершить такую ужасную вещь! Ведь вы знаете, я предан вам и сделаю все, что бы вы ни приказали. Умоляю вас в последний раз – не возлагайте на меня этой обязанности.
КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Ну-ну, дитя, ведь ты ничего не теряешь от этой маленькой операции: напротив, даже приобретаешь. Как я уже говорил, ты обеспечен на всю жизнь.
АНТУАН (разрывая банкноты и бросая золото на пол). Неужели вы думаете, что мне нужны деньги? Это вы думаете? Я вам не мадам де ла Вальер.
КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (раздельно): Что ж, дорогой, произвести хорошее впечатление под конец, конечно, неплохо: (приковывая его взглядом) однако ты сделаешь, как я сказал.
(Молчание. АНТУАН стоит не шевелясь, глядя на КНЯЗЯ).
АНТУАН (выговаривает тихим голосом): Да… я сделаю, как вы сказали.
КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Антуан, подойди! Попрощайся хотя бы: почему ты смотришь так страшно? (Торопливо – рядом слышны голоса). Бери все, все, что я имею, но попрощайся со мной! (Голоса раздаются ближе: КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД страстно целует его – и затем холодно): Иди и проведи дам сюда.
(Входят ГРАФИНЯ ШТЕРН и ЛЮСИЛЬ)
ГРАФИНЯ ШТЕРН (входя, в сторону): Думаю, на этот раз я точно обошла мадам де ла Вальер. Она считает себя привлекательной; но не такой, как моя дочь, и князя наверняка потянет на новенькое – он ведь никогда ее не видел. Так что, как ни крути, это то же самое. Что Люсиль, что я, – не играет роли. В любом случае, я снова одержу верх.
(АНТУАН выходит, бросив долгий взгляд на КНЯЗЯ, который не смотрит на него).
Кажется, князь, вы еще не знакомы с моей дочерью; надеюсь, с моей стороны не будет чересчур смело представить ее вам?
ЛЮСИЛЬ (краснея): Мама сказала, что я могла бы, и я подумала, что… (смешивается).
КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Напротив, мадемуазель, я счастлив нашему знакомству. Вы выглядите почти так же молодо, как ваша мать, – и почти так же красивы.
ГРАФИНЯ ШТЕРН: Право, князь, вы чересчур саркастичны!
КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (страдальчески восклицает): Я никогда не позволяю себе быть саркастичным! (В сторону). Бедное дитя, неужто и ей суждено стать жертвой всесожжения?
(Входит АНТУАН).
АНТУАН (резко): Мадам Изольда де ла Вальер.
КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Моя дорогая Изольда, как к лицу вам это белое бархатное платье! С этим золотым поясом и восхитительным бирюзовым ожерельем на шее.
МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР: Я так рада, что вам понравилось мое платье, сир: и я думаю, что мне удалось раздобыть для этой бирюзы, вашего подарка, очень милую оправу.
КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (задумчиво): Так это я подарил вам это ожерелье? Не помню.








