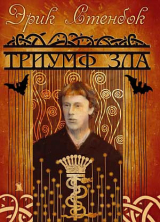
Текст книги "Триумф зла"
Автор книги: Эрик Стенбок
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
НАРЦИСС
Мой отец умер до того, как я родился, а мать – производя меня на свет, так что с рождения мне достались сразу и титул, и состояние. Я упоминаю об этом, просто чтобы показать, что Фортуна с самых первых моих шагов улыбалась мне. Красота была единственной страстью моей жизни, и я сознавал свою удачливость особенно остро потому, что мой идеал воплотился во мне самом. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я оглядываю комнату и вижу портреты себя самого на разных этапах моей жизни: в детстве, в отрочестве, в юности. Лица такой красоты я больше ни у кого не встречал. Эти великолепные, классические черты, эти огромные сияющие, синие глаза, вьющиеся золотистые волосы, точно соткавшиеся солнечные лучи, этот божественный изгиб рта, изящество губ, изумительная осанка! Я не был тщеславен в обычном понимании, ибо тщеславие подразумевает жажду одобрения другими, подделку под их желания. Наоборот, меня мало волновало, что думают другие; я часами просиживал перед зеркалом в некоем экстазе. Нет! ни одна картина, которую я когда-либо видел, не могла сравниться со мной!
В детстве я был избалован. Жизнь в школе была необременительна. За меня делали задания, а наставники смотрели сквозь пальцы на мои шалости; и хотя мальчики из моего класса ненавидели и завидовали мне, они знали, что если тронут меня, то сразу же схлопочут от моих защитников из старших классов. Я не хочу сказать, что был неважным учеником; потому что, кроме красоты, я был наделен еще и острым умом и за день мог выучить то, что другим давалось за месяцы. И если я говорю, что был избалован, это не значит, что я был обидчив и капризен, как все балованные дети; напротив, я был неизменно приветлив, быть может, потому, что мне никогда не перечили. В отличие от тех, чье чувство прекрасного развито необыкновенно, у меня не было абсолютно никаких увлечений. Я никого не любил – но милостиво позволял любить себя и всегда находил способы благодарить любящих меня, за что и заработал репутацию человека бескорыстного.
Все это осталось в детстве. Повзрослев, я начался вращаться в обществе. Женщины, все без остатка, моментально влюблялись в меня. Я не имею в виду искательниц богатства и знатности, но равных мне по богатству и положению в обществе. Меня поздравляли с моими завоеваниями, ведь все мои поклонницы были знаменитыми красавицами. Вот уж красавицами! Что была их красота по сравнению с моей? Я не понимал ни женщин, ни их чувств; но я прочел несколько романов, старался быть любезным со всеми и ухаживал за ними так, как было описано в книгах. Однажды появилась девушка, которую считали ослепительно красивой. В самом деле, она были довольно хороша собой. Она была дочерью мексиканского миллионера, и за ней волочились все без исключения. Мне напомнило это одну из «Баллад Бэба»: «Болтал с ней герцог Бейли там…»[3], хотя, в отличие от герцога Бейли и герцога Хамфи, ее поклонники горели желанием бросить свои титулы и поместья к ее ногам. Однако она, не в пример героине баллады, предпочла мой «робкий, тихий нрав». Должен оговориться, что моему тщеславию это польстило; мне было приятно думать, что ради меня другие отодвинуты на задний план, я вел себя с ней как можно более приветливо, появляясь в ее обществе повсюду. Она была определенно умна, но отличалась некой необузданностью, которая меня раздражала.
Однажды ее отец сказал мне:
– Вы не представляете, как я обрадовался известию о вашей помолвке с моей дочерью. Как-нибудь, когда нам никто не будет мешать, вы, надеюсь, не откажетесь обговорить все детали этого дела. Я намерен показать себя благородно и дам за ней приданое на сумму… (Господи! Этот выскочка!)
– Помолвка с вашей дочерью? – воскликнул я. – Между нами не было такого уговора. Я крайне сожалею, но я не имею представления, от кого вы об этом узнали. Эти сведения абсолютно не соответствуют действительности.
– Что? – спросил он. – Не помолвлены с Энрикеттой? Да что вы такое имеете в виду? Вы что же, полагаете, что я позволил бы вам просто так разгуливать с моей дочерью? Еще раз спрашиваю вас – что вы имеете в виду?
– Сожалею, – сказал я, – что вас ввели в подобное заблуждение. Чтобы доказать, что я серьезно отношусь к своим словам, впредь я буду избегать всяческого общения с вашей дочерью. Полагаю, что едва ли она разделяет ваши заблуждения.
И с этим замечанием я покинул дом.
Вскоре после этого ко мне явилась сама Энрикетта, застав меня перед камином за чтением книги. Она была воплощенная ярость. Эмблема гнева. В ту минуту мне неожиданно вспомнилось изречение: «Non est ira sicut ira mulieris»[4].
– Так вот как вы себя повели! – произнесла она. – Ну что ж, получите же! – и с этими словами она выплеснула мне в лицо содержимое какого-то пузырька. Это был не купорос; он ослепил бы меня, но этого, к сожалению, не произошло!
Резкая боль охватила половину лица, и жидкость начала разъедать кожу. Щеки запали, кончик носа отвалился, волосы сходили целыми прядями, выпало несколько зубов, рот превратился в жуткую ухмылку, глаза, лишенные бровей и ресниц, страшно глядели из глазниц. Я лишь единожды видел себя в зеркале; ничего более омерзительного невозможно себе представить.
Несколько друзей пришли посочувствовать мне, но я не принял их ни под каким видом. Я разбил и выбросил вон все зеркала в доме и едва мог смотреться в таз для умывания. Со своими слугами я разговаривал из-за ширмы, жил совершенно один и выходил только по ночам. У меня осталась единственная возможность дышать воздухом и прогуливаться, поэтому я подкупил полицейского, чтобы он пускал меня в Гайд-парк перед самым закрытием, где я бродил всю ночь, пока на рассвете ворота не отпирались, после чего я спешил домой.
Как-то ночью, во время одной из моих обычных одиноких прогулок, я услышал в темноте детский плач.
– Пожалуйста, помогите, – плакал голос, – мать оставила меня здесь и обещала вернуться, а сейчас я услышал, что часы бьют четыре раза, а она еще не возвратилась, а я слеп, совсем слепой.
Я зажег фонарь; он осветил ребенка лет девяти-десяти. Он был одет в лохмотья – но у него был выговор джентльмена.
– Сейчас из сада выйти невозможно, – сказал я. – Тебе нужно ждать, пока утром ворота не откроются. Подойди, сядь рядом. Хочешь есть?
– Да, – ответил он просто.
– Ну что ж, давай тогда поедим.
Я раскрыл сумку, в которой всегда носил разные деликатесы и вино для моих полночных трапез, расстелил салфетку и разложил на ней еду.
Затем ребенок рассказал мне о себе. Я не смогу повторить его историю так безыскусно, как это сделал он; перескажу самую суть. У него была хрупкая внешность, очень милое лицо, закрытые его глаза внушали бесконечную жалость. Выяснилось, что он жил со своей матерью. Звали его Тобит: он родился слепым и не знал, что значит видеть. Он не знал, есть ли у него фамилия; мать его носила прозвище «Красотка Бесс», потому что люди говорили, что она очень красивая.
– Что значит «красивая»? – спросил он меня. Я поежился.
– Это значит иметь хорошую внешность; но в красоте нет никакой пользы. Лучше быть просто хорошим.
Он рассказал, что мать всегда била его; но каждые три месяца к ним в гости приходил один добрый господин, который всегда дарил ему подарки, а матери – деньги. Этот господин был офицер. Ему было заранее известно, когда добрый господин придет, потому что мать переставала бить его за три недели до его прихода, поскольку однажды тот углядел синяки, рассердился и побил мать. А когда господин ушел, мать сказала ему: «Если расскажешь ему что-нибудь обо мне еще раз, я из тебя душу вытрясу».
Господин беседовал с ним и брал на прогулки. Но все подаренные игрушки мать отбирала у него и продавала, чтобы купить выпивку. Два раза он на целую неделю ездил с добрым господином в место, называемое «загород». Там были цветы и пели птицы; там он был счастлив.
– Она не отобрала у меня только это, – сказал он, вытаскивая из кармана грошовую свистульку, – потому что сказала, что за нее ничего не получишь, и я могу идти на улицу и свистеть. Тогда мне, может быть, будут подбрасывать монетки.
И он принялся наигрывать мелодию на своей свистульке. Боже милостивый! я и не подозревал, что из такого инструмента можно извлечь что-либо подобное! Он начал с известного мотива шарманщиков, который перешел в вариации и рулады. Я был поражен.
– Много народу дает мне монетки, – сказал он простодушно, – но мать их у меня отбирает.
Однажды он подслушал, как мать препирается с тем господином.
– А чего бы тебе не сделать меня честной женщиной? – осведомилась она.
– Довольно-таки невозможно сделать из тебя честную женщину. Так что лучше рот закрой. Ты-то знаешь, что я не могу на тебе жениться. И даже если бы мог, то не стал бы. Я могу только Бога молить, чтобы забрать с собой бедного крошку Тобита.
– Забрать ребенка у матери, – захныкала она. – К счастью, законы Англии этого не позволяют.
– Заткнись к чертям! – прикрикнул он. – Мальчонка тебе до фонаря. Тебе денежки подавай. Точно говорю, ты обращаешься ним дурно, хотя он мне об этом слова не сказал. И ты еще говоришь что-то о честности. Посмотри, как одет мальчишка, – и взгляни на себя!
Как только он ушел, она набросилась на мальчика и избила так, что он вынужден был звать на помощь. Мужчина вернулся, схватил ее и прижал к полу.
– Слушай, – проговорил он, – ты завязывай с этим, чертовка! Еще раз попробуешь это сделать – получишь сполна!
В последнюю их встречу тот человек был еще ласковее. Тобит почувствовал, как на лицо его падают горячие слезы.
– Бедный крошка Тобит! Я еду в далекую страну, и мы, наверное, больше не свидимся.
Затем он услышал, как он разговаривает с матерью:
– Послушай, Бесс, это все деньги, что у меня есть, и тебе их должно хватить, покуда я буду в отлучке. Но я надеюсь вскорости вернуться, и платить тогда мне будут больше.
После этого Тобит плакал много дней, что вывело мать из себя. Однажды, когда прошло достаточно времени, он осмелился спросить, когда добрый господин вернется из далекой страны.
– Он не вернется, – раздраженно ответила мать. – Его убили – застрелили где-то в Африке, черт бы его подрал! Убирайся из дому играть на своей свистульке.
Он вышел на улицу и сначала разрыдался, а потом каким-то образом горе его перелилось в музыку – «потому что», – сказал он, – «я заработал тогда больше монет, чем прежде». А какое-то время спустя он услышал, как мать шепчется с каким-то мужчиной.
– Черт подери! – ругался тот. – Мы не можем взять с собой этого поганого щенка.
– Ничего, я сама разберусь, – ответила она. Тем же вечером она вывела его в парк, сказала, что ей нужно поговорить с одним человеком, что она скоро вернется, и чтобы он оставался на месте. Тобит слышал поблизости мужской голос, но мать так и не вернулась.
К счастью, закончив говорить, мальчик погрузился в сон. Я не знал, что сказать. Омерзение, охватившее меня от его рассказа, напомнило мне то чувство, что овладело мной при виде собственного лица. На рассвете я разбудил мальчика. Я опустил на лицо густую черную вуаль, и мы направились ко мне. Посланный мною на розыски слуга вернулся с тем, чего я и ожидал, – что мать Тобита сбежала со всеми пожитками, не внеся платы за комнату.
Так что мне, наконец, было ниспослано утешение. После долгого одиночества у меня появился спутник – тот, который не отпрянет при виде меня. Я решил покончить с моими ночными блужданиями и сумел купить домик в отдаленной, уединенной местности за городом, где можно было бы бродить часами по окрестностям, никого не встретив; сжалившись над слугами, я позволил им поселиться в ближайшем городке, приказав только снабжать меня провиантом и раз в неделю убирать дом. Ребенку здесь очень нравилось. Его безмятежное, абсолютное счастье при всей его слепоте открыло мне гораздо большее наслаждение, чем я испытывал раньше при виде красоты. Он был очень смышленым и феноменально одаренным ребенком, я учил его музыке, что доставляло ему огромное удовольствие. Фортепиано, разумеется, было доселе ему совершенно неизвестно. Единственным инструментом его была грошовая свистулька!
Однажды я прочел в газете, что некий знаменитый хирург провел успешную операцию на пациенте, рожденном слепым. Внутри меня завязалась борьба; а вдруг ребенок сможет видеть! Я думал о том, что он лишен того, что представляло для меня огромную ценность, и могу ли я и дальше отнимать у него все это? Но когда он прозреет, он отпрянет от меня в страхе. Однако здоровье мое слабеет – оставалось мне недолго, и должен ли я, потакая своему краткосрочному эгоизму, обрекать его и дальше на вечную тьму, тогда как в моих силах ему помочь? Как я уже сказал, это была ужасная борьба. Наконец, я решился посоветоваться с офтальмологом. Я взял ребенка с собой в Лондон.
Врач, осмотрев его, заключил, что операция будет несложной – куда более простой по сравнению с тем случаем, о котором писали в газетах. Потребуется только лишь – собственно, не знаю, что именно. Я не был особенно сведущ в медицинских терминах, поэтому дал свое согласие на операцию. Ребенок был усыплен хлороформом, и операция завершилась, после чего на его глаза была наложена повязка, которую мне было сказано снять на третий день.
На третий день я снял ее. Я всегда думал, что слепым, даже слепорожденным, известны зрительные образы. Однако с ним это было не так. Операция закончилась успешно, он мог видеть. Прикасаясь к предмету, он прекрасно знал, что это кресло или стул, но теперь мне было очень трудно объяснить ему, что он видит кресло или стул. Он был как в дурмане. И, наконец, он произнес:
– А знаете, красивее вас нет никого в целом свете!
ГИБЕЛЬ ПРИЗВАНИЯ
На первый взгляд не было ничего удивительного в том, что Серафина де Сен-Амарант, первейшая красавица парижского сезона и одна из самых богатых наследниц, вышла замуж за маркиза Селестина де Лаваля, последнего представителя одного из древнейших родов Франции, и что, поженившись, «они зажили счастливо». В этом событии не было ничего выдающегося, и объявлять о нем следовало лишь на светских страницах «Морнинг Пост». Однако для близких друзей обеих сторон оно стало величайшим сюрпризом.
Де Лавали обзавелись титулом не так давно. Злые языки поговаривали, что настоящее имя маркиза было Жозеф Леви; в его внешности и впрямь проскальзывало нечто иудейское. Но разве не обладал он огромным состоянием? И разве не был он женат на первейшей mondaine?[5] Ибо Серафина получила обычное воспитание парижской mondaine. В то время, когда разворачивались эти события (а я повествую о том, что произошло на самом деле), ее, избалованную в детстве и прошедшую послушание в монастыре, заставляли появляться на всех балах и вечерах.
Она была, безусловно, красива – темноволосая, с ясными, одухотворенными глазами. Но почему-то балы и вечера не прельщали ее – она жаждала вернуться в монастырь и принять постриг, о чем ее родители, разумеется, не хотели и слышать. Она не чуждалась общества и не возражала против похода куда-нибудь в театр. Но там от нее можно было услышать: «Да, здесь весело, но эта жизнь не для меня». Одного она совершенно не переносила – балов. У нее была одна из тех грациозных фигур, которые выглядят прекрасно даже в рубище; чисто женская любовь к платьям в ней тоже присутствовала, и она великолепно одевалась. Танцевала она превосходно. Но пустые комплименты и болтовня, сальные взгляды поклонников вызывали в ней непреодолимое омерзение. Знаменитый «спортсмэн», герцог дю Морлей, которого ее родители так хотели ей навязать в женихи, вызывал в ней особое отвращение. Но какое удовольствие испытали ее родители, когда она увлеклась маркизом де Лавалем!
Селестин де Лаваль во многих отношениях напоминал ее саму, хотя уже успел повидать общество. Он был дилетант в литературе, живописи и музыке, и был довольно расточителен. Какое-то время он серьезно думал о том, чтобы стать монахом; но ему не хватало мужества сделать последний шаг. Он говорил: «Я обойдусь без всего этого; это для меня не первейшая необходимость. Я легко могу все оставить». И друзья отвечали: «Ну да! мы тебе верим». Но, несмотря на знакомство с новейшими идеями, он оставался религиозным. В самом деле, именно в этой связи он повстречался с мадемуазель де Сен-Амарант. Он был красив, с умным лицом, ему было около тридцати. Это случилось в церкви, на вечерней молитве; дама, рядом с которой он сидел, уронила молитвенник, он поднял его и передал ей. Ее красота поразила его, как всегда поражало все прекрасное, хотя никто из его друзей не помнил, чтобы он влюблялся в женщину. Во Франции сохранилась почти что восточная система гаремов. Мужчина может быть близко знаком с другим мужчиной по ресторанам и кафе, но так и не быть представленным его семье; в ресторанах-то Селестин часто и встречал барона де Сен-Амаранта. Однажды, встретившись в каком-то cercle[6], Сен-Амарант попросил его почтить свои присутствием большой бал, устраиваемый в день рождения его дочери. Но если и было что-то более ненавистное Селестину, так это балы. Не имея достаточного повода для отказа, он был обязан принять приглашение. Итак, он пошел. Велико же было его удивление, когда он увидел там девушку, с которой несколько дней назад встретился в церкви. Он был обязан, из простых приличий, пригласить ее на танец. Она сказала ему совершенно искренне:
– Уверена, вы любите танцы не больше моего.
Он ответил:
– Правда, не люблю. Если вы не возражаете, лучше присядем где-нибудь в тени. Кажется, мы уже встречались.
– О да, – сказала она, – в церкви святой Магдалины; вы подняли мой молитвенник. Вы хотя бы ходите в церковь. Ах, я так устала от этой нескончаемой карусели балов и вечеров. Нельзя ли просто оставить меня в покое? Любопытно, нравятся ли вам балы.
– Отнюдь, – ответил маркиз, – такие вещи мне совсем не по душе. Я был обязан принять это приглашение, – и, покраснев и запинаясь: – Конечно, мадемуазель, я не хотел сказать…
В эту минуту к ним подошел герцог де Морлей, чтобы пригласить ее на танец, и тем спас его от произнесения «того, чего лучше бы не произносить».
Кончилось все это тем, что вскоре маркиз стал близким другом семьи. Барон постоянно приглашал его на ужин и использовал каждую возможность, чтобы оставить их наедине, думая, что они увлеклись друг другом и составляют прекрасную пару.
В каком-то смысле они и впрямь увлеклись друг другом. У них было много общего во вкусах: для нее было облегчением, после длинной череды самодовольных кавалеров, найти человека, заметившего ее интеллектуальные качества. А он, кажется, испытывал те же самые чувства к ней. Между ними возникли доверительные отношения. Как-то раз она сказала ему:
– Вы знаете, что я обладаю тою же решимостью, что и вы. Вы свободны, я – нет. Я намерена вступить в религиозный орден, но что же мне делать? Ведь родители держат меня в такой строгости, какой позавидует самый суровый орден, и продолжают настаивать на моем браке с одним из этих жалких созданий в стоячих воротничках и с пустыми физиономиями, при виде которых меня охватывает омерзение. Вы – единственный человек, который стал мне другом: а мать не хочет, чтобы я заводила дружбу с девушками, хотя если бы это произошло, не думаю, чтобы это мне понравилось. Их жизненный идеал отталкивает меня. Так что же делать? Только к вам одному, кто может меня понять, я обращаюсь за советом.
– Что ж, – не спеша ответил он, – эту сложность можно преодолеть только одним способом. Вы, наверное, будете удивлены, услышав мое предложение. Но, поразмыслив, вы придете к выводу, что в нем ничего особенного нет. А именно, вы и я заключим номинальный брак и поживем немного вместе как брат и сестра; потом вам будет вольно делать все, что угодно. Мы расстанемся и разойдемся каждый в свой монастырь.
Задрожав, она произнесла:
– Но если вам случится полюбить другую женщину, а я должна буду уйти в монастырь, то я останусь висеть на вас непосильным грузом.
Он отвечал:
– Я думал, что вы знаете меня достаточно, чтобы не строить таких предположений. Кроме того, в соответствии с законами церкви, если говорить напрямик, брак без осуществления утрачивает силу. Однако нет нужды об этом беспокоиться. Вы, кажется, сомневаетесь в моем призвании.
Она взяла его за руку и сказала:
– Я просто боялась за вас; если вы серьезны в своих намерениях – что ж, на то воля Божья.
Радости барона при вести о помолвке его дочери не было предела: и когда к нему пришел маркиз де Лаваль свататься к его дочери, он был настроен одарить своего единственного ребенка на свадьбу очень щедро. Каково же было его удивление, когда де Лаваль отказался принять какое бы то ни было приданое. После настойчивых просьб он, наконец, сказал:
– Ну что ж, если вы настаиваете, вы можете дать за ней приданое. И хотя мы желали бы провести торжество в самом узком кругу, если вам угодно видеть длинную процессию подружек невесты и торжественную мессу в исполнении целого оркестра, вы вольны заплатить за это. Но после того, как она станет моей женой, я не трону ни гроша из ее денег. Моего состояния – Dieu merci![7] – хватит на то, чтобы содержать нас обоих.
Итак, они торжественно сочетались браком, и отчеты об этом появились во всех газетах. После этого они отправились в его шато возле Нанта в Бретани, где мать Лаваля была изумлена тем обстоятельством, что они заняли отдельные комнаты. В самом деле, единственный раз он был в ее комнате, чтобы вместе почитать требник в приуготовление к монашеской жизни. Потом они отправились в путешествие по Италии. На свой спокойный лад они очень развлеклись и нашли между собой еще больше общего, чем думали раньше. Не заводя новых знакомств, они вскоре обнаружили, что не могут обходиться друг без друга, в буквальном смысле став братом и сестрой, за исключением того, что, как часто случается между братьями и сестрами, между ними ни разу не произошло ссоры.
Наконец, когда их браку исполнился год, они вернулись в свой парижский дом. Они решились на последний шаг. Селестин предложил Серафине, полушутя, полусерьезно, облечься в одежды францисканского ордена, чтобы посмотреть на нее в монашеском одеянии; она облеклась. При взгляде на нее слезы покатились из его глаз.
– О Серафина! – воскликнул он. – Я так сильно буду тосковать по тебе.
Неожиданно она обхватила его руками и в первый раз поцеловала со всей страстностью.
– Нет, дорогой, – вскричала она, – я не могу оставить тебя. Я не могу жить без тебя!
В эту минуту зазвонил звонок, и раздался громкий стук в дверь. Она сошла вниз в своем монашеском одеянии. Какая-то нищенка убегала по улице; Серафина споткнулась о лежавший на пороге сверток. Жалобный крик исходил от него; она подняла сверток: в нем был годовалый ребенок, завернутый в грязные лохмотья: он тянулся к ней своими ручонками: когда она взяла его на руки, он сразу замолк. Она принесла его наверх и без слов положила на колени мужу. Дитя потянулось своими мягкими цепкими ручками к Селестину, глядя на него своими незабудковыми глазами; оно лежало совсем тихо. Серафина без шума вышла из комнаты. Вскоре она вернулась, наряженная в свадебное платье. Она присела рядом с мужем и положила ребенка между ними. Так они и сидели, очень долго, взявшись за руки, в полнейшей тишине.
ВИОЛА Д’АМОРЕ
Когда-то в моде была отличавшаяся особенно нежным тоном разновидность скрипки или, вернее, нечто среднее между виолой и виолончелью. Сейчас их уже не изготавливают. Думаю, что это – история последней такой виолы. Довольно необычный этот рассказ, возможно, послужит некоторым объяснением тому, почему такие инструменты больше не делают. Но пусть я поэтесса и, следовательно, склонна верить в невозможное, не думаю все же, что такова была история всех виол д’аморе. Могу лишь добавить, что присущая им нежность тона достигается дублированным звучанием струн, натянутых под грифом, и еще одним отзвуком внутри деки. Но обратимся же к рассказу.
Однажды я была во Фрейбурге – том, что в Бадене. Как-то воскресным днем я отправилась на торжественную мессу в местном соборе. Струнный квартет великолепно исполнял потрясающую бетховеновскую Мессу до-мажор. Я была особенно впечатлена игрой первой скрипки – величавого, среднего возраста мужчины с необыкновенно красивым лицом, которое напоминало один из портретов кисти Леонардо да Винчи. Он был облачен в черную мантию, похожую на те, что носили в средневековье; и играл он с таким вдохновением, какое редко доводится встретить у музыкантов. Там же пел дискант, самый прекрасный из всех, что я когда-либо слышала. Мальчишеским голосам, с их ни с чем не схожим тембром, немного не хватает выразительности. Так вот в этом голосе тончайший тембр соединялся с полнейшей выразительностью. Я собиралась остановиться во Фрейбурге у своих знакомых. Но исполнитель, игравший первую скрипку, возбудил во мне любопытство. Я узнала, что он итальянец, из Флоренции, и происходит из древнего дворянского семейства да Риполи. Но сейчас он занимается изготовлением музыкальных инструментов, что приносит ему совсем небольшой доход, – и все же он играет в соборе из любви, не за деньги; а тот прекрасный дискант принадлежит его младшему сыну, – от умершей жены скрипачу осталось пятеро детей. Он заинтересовал меня, и я захотела ему представиться, чего добилась без труда.
Он жил в одном из тех красивых старых домов, какие можно еще встретить в таких городках, как Фрейбург. Его, похоже, удивило, что ему специально нанесла визит англичанка. К счастью, я могла изъясняться по-итальянски, будучи итальянкой по матери и как раз направляясь в Италию. Он встретил меня весьма приветливо. Меня провели в длинную готического вида комнату, чьи стены были обшиты черным дубом: прекрасное готическое окно было открыто. Была весна, погода стояла чудесная. В комнате витал аромат, исходивший от цветущего прямо напротив окна боярышника, на котором необыкновенным образом распустились сразу и белые, и красные цветы. Комната была полна самых затейливых и причудливых вещиц – шкатулок, сосудов, вышивок – весьма изысканной выделки. Он сказал, что их изготовили его сын и дочь. Мы постепенно заинтересовались друг другом и пустились в длинную беседу. В это время в комнату вошел высокий серьезный молодой человек. Он был похож на этруска – смуглый, угрюмый.
С встревоженным видом, не замечая меня, он отпустил странное замечание:
– Сатурн находится в союзе с Луной: боюсь, что с Гвидо может случиться что-то дурное.
– Это мой сын Андреа, – объяснил его отец, – мой старший; он увлекается астрономией и астрологией тоже, хоть вы, возможно, в нее не верите.
В это время вошел еще один молодой человек. Это был второй сын, Джованни. Он был, как и его брат, смугл и высок, но у него была очень приятная улыбка. Он напомнил мне портрет Андреа дель Сарто. Именно он изготавливал – в прямом смысле этого слова – все те прекрасные предметы, которыми был уставлен стол. За ним вошли две его сестры: старшая, Анастасия, высокая, статная, с темными волосами и серыми глазами и с бледным лицом: очень похожая на тот женский тип, который часто встречается на полотнах Данте Габриэля Россетти. Младшая сестра выглядела чуть иначе: она была белокожа, но на итальянский манер: кожа ее была оттенка слоновой кости, что так отличается от розоватой кожи северных женщин. Волосы ее были того несравненного рыже-золотого цвета, какой можно увидеть на полотнах Тициана, но глаза были темные. Звали ее Липерата. Получалось, что Анастасия была старшим ребенком в семье, затем шли Андреа и Джованни, следом Липерата и Гвидо, которого я еще не видела.
Я упустила из внимания один факт, хотя это не имеет особенного значения, – Анастасия была облачена в синее платье, похожее на те, что одевали в средние века, но очень изящное. После я узнала, что это платье было задумано и сшито ею самой.
Вскоре в комнату вошел мальчик лет четырнадцати. Это был Гвидо. Волосы его были светлее, чем у братьев, хотя в нем тоже было что-то этрусское, и он был для своего возраста невысок. Выглядел он чрезвычайно хрупко и нежно. Кожа его напоминала лепесток розы: у него были длинные, гибкие, чувствительные руки, отличающие прирожденного музыканта. Довольно длинные волосы с оттенком каштана отливали золотом, как будто были золотистыми раньше. Но в его глазах, странного цвета – серо-голубого, с желтыми прожилками, застыло выражение словно не от мира сего, точно он засмотрелся на медленно текущую реку музыки. Он сразу же подошел к окну, также не замечая, что в комнате находится чужой человек, и произнес:
– Ах, какой прекрасный боярышник! Только еще раз взгляну, как он цветет.
Он словно любовался сквозь ветви цветущего боярышника на бледную планету Сатурн, которая выдалась тогда необыкновенно большой и сверкающей. Андреа задрожал, но Джованни наклонился и поцеловал Гвидо со словами:
– Что, опять грусть накатила?
Как вы можете себе представить, мне стала интересна эта необычная семья, и вскоре наше знакомство переросло в близкую дружбу. К Анастасии меня особенно тянуло, ее же – ко мне. Анастасия унаследовала музыкальные вкусы отца и была незаурядной скрипачкой.
Андреа занимался не одной астрономией с астрологией, но еще алхимией и подобными вещами, в основном оккультными.
Все члены семьи были очень суеверны. Кажется, что астрологию и магию они считали делом обыкновенным. Но Андреа был самым суеверным из всех. Хлеб для семьи зарабатывал Джованни, которому помогала Липерата, изготовлявшая самые изысканные вышивки. Только вот материалы были очень дороги и требовали больших расходов, прежде чем что-то можно было продать.
Хотя музыкальные инструменты, которые изготавливал глава семейства, были самого высшего качества и стоили больших денег, он уделял своим изделиям так много внимания, что мог работать годами над одной скрипкой. В ту пору он был поглощен одной мыслью – изготовить виолу д’аморе, инструмент, по его словам, самый прекрасный на свете и несправедливо забытый. И его виола обещала превзойти все, доныне произведенные. Он рассказал, что покинул Флоренцию, потому что не мог выдержать того, что эта великая республика (происходя из древней дворянской семьи, он был, тем не менее, убежденным республиканцем) превращается в столицу заштатной монархии.
– Следующим будет Рим, – прибавил он. И он не знал, что скоро его слова сбудутся.
Семья и вправду была небогата, и все хозяйство лежало на Анастасии. И управлялась она с ним блестяще. Так что жизнь их, очень простая, была в то же время элегантна и изысканна.
Очень часто я пользовалась их простым, истинно итальянским гостеприимством, отплатив им тем, что приобрела несколько образцов великолепного мастерства Джованни и одну скрипку работы старого синьора да Риполи, которую храню до сих пор и с которой ни за что не расстанусь. Хотя, увы! я не умею играть. Короче говоря, мне нужно было продолжать свое путешествие, но я, если можно так выразиться, не потеряла их из виду и часто переписывалась с Анастасией.








