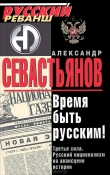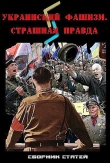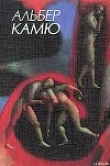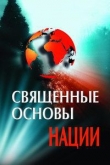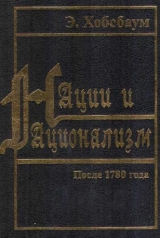
Текст книги "Нации и национализм после 1780 года"
Автор книги: Эрик Хобсбаум
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Без сомнения, нынешние пакистанцы, как и бангладешцы, успев прожить определенное время в отдельном государстве, рассматривают себя в качестве членов самостоятельной (исламской) нации. Без сомнения, боснийские или китайские мусульмане в конце концов станут считать себя особой национальностью, поскольку их правительства относятся к ним именно так. И тем не менее, эти, как и многие другие национальные феномены, явятся (или являются) результатами ex post facto. В самом деле, какой бы энергичной ни была идентификация мусульман с исламом, следует отметить, что в той обширной области, где ислам соприкасается с другими религиями, существует не так уж много протонациональных или национальных движений с ясно выраженным исламским характером (очевидное исключение – Иран).
То, что они, возможно, приобретают подобный характер в нынешнем противостоянии Израилю или в постсоветских среднеазиатских республиках), это уже другой вопрос. Одним словом, связи между религией и протонациональной или национальной самоидентификацией остаются чрезвычайно сложными и неясными. Они, безусловно, не терпят поверхностных обобщений и поспешных выводов. И все же, как подчеркивает Гельнер,[146]146
Gellner. Nations and Nationalism. Oxford, 1983.
[Закрыть] контакт с более крупными и развитыми, а в особенности – с письменными культурами (нередко опосредуемый принятием одной из мировых религий) действительно позволяет народу приобрести такие качества, которые впоследствии могут помочь ему структурироваться в нацию. Гельнер убедительно доказывает, что те африканские народы, которые вступают в подобные культурные контакты, имеют больше шансов выработать собственный национализм. В качестве примера можно привести регион Африканского Рога, где как христиане-амхарцы, так и мусульмане-сомалийцы с большей легкостью превратились в «государственные народы», поскольку они уже были «народами книги», – хотя, по выражению Гельнера, в различных и соперничающих между собою изданиях. В целом это выглядит довольно правдоподобно. И все же было бы интересно выяснить, в какой степени факт принадлежности соответствующих групп к различным христианским исповеданиям повлиял на единственные в неарабской Африке (помимо упомянутых выше) политические феномены, напоминающие по своему характеру современный массовый национализм, а именно попытку отделения от Нигерии провинции Биафра (1967) и создание Южно-африканского Национального Конгресса.
Если религия сама по себе и не является необходимым отличительным признаком протонациональности (хотя мы можем понять, почему в XVII веке она стала таковым для русских, испытывавших давление со стороны католической Польши и мусульман-турок и татар), то «святые иконы», напротив, представляют собой важнейший компонент как протонациональности, так и современного национализма. Они олицетворяют обряды, ритуалы или общие коллективные действия – единственное средство придать осязаемую реальность той общности, которая в противном случае останется воображаемой. Это могут быть изображения (как например, собственно иконы) или практические действия, вроде пяти ежедневных молитв у мусульман, или даже ритуальные обороты, например, мусульманское «Аллах Акбар» или еврейское «Шема Исроэль». Это могут быть образы, имеющие собственное имя и отождествляемые с территориями, достаточно обширными для того, чтобы образовать нацию, как например, Матерь Божья Гваделупская в Мексике или Монсерратская Божья Матерь в Каталонии. Это могут быть периодические празднества или состязания, соединяющие воедино разрозненные группы, как например, греческие Олимпийские игры или позднейшие националистические изобретения в том же духе, вроде каталонских Joes Florals, валлийских Eisteddfodan и т. д. Смысл и функцию «святых икон» можно проиллюстрировать повсеместным использованием обычных кусков цветной ткани, а именно флагов, в качестве символов современных наций и их связью с особо знаменательными ритуальными действиями и важными событиями.
И однако, какими бы ни были их природа и форма, «святые иконы», подобно самой религии, могут оказаться слишком широкими или слишком узкими для того, чтобы служить адекватным символом протонации. Саму по себе Деву Марию трудно ассоциировать с каким-то ограниченным районом католического мира, а на каждую местную Богоматерь, действительно ставшую протонациональным символом, приходятся десятки и сотни таких, которые остаются покровительницами небольших сообществ или по другим причинам не могут иметь отношения к нашему предмету. С протонациональной точки зрения самыми влиятельными и действенными являются, бесспорно, те «иконы», которые прямо ассоциируются с государством, – в донациональной фазе его развития – с божественным или имеющим божественное помазание царем, королем или императором, чья держава совпадает с пределами будущей нации. К подобной ассоциации совершенно естественным образом апеллируют те правители, которые ex officio[147]147
По должности, по сану (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть] являются главами своих церквей (как например, в России), однако королевский сан обнаруживает свою магическую силу даже там, где церковь и государство разделены (Англия и Франция).[148]148
Классическим анализом этой темы по-прежнему остается работа; Marc Block. Les Rois thaumaturges. Paris, 1924.
[Закрыть] Теократии, способных развиться в нацию, сравнительно немного, а потому нам трудно судить, каковы в этом смысле возможности власти, опирающейся исключительно на божественный авторитет. Решение данного вопроса следует предоставить специалистам по истории монголов и тибетцев или, если взять более «западный» пример, историкам средневековой Армении. Однако в Европе XIX века этот авторитет оказался явно недостаточным, в чем и убедились итальянские неогвельфы, пытавшиеся построить итальянский национализм на основе идеи папства. Они потерпели неудачу – хотя папство представляло собой de facto итальянский институт, а вплоть до 1860 года – даже единственный в прямом смысле слова общеитальянский институт. И все же едва ли можно было всерьез рассчитывать на то, что Святая Церковь согласится превратить себя в узконациональное, а тем более националистическое учреждение, и меньше всего следовало ожидать подобного от Пия IX. О том, чем могла бы стать Италия XIX века, объединившись под знаменем папы, не стоит даже строить предположения.
Это приводит нас к последнему и, вне всякого сомнения, важнейшему критерию протонационализма – чувству принадлежности (в настоящем или в прошлом) к устойчивому политическому образованию.[149]149
Не следует, однако, думать, будто подобное чувство затрагивало все слои населения одинаковым образом или охватывало нечто, соотносимое с территорией современной «нации», или предполагало существование национальности современного типа. Например, в массовом сознании греков (вероятно, уходившем корнями в наследие византийской эпохи) это было чувство принадлежности к Римской империи (romaiosyne).
[Закрыть] Безусловно, самая мощная протонациональная «скрепа» из всех нам известных – это, выражаясь жаргоном XIX века, «историческая нация», в особенности если государство, образующее «каркас» будущей «нации», ассоциируется с определенным Staatsvolk, или «государственным народом» (великороссы, англичане, кастильцы и т. д.). Здесь, однако, важно провести четкую грань между прямым и косвенным воздействием «национальной историчности». Ибо та «политическая нация», которая первоначально создает систему понятий и образов для будущего «народа-нации», представляет в большинстве случаев лишь малую часть жителей данного государства, а именно его привилегированную элиту: титулованную знать и дворянство. Описывая крестовые походы как gesta Dei per francos,[150]150
Божье дело, творимое франками (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть] французские феодалы отнюдь не намеревались ассоциировать торжество креста с основной массой населения Франции (и даже той части территории, которая носила это название в конце XI века), – хотя бы потому, что большинство людей, считавших себя потомками франков, видели в подвластной им черни потомков народа, франками покоренного. (В демократических целях этот взгляд был заменен на прямо противоположный Республикой, которая упорно внушала через свои школьные учебники, что «нашими предками» были не франки, но галлы. В послереволюционную эпоху к нему вновь обратились – на этот раз в реакционных и евгенических целях – реакционеры вроде графа Гобино.) В этом «национализме знати» можно, разумеется, видеть протонациональный феномен, поскольку «три элемента: natio, политическая fidelitas и communitas, т. е. понятия „национальности“, политической „лояльности“ и „политической общности“ <…> уже слились воедино в социально-политическом сознании и в эмоциях определенной общественной группы (einer gesellschaft-lichen Gruppe)».[151]151
Jeno Sziics. Nation und Geschichte. Budapest, 1981. S. 84–85.
[Закрыть] Он является прямым предшественником национализма в таких странах, как Польша и Венгрия, где идея польской и венгерской нации могла превосходно уживаться с тем фактом, что значительная часть жителей земель, подвластных короне святого Стефана или Речи Посполитой, с точки зрения современного понимания нации, венграми и поляками не были. Эти плебеи шли в расчет не больше, чем плебеи-поляки или венгры, и из состава «политической нации» они исключались по определению. Подобную «нацию» ни в коем случае нельзя смешивать с современной национальностью.[152]152
Дворяне были единственным классом, члены которого поддерживали между собой постоянную связь. Средством ее служили административные округа и сословные собрания, где представители знати обсуждали важные вопросы и принимали решения в качестве «хорватской политической нации». Это была нация без «национальности» <…>, т. е. без национального самосознания <…>, поскольку дворяне не отождествляли себя с прочими членами хорватской этнической общности – крестьянами и горожанами. Феодал-«патриот» любил свое «отечество», однако подобное «отечество» охватывало в сущности лишь поместья и владения равных ему по рангу лиц и «королевство» вообще. «Политическая нация», членом которой он являлся, означала для него территорию и традиции прежнего государства: Mirjana Gross. On the integration of the Croatian nation: a case study in nation-building // East European Quaterly, XV, 2, June 1981, p. 212.
[Закрыть]
Общая идея «политической нации» и связанная с ней терминология могли, конечно, со временем распространиться настолько, чтобы охватить нацию как совокупность всех жителей данной страны, хотя происходило это почти наверняка много позже, чем это угодно думать ретроспективному национализму. Кроме того, историческая связь между двумя типами нации почти наверняка была косвенной. В самом деле, у нас есть множество свидетельств того, что простые люди могли отождествлять себя со страной и народом в целом через личность верховного правителя, царя или короля (как это делала, например, Жанна Д'Арк), – однако весьма сомнительно, чтобы крестьяне пожелали отождествить себя со «страной», состоящей из сословия господ, которое неизбежно являлось главной мишенью их недовольства. Если же они по какой-то причине испытывали привязанность к своему конкретному господину, то это не предполагало ни сочувствия к интересам остальной части дворянства, ни внутренней связи с территорией более обширной, чем их и его родной край.
И когда в донациональную эпоху мы встречаем то, что в современных понятиях было бы описано как массовое национальное движение против иноземных захватчиков (например, в Центральной Европе XV–XVI вв.), следует помнить: его идеология была, по всей видимости, не национальной, но социальной и религиозной. Вероятно, крестьяне приходили к выводу, что их предали дворяне, чей долг как bellatores[153]153
Воинов (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть] состоял в том, чтобы защищать их от турок. А может быть, они, дворяне, и вовсе вступили с захватчиками в тайный сговор? В итоге простому народу оставалось защищать истинную веру против язычников собственными силами с помощью крестового похода.[154]154
Szucs. Nation und Geschichte, S. 112–125.
[Закрыть] При определенных условиях подобные движения могли заложить основы более широкого национального патриотизма, как например, в гуситской Богемии (первоначально гуситская идеология не была ориентирована на чешский национализм) или на военных границах христианских государств в среде вооруженных свободных крестьян (примером служат упомянутые выше казаки). И все же там, где традиция государственности не обеспечивала эти чувства твердым и устойчивым каркасом, подобного рода низовой патриотизм редко мог прямо и непосредственно перерасти в современный национальный патриотизм.[155]155
Ibid. P. 125–130.
[Закрыть]А правительства старого режима едва ли к этому стремились, ибо долг подданных этих режимов (кроме тех, на кого были специально возложены воинские обязанности) заключался не в преданности и деятельном рвении, но в послушании и спокойствии. Фридрих Великий вознегодовал, когда верноподданные берлинцы предложили ему помощь в отражении подступавших к столице русских войск: война, считал король, это дело солдат, а не штатских. Все мы помним характерную реакцию императора Франца II на известие о восстании его верных тирольцев: «Сегодня они стали патриотами ради меня, а завтра будут патриотами против меня».
Тем не менее, нынешняя или прежняя причастность к историческому (или действительному) государству способна оказывать непосредственное воздействие на сознание простого народа и порождать протонационалистические чувства, а может быть даже, как в тюдоровской Англии, и нечто близкое к современному национализму. (Было бы излишним педантизмом отказывать в этом ярлыке шекспировским пропагандистским пьесам из английской истории, но мы, разумеется, не вправе предполагать, что обыкновенный зритель или читатель находил в них тогда то же самое, что и мы сейчас.) Нет причин отвергать наличие протонациональных чувств у сербов до XIX века, и вовсе не потому, что сербы были православными в отличие от своих соседей, католиков и мусульман, – данный признак не смог бы отличить их от болгар, – но потому, что память о древнесербском королевстве, разгромленном турками, сохранялась в песнях, героических сказаниях и – что, может быть, еще важнее – в ежедневном богослужении сербской церкви, канонизировавшей большинство сербских королей. То, что в России был царь, безусловно, помогало русским сознавать себя в качестве своего рода нации. Вполне очевидно, сколь привлекательной – ввиду потенциального воздействия на массы – может быть традиция государственности для современного национализма, цель которого – становление нации в форме территориального государства. Это заставляло некоторые из национальных движений выходить далеко за пределы реальной исторической памяти своих народов, дабы отыскать в прошлом подобающее (и подобающим образом внушительное) национальное государство. Так обстояло дело с армянами, которые после I в. до н. э. не имели сколько-нибудь крупного государства, и с хорватами, чьи националисты видели в себе (без особых оснований) наследников «хорватской политической нации». Здесь, как и во всех других случаях, националистическая пропаганда XIX века оказывается весьма ненадежным источником сведений о том, что же на самом деле думали и чувствовали простые люди, прежде чем они встали под знамена национальной борьбы.[156]156
Недостаточный учет этого обстоятельства делает аргументы I. Banac'а (в остальном превосходные) менее убедительными, когда он ведет речь о Хорватии.
[Закрыть] Это, конечно, не означает, что протонациональное самосознание, на которое мог бы опереться позднейший национализм, не было свойственно армянам или (хотя, вероятно, и в значительно меньшей степени) хорватским крестьянам до XIX века.
И однако там, где, как нам представляется, существует преемственная связь между протонационализмом и национализмом, она вполне может оказаться мнимой. Так, например, нет никакой исторической преемственности между еврейским протонационализмом и современным сионизмом. Немецкие жители «святой земли Тироль» стали в нашем веке особым подклассом немецких националистов и самыми горячими сторонниками Адольфа Гитлера. Все это так, и однако данный процесс, превосходно проанализированный в научной литературе, не имеет внутренней связи с тирольским народным восстанием 1809 года под руководством хозяина постоялого двора Андреаса Хофера (этнического и лингвистического немца), пусть даже пангерманским националистам угодно думать иначе.[157]157
Cole & Wolf. The Hidden Frontier. P. 53, 112–113.
[Закрыть] А иногда мы можем обнаружить полную несовместимость протонационализма и национализма даже там, где они существуют одновременно и известным образом соприкасаются. Поборники и зачинатели греческого национализма первой половины XIX века (люди ученые), бесспорно, вдохновлялись воспоминаниями о древней эллинской славе, которая вызывала восторженные чувства и у образованных – классически образованных! – фил-эллинов за пределами Греции. Созданный ими (и для них) национальный литературный язык (т. н. «кафаревуса») был и остается неоклассическим языком высокого стиля, который стремится вернуть речь потомков Фемистокла и Перикла к «истинным» корням, очистив ее от уродливых следов двухтысячелетнего рабства. И однако реальные греки, взявшиеся за оружие во имя того, что впоследствии оказалось новым независимым национальным государством, изъяснялись по-древнегречески не в большей мере, чем итальянцы – по-латыни. Они говорили и писали на обычном народном языке (т. н. «димотика»). Перикл, Эсхил, Еврипид, славные деяния древних Афин и Спарты едва ли что-либо для них значили, а услыхав эти слова, они воспринимали их как нечто весьма далекое от действительной жизни. Парадоксальным образом они отстаивали скорее «Рим», нежели «Грецию» (romaiosyne), иначе говоря, видели в себе наследников христианизированной Римской империи (Византии). Они сражались как христиане против неверных мусульман, как римляне против «турецких собак».
Тем не менее вполне очевидно – хотя бы из только что приведенного примера Греции, – что протонационализм, там где он существовал, облегчал задачу национализма, каким бы значительным ни было отличие между ними, ибо уже возникшие и достаточно развившиеся чувства и символы протонациональной общности могли быть поставлены на службу современному государству. Сказанное, однако, не означает, что оба эти феномена тождественны, или что один из них неизбежно влечет за собой другой.
Ибо вполне очевидно, что протонационализм сам по себе не способен создавать национальности, нации, а тем более государства. Национальных движений (связанных или не связанных с определенным государством) гораздо меньше, нежели человеческих групп, способных, согласно нынешним критериям «нации», подобные движения создать; и их, бесспорно, меньше, чем тех коллективов, которые обладают чувством общности, по природе своей едва ли отличимым от протонационального самосознания. Сказанному не противоречит тот факт, что серьезные притязания на статус независимого государства могут выдвигать такие малочисленные группы, как 70 000 человек, борющихся за независимость Западной Сахары, или 120 000 человек, уже фактически объявивших независимость турецкой части Кипра (если даже отвлечься от вопроса о самоопределении 1800 обитателей Фолклендских, или Мальвинских островов). Следует согласиться с Гельнером: повсеместное, на первый взгляд, преобладание национализма в современной идеологии есть своего рода оптическая иллюзия. Если бы протонационализма самого по себе было достаточно для образования нации, уже давно возникли бы серьезные национальные движения мапучей или аймара. Если же подобные движения появятся завтра, то это будет означать, что в действие вступили иные факторы.
Во-вторых, пусть даже протонациональная основа желательна и, может быть, необходима для серьезного национального движения, ставящего своей целью образование самостоятельного государства (хотя сама по себе она явно недостаточна для создания такого движения), она, эта основа, не является необходимой для формирования национального патриотизма и чувства лояльности, коль скоро подобное государство уже существует. Не раз отмечалось, что нации чаще всего представляют собой следствие образования государства, а не его причину. США и Австралия – характерные примеры наций-государств, все специфические национальные черты и признаки которых сформировались после второй половины XVIII века, а до основания соответствующих государств попросту не могли существовать. Едва ли, впрочем, стоит напоминать, что самого по себе основания государства еще недостаточно для создания нации.
И наконец, следует еще раз призвать к осторожности в выводах. Мы слишком мало знаем о том, что происходило прежде – и, если угодно, что происходит сейчас в умах и душах большинства относительно «бессловесных» мужчин и женщин, чтобы сколько-нибудь уверенно рассуждать об их мыслях и чувствах по поводу национальностей и национальных государств, притязающих на их лояльность. А потому истинная связь между протонациональным самосознанием и последующим национальным или государственным патриотизмом во многих случаях неизбежно останется для нас непонятной. Мы знаем, что имел в виду Нельсон, когда накануне Трафальгарского сражения дал своему флоту сигнал: «Англия надеется, что каждый исполнит свой долг», – однако нам неизвестно, какие мысли посещали в тот день матросов Нельсона (хотя было бы неразумно сомневаться в том, что некоторые из них можно определить как «патриотические»). Мы знаем, каким образом национальные партии и движения интерпретируют действия тех представителей нации, которые оказывают им поддержку, – однако нам неизвестно, что конкретно желают получить сами эти «покупатели», приобретая набор весьма разнородных товаров, предложенных им в одной упаковке торговцами от национальной политики. Иногда мы способны довольно точно определить, какие элементы из этой смеси им не нужны (например, в случае с ирландским народом – повсеместное употребление гаэльского языка), но подобные «молчаливые референдумы» по отдельным вопросам редко бывают возможны на практике. Мы постоянно рискуем впасть в ошибку, принявшись ставить людям оценки за те предметы, которые они не изучали, и за тот экзамен, который они вовсе не собирались сдавать. Вообразим, к примеру, что готовность умереть за родину мы примем за доказательство патриотизма, – само по себе это кажется довольно разумным, а националисты и национальные правительства всегда были склонны понимать дело именно так, что с их стороны вполне естественно. В таком случае нам следует думать, что солдаты Вильгельма II и Гитлера – по всей видимости, более восприимчивые к национальным аргументам – сражались более храбро, чем гессенцы XVIII века, проданные за границу в качестве наемников собственным государем и национальной мотивации явно не имевшие. Но так ли это было на самом деле? И действительно ли они дрались лучше, чем, скажем, турецкие солдаты эпохи Первой мировой войны, которых едва ли можно было счесть «патриотами своей нации», или гуркские стрелки, которых никакой патриотизм – ни британский, ни непальский – наверняка не воодушевлял? Эти довольно-таки абсурдные вопросы мы ставим не для того, чтобы добиться ответа или стимулировать исследования, но чтобы указать на густой туман, окружающий проблему национального сознания простых людей, и прежде всего в ту эпоху, когда современный национализм еще не успел превратиться в массовую политическую силу. А для большинства наций (даже в Западной Европе) процесс этот завершился не ранее второй половины XIX века. Тогда, по крайней мере, прояснился сам выбор, – хотя, как мы убедимся в дальнейшем, отнюдь не его содержание.