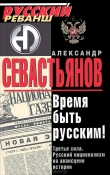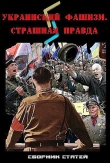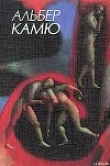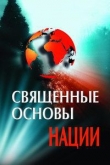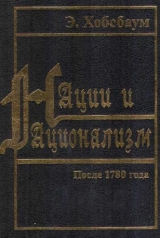
Текст книги "Нации и национализм после 1780 года"
Автор книги: Эрик Хобсбаум
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Глава 1. Нация как новое историческое явление
От эпохи революций к эре либерализма
Важнейшая особенность современной нации и всего с нею связанного – это историческая новизна. В наше время данное обстоятельство уже в достаточной степени осознано, и все же противоположный взгляд, согласно которому национальная идентификация есть нечто настолько исконное, первозданное и незыблемое, чтобы предшествовать самой истории, распространен чрезвычайно широко, а потому будет нелишним продемонстрировать, что относящаяся к данному предмету терминология возникла в Новое время. Специальный анализ различных изданий Словаря Испанской Королевской Академии показал, что относящиеся к нации, государству и языку термины начинают употребляться в современном смысле не раньше издания 1884 г. Здесь нам впервые сообщают, что lengua national[24]24
«Национальный язык» (исп.). – Прим. пер.
[Закрыть] это «официальный и литературный язык страны; язык, на котором в данной стране обычно говорят, чем он и отличается от диалектов и языков других наций». Статья «диалект» устанавливает аналогичные отношения между диалектом и национальным языком. Слово nation до 1884 обозначало попросту «совокупность жителей страны, провинции или королевства», а также «иностранца». Теперь же оно определяется как «государство или политическое образование, признающее высший центр в виде общего правительства», а также как «территория, которая охватывает данное государство и его жителей, рассматриваемая как целое». Таким образом, элемент общей верховной государственной власти оказывается ключевым для подобных определений, во всяком случае, в иберийском мире. Nation это «conjunto de los habitantes de un pais regldo par un mismo gobierno» (курсив мой. – Э. X.).[25]25
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Barcelona, 1907–1934, vol.37. P. 854–867, «nacion».
[Закрыть] Nagao, согласно (современной) Enciclopedia Brasileira Merito,[26]26
Sao Paulo-Rio-Porto Alegre 1958–1964, vol. 13. P. 581.
[Закрыть] есть «совокупность граждан государства, живущих в условиях единого режима власти или общей системы правления и имеющих общие интересы; сообщество обитателей определенной территории, объединенных общими традициями, стремлениями и интересами и подчиняющихся центральной власти, которая обеспечивает единство данной группы (курсив мой. – Э. X.); народ государства, за исключением правительства». Более того, окончательный вариант толкования слова «нация» появляется в Словаре Испанской Академии лишь в 1925 году: «совокупность лиц, которые имеют общее этническое происхождение, говорят, как правило, на одном языке и обладают общими традициями». Таким образом, gobierno (правительство) до 1884 г. не связывается специально с понятием nacion. Ибо, как показывает нам этимология, первоначально слово «нация» означало род, или происхождение: «naissance, extraction, rang», согласно словарю старофранцузского языка, где приводится следующая цитата из Фруассара: «je fus retourne au pays de ma nation en la conte de Hainault» (Я вернулся в страну моего рождения/происхождения, в графство Эно).[27]27
L. Curne de Sainte Pelaye. Dictionnaire historique de l'ancien langage fran9ois (Niort n. d.), 8 vols.; «nation».
[Закрыть] В тех случаях, когда идея «происхождения» относилась к группе людей, этими людьми редко могли быть те, кто представлял государственную власть (если, конечно, речь не шла непосредственно о правителях или их родственниках). Тогда же, когда имелась в виду территория «происхождения», последняя лишь случайно могла совпасть с определенной политической единицей и никогда – с крупным государственным образованием. В Словаре Испанской Академии (1726 г., 1-е изд.) слово patria, или более распространенное tierra, означает лишь «местность, селение или край, где человек родился», или «любой район, округ или провинцию, принадлежащие к какому-либо владению или государству». Именно этот узкий смысл слова patria – в современном испанском языке его приходится отличать от более широкого значения с помощью уточняющего оборота patria chica, «малая родина», – до XIX века был практически общепринятым (исключение составляли лица с классическим образованием, знакомые с историей Древнего Рима). Лишь в издании 1884 г. tierra начинает связываться с государством, и только в 1925 г. мы впервые слышим эмоциональные нотки современного патриотизма, определяющего patria как «нашу собственную нацию во всем объеме ее материальной и духовной истории, прошлой, настоящей и будущей, которая составляет для патриота предмет любви и преданности». Испания XIX века, как принято считать, едва ли находилась в авангарде идейного прогресса, однако Кастилия – а мы говорим как раз о кастильском языке – стала одним из первых европейских королевств, для которого определение «нация-государство» не было бы совершенно безосновательным. Во всяком случае, можно усомниться в том, что Британия и Франция XVIII века представляли собой «нации-государства» в существенно отличном смысле. А потому развитие соответствующей испанской терминологии может представлять общий интерес.
Слово «нация», в романских языках исконное, для других языков было иностранным заимствованием, что позволяет нам с большей четкостью проследить оттенки и различия в его употреблении. Так, в верхне-и нижненемецком языках слово Volk (народ) явно имеет сейчас некоторые из тех же ассоциаций, что и слова, происходящие от «natio», однако процесс взаимодействия между ними был довольно сложным. Очевидно, что в средневековом верхненемецком термин natie, там, где он использовался – а по его латинскому происхождению нетрудно догадаться, что едва ли он употреблялся кем-либо, кроме людей образованных, коронованных особ, высшей знати и дворянства, – еще не имел коннотации Volk; этот смысловой оттенок появляется лишь в XVI веке. Как и в средневековом французском, natie обозначает происхождение и принадлежность к определенному роду (Geschlecht).[28]28
Dr. E. Verwljs & Dr. J. Verdam. Middelnederlandsch Woordenbock, vol. 4. The Hague, 1899, col. 2078.
[Закрыть]
Как и повсюду, данное слово постепенно начинает обозначать более крупные замкнутые группы, например гильдии, цехи и прочие корпорации, которые требуется отличить от других групп, существующих рядом с ними. Отсюда – «нации» в значении «иностранцев» (как и в испанском); «нации» иноземных купцов («иностранные общины, преимущественно торговые, которые проживают в каком-то городе, пользуясь там известными привилегиями»);[29]29
Woordenbock der Nederlandsche Taal, vol. 9. The Hague, 1913, cols. 1586–1590.
[Закрыть] общеизвестные «нации» студентов в старинных университетах, а также гораздо менее известный «полк люксембургской нации».[30]30
Verwijs & Verdam. Middelnederlandsch Woordenbock, vol. 4.
[Закрыть] И все же представляется очевидным, что если в одних случаях в процессе эволюции данного слова на первый план могло выйти значение места или территории происхождения – pays natal из одного старого французского определения, которая с легкостью превращается, по крайней мере в сознании позднейших лексикографов, в эквивалент «провинции»,[31]31
L. Huguet. Dictionnaire de la langue fracaise du 16 Hiecle, vol. 5. Paris, 1961. P. 400.
[Закрыть] – то в других определениях подчеркивались скорее общие родовые корни группы, и таким образом слово эволюционировало в сторону этнической характеристики, как например, у голландцев, где в качестве основного значения natie выделялось следующее: совокупность лиц, которые считаются принадлежащими к одному и тому же «stam». В любом случае, проблема отношения к государству коренной «нации», даже в широком смысле, по-прежнему ставила в тупик, ибо представлялось очевидным, что в этническом, языковом и любом ином смысле большинство сколько-нибудь крупных государств однородными не являются, а следовательно, не могут быть приравнены к нациям. В качестве характерной особенности французов и англичан голландский словарь специально указывает на то, что слово «нация» обозначает у них всех подданных государства, даже если они не говорят на одном языке.[32]32
Woordenbock… (1913), col. 1588.
[Закрыть] Весьма поучительное рассуждение по поводу этой трудности дошло до нас из Германии XVIII века.[33]33
John. Heinrich Zedler. Grosses vollstandiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Kunste…, vol. 23. Leipzig – Halle, 1740, repr. Graz, 1961, cols. 901–903.
[Закрыть] Для энциклопедиста Иоганна Генриха Цедлера в 1740 г. нация, в ее исконном, подлинном смысле, означала совокупность Burger (ведя речь о Германии середины XVIII века, это слово лучше так и оставить непереведенным, во всей его пресловутой двусмысленности), связанных общими нравами, обычаями и законами. Отсюда следует, что слово «нация» не может обозначать территорию, поскольку в пределах одной, даже очень небольшой области могут жить представители разных наций (несхожих своим «образом жизни – Lebensarten – и обычаями»). Если бы нации обладали внутренней связью с территорией, то живущих в Германии вендов следовало бы называть немцами, каковыми они, что совершенно очевидно, не являются. Вполне естественно, что именно этот пример пришел на ум ученому саксонцу, хорошо знакомому с вендами, последней – и до сих пор сохранившейся – группой славянского населения в зоне распространения немецкого языка. (Приклеить к ней весьма сомнительный ярлык «национального меньшинства» он еще не догадался.) Словом, которое описывает совокупность представителей всех «наций», живущих в одной провинции или государстве, является для Цедлера Volck. И однако, вопреки терминологической точности, термин «Нация» часто используется на практике в том же смысле, что и «Foicft», а иногда – как синоним «сословия» (Stand, ordo) или в значении любой иной ассоциации или общества (Gesellschaft, socletas).
Каким бы ни было «собственное», «исконное» и какое угодно еще значение слова «нация», реальный смысл этого термина по-прежнему остается весьма далеким от современного. А значит, не вдаваясь в дальнейшие разыскания, мы вправе считать, что идея «нации» – в ее современном, преимущественно политическом смысле – по меркам истории еще весьма молода. Это обстоятельство подчеркивается в еще одном лингвистическом памятнике, «Новом словаре английского языка» (1908), где специально указано, что прежде данное слово обозначало главным образом этническую общность, тогда как новейшее его значение делает упор на «понятии политического единства и независимости».[34]34
Oxford English Dictionary, vol. VII. Oxford, 1933. P. 30.
[Закрыть]Учитывая историческую новизну современного понятия «нации», я склонен думать, что лучшим способом постичь ее сущность будет попытка последовать за теми, кто впервые стал систематически пользоваться данным понятием в своих рассуждениях на политические и социальные темы в эпоху революций, – и особенно начиная с 1830-х годов, в дискуссиях о «принципе национальности». Такой экскурс в Begriffsgeschichte[35]35
История понятий (нем.). – Прим. пер.
[Закрыть] дело непростое, отчасти потому, что люди того времени совершенно не следили за тем, как они употребляют подобные слова, а отчасти потому, что одно и то же слово одновременно означало или могло означать весьма различные вещи. Основное – и чаще всего обсуждавшееся в литературе – значение слова «нация» было политическим. В духе идей Американской и Французской революций здесь ставился знак равенства между «народом» и государством; нам это уравнение хорошо знакомо по таким выражениям, как «нация-государство», «Объединенные Нации», а также по риторике президентов конца XX века. На раннем же этапе истории США авторы политических рассуждений стремились, избегать нежелательных централистских и унитаристских выводов из термина «нация», противоречивших представлению о правах отдельных штатов, а потому предпочитали говорить о «народе», «союзе», «конфедерации», «нашей общей земле», «обществе» или «общем благе».[36]36
John J. Lalor (ed.). Cyclopedia of Political Science. New York, 1889, vol. II, P. 932, «Nation». Соответствующие статьи данной энциклопедии представляют собой в значительной степени перепечатку, точнее – перевод более ранних французских сочинений.
[Закрыть] Ибо в эпоху революций важным элементом идеи нации было (или, по крайней мере, вскоре стало) представление о том, что нация должна быть, как выражались французы, «единой и неделимой».[37]37
«Из этого определения, очевидно, следует, что нация составляет одно неделимое целое и может образовать только одно государство» (ibid., 923). Определение, из которого это «очевидно, следует», таково: «нация есть совокупность лиц, которые говорят на одном языке, имеют общие обычаи и обладают определенными духовными качествами, отличающими их от других подобного рода групп». Перед нами один из многочисленных образчиков искусства выдавать недоказанное за доказанное, к которому так часто прибегали в своей аргументации националисты.
[Закрыть] «Нация» при таком понимании – это совокупность граждан, чей коллективный суверенитет образует государство, представляющее собой реализацию их политической воли. Ибо какими бы иными качествами ни обладала идея нации, элемент гражданственности, всеобщего волеизъявления и массового участия в делах государства присутствовал в ней всегда. Джон Стюарт Милль определял нацию не только через наличие национального чувства. Он также добавил, что члены национальности «хотят подчиняться единому правительству и желают, чтобы исключительно они сами или их часть составляли это правительство».[38]38
J. S. Mill. Utilitarianism, Liberty and Representative Government. Everyman edition, London, 1910. P. 359–366.
[Закрыть] И нас нисколько не удивляет тот характерный факт, что Милль, вместо того чтобы обсуждать идею национальности в какой-то особой работе, кратко касается ее в общем контексте небольшого трактата о Представительном правлении, или о демократии. Уравнение нация = государство = народ (а тем более суверенный народ), несомненно, связывало нацию с определенной территорией, поскольку структура и понятие государства стали теперь по существу территориальными. Оно также предполагало многочисленность подобных наций-государств, что, разумеется, было необходимым следствием принципа народного самоопределения. Как гласила французская Декларация прав 1795 года, каждый народ, из какого бы числа членов он ни состоял и на какой бы территории ни жил, является независимым и суверенным. Этот суверенитет неотчуждаем.[39]39
Отметим, что в Декларациях прав 1789 и 1793 гг. право народов на самоопределение не упоминается. См.: Lucien Jaume. Le Discours jacobin et la democratic. Paris, 1989), Appendices 1–3. P. 407–114. См., однако, о подобных взглядах в 1793 г.: O.Dann & J.Dinwiddy (eds.). Nationalism in the Age of the French Revolution. London, 1988. P. 34. 3790
[Закрыть]
В Декларации, однако, почти не говорилось о том, что же такое «народ». А главное, не существовало логической связи между, с одной стороны, совокупностью граждан территориального государства, а с другой – определением «нации» по этническим, языковым и прочим критериям или по иным признакам, позволявшим говорить об общей принадлежности к известной группе. Высказывалось даже утверждение, что по этой причине Французская революция «была чужда и даже враждебна национальному принципу или национальному чувству».[40]40
Maurice Block. Nationalities, principle of в J. Lalor (ed.). Cyclopedia of Political Science, vol. II. P. 939.
[Закрыть] Как тонко отметил упоминавшийся выше голландский лексикограф, в принципе язык не имел ничего общего с принадлежностью к английской или французской нации; французские же эксперты, как мы убедимся в дальнейшем, упорно отвергали всякую попытку превратить разговорный язык в критерий национальности: национальность, по их мнению, определялась исключительно французским гражданством. Язык, на котором говорили эльзасцы или гасконцы, не имел отношения к их статусу «членов французского народа».
В самом деле, если «нация» с народно-революционной точки зрения имела нечто общее, то этими объединяющими признаками не являлись в сколько-нибудь существенном смысле ни язык, ни этнос, ни какие-либо иные подобные характеристики, – хотя они и могли указывать на принадлежность к определенной группе. Как подчеркивал Пьер Вилар,[41]41
P. Vllar. Sobre los fundamentos de las estructuras nacionales // Historia, 16/Extra V. Madrid, April 1978. P. 11.
[Закрыть] самым важным в низовом восприятии «нации-народа» было именно то, что подобная «нация» представляла общие интересы, общее благо в противовес частным выгодам и личным привилегиям, – о чем свидетельствует и сам использовавшийся до 1800 г. термин «американцы», позволявший говорить о единстве нации, не прибегая ic слову «нация». С этой революционно-демократической точки зрения этнические различия между группами были столь же второстепенными, как и в восприятии позднейших социалистов. Совершенно ясно, что отнюдь не этнические характеристики и не язык отличали американских колонистов от короля Георга II его сторонников, и напротив, Французская республика не видела никаких препятствий к тому, чтобы избрать в свой Конвент англо-американца Томаса Пэйна.
А значит, мы не вправе задним числом приписывать идее революционной «нации» что-либо похожее на позднейшие националистические программы образования национальных государств для сообществ, которые определялись согласно столь горячо обсуждавшимся теоретиками XIX века критериям – этнической принадлежности, общности языка, религии, территории и исторических воспоминаний (если вновь воспользоваться замечаниями Джона Стюарта Милля).[42]42
John Stuart Mill. Utilitarianism, Liberty and Repre-Hcntative Government. P. 359–366.
[Закрыть]Ибо, как мы уже убедились, новую американскую нацию ни один из этих признаков не объединял – за исключением территории, не имевшей определенных границ, и, пожалуй, цвета кожи. Более того, с расширением в ходе революционных и наполеоновских войн границ французской «grande nation»,[43]43
Великая нация (фр.). – Прим. пер.
[Закрыть] постепенно включившей в себя области, не являвшиеся французскими ни по одному из позднейших критериев национальности, становилось ясно, что отнюдь не эти критерии лежали в ее основе.
И однако здесь, несомненно, уже присутствовали различные элементы, служившие позднее определением для негосударственных национальностей: они либо ассоциировались с понятием революционной нации, либо создавали для нее сложности, и чем энергичнее настаивала нация на своем единстве и неделимости, тем больше проблем порождала ее внутренняя неоднородность. Едва ли стоит сомневаться в том, что француз, не говоривший по-французски, большинству якобинцев внушал подозрения и что на практике нередко использовались этнолингвистические критерии национальности. Выступая с докладом о языках в Комитете Общественной Безопасности, Барер говорил:
«Кто в департаментах Верхнего и Нижнего Рейна присоединился к предателям, дабы призвать австрийцев и пруссаков к вторжению в наши границы? – Это были жители сельских районов Эльзаса: ведь они говорят на одном языке с нашими врагами, а потому считают себя скорее их братьями и согражданами, нежели братьями и согражданами французов, которые обращаются к ним на другом языке и имеют другие обычаи».[44]44
Цит. по: М. de Certeau, D. Julia & J. Revel. Une Politique de la langue La Revolution Francaise et les patois: L'enquete de l'Abbe Gregoire. Paris, 1975. P. 293. О проблеме «Французская революция и национальный язык» в целом см. также: Renee Balibar & Dominique Laporte. Le Francais national. Politique et pratique de la langue nationale sous la Revolution. Paris, 1974. Об особой проблеме Эльзаса см.: E.Philipps. Les Luttes linguistiques en Alsace jusqu'en 1945. Strasbourg, 1975 и P. Levy. Histoire linguistique d'Alsace et de Lorraine. 2vols., Strasbourg, 1929.
[Закрыть]
Действительно, начиная с эпохи революций, во Франции настойчиво подчеркивали важность языкового единообразия в государстве, в революционную же эпоху этот мотив был чем-то совершенно исключительным. К этой теме мы еще вернемся. Стоит, однако, подчеркнуть, что в теории человек становился «французом» отнюдь не потому, что французский уже являлся его родным языком – да и как это было возможно, если сама же Революция так долго и упорно доказывала, сколь немногие во Франции действительно на нем говорят?[45]45
De Certeau, Julia & Revel. Une Politique de la langue, passim.
[Закрыть] – но потому, что выказывал готовность усвоить этот язык, наряду с прочими правами, законами и общими чертами свободного народа Франции. В известном смысле усвоение французского языка являлось одним из условий полноправного французского гражданства (а значит, и принадлежности к французской нации) – как знание английского языка стало одной из предпосылок гражданства американского. Чтобы продемонстрировать существенное различие между языковыми в своей основе определениями национальности и французским подходом к этой проблеме (даже в крайних его формах), стоит вспомнить рассуждения немецкого филолога Рихарда Бека (с ним мы еще встретимся на Международном Статистическом Конгрессе, где он будет убеждать делегатов в необходимости включения вопросов о языке в официальные переписи, см. ниже с. 69–70). В весьма авторитетных работах этого ученого, опубликованных в 1860-х гг., доказывалось, что единственным подлинным критерием национальности является язык – аргумент, как нельзя лучше подходивший для немецкого национализма, поскольку немцы населяли обширные территории центральной и восточной Европы. В итоге Беку пришлось причислить к немцам и евреев-ашкенази, так как идиш, вне всякого сомнения, представлял собой немецкий диалект, происходивший от средневекового немецкого языка. Сам Бек прекрасно понимал, что немецкие антисемиты едва ли согласятся с таким выводом. Однако французские революционеры, выступавшие за интеграцию евреев во французскую нацию, не нуждались бы в подобных аргументах и даже не сумели бы их воспринять. С их точки зрения, и евреи-сефарды, говорившие на средневековом испанском, и евреи-ашкенази, пользовавшиеся идишем, – а во Франции жили и те и другие, – в равной мере являлись французами, коль скоро они принимали условия французского гражданства, в число которых, естественно, входило и владение французским языком. И напротив, довод, будто Дрейфус не мог быть «настоящим» французом по причине своего еврейского происхождения, был истолкован – и вполне справедливо – как откровенный вызов самой сущности Французской революции и завещанному ей пониманию французской нации.
Тем не менее, именно в докладе Барера сходятся два совершенно различных понятия нации – революционно-демократическое и националистическое. Уравнение государство = нация = народ относилось к обоим, однако, по мнению националистов, реализующие данную формулу политические образования должны были корениться в уже существующей общности, четко отделяющей себя от иностранцев, тогда как с революционно-демократической точки зрения ключевым было понятие суверенного народа-гражданина, равного государству, который и составлял по отношению к остальному человечеству «нацию».[46]46
«По отношению к государству граждане образуют народ; по отношению к человечеству они составляют нацию», J. Helie. Nation, definition of в Lalor. Cyclopedia of Political Science, vol. II. P. 923.
[Закрыть] Не следует забывать и о том, что государствам, каким бы ни было их устройство, приходилось теперь принимать в расчет и собственных подданных, ибо в эпоху революций управлять последними стало труднее. Как выразился освободитель Греции Колокотронис, «народы уже не считали своих царей земными богами и не думали, будто им, народам, надлежит провозглашать благом все, что творят их владыки».[47]47
Цит. по: Е. J. Hobsbawm. The Age of Revolution 1789–1848. London, 1962. P. 91–92.
[Закрыть] Божественный авторитет уже не защищал королей. Когда король Франции Карл X возобновил в 1825 г. старинную церемонию коронования в Реймсе, а с нею (весьма неохотно) обряд чудотворного исцеления, то в надежде излечиться от золотухи через прикосновение августейшей руки в Реймс явилось всего лишь 120 человек. На предыдущую коронацию в 1774 г. пришло с этой целью 2400 человек.[48]48
Marc Block. Les Rois thaumaturges. Paris, 1924. P. 402–404.
[Закрыть] Мы увидим, что после 1870 г. процесс демократизации сделает проблему законности власти и мобилизации граждан весьма острой и насущной. Вполне очевидно, что для правительства важнейшим элементом формулы государство = нация = народ было государство. Но какое же место занимало понятие нации, или, если угодно, формула государство = нация = народ (в любом порядке), в теоретических построениях тех, кто в конечном счете сильнее всего повлиял на Европу XIX века, а в особенности на ту эпоху ее истории, (1830–1880 гг.), когда «принцип национальности» самым решительным образом перекроил карту континента, а именно либеральную буржуазию и вышедших из ее среды интеллектуалов? При всем желании они бы не сумели уйти от размышлений на подобную тему, ибо в течение этих 50 лет баланс сил в Европе существенно изменился: образовались две новые великие державы, основанные на национальном принципе (Германия и Италия); фактический раздел по тому же принципу претерпела третья великая держава (Австро-Венгрия после Соглашения 1867 г.). Мы уже не говорим о признании нескольких менее крупных политических образований как независимых государств, претендовавших на новый статус, статус народов, обладающих национальным государством, – от Бельгии на западе до государств, выделившихся из Османской империи на юго-востоке (Греция, Сербия, Румыния, Болгария), или о двух национальных восстаниях поляков, добивавшихся воссоздания того, что они считали национальным государством. Впрочем, либеральные мыслители и не стремились уйти от этих проблем. Для Уолтера Бэйджхота, например, «становление наций» было существенным содержанием исторической эволюции в XIX веке.[49]49
Walter Bagehot. Physics and Politics. London, 1887, ch. Ill, IV on «Nation-making».
[Закрыть]
Но поскольку общее количество наций-государств в начале XIX века было невелико, перед пытливыми умами сам собою вставал вопрос: какие из населяющих Европу общностей и групп, по тем или иным основаниям причисляемых к «национальностям», обретут собственное государство (или какую-либо иную, менее высокую форму политического или административного признания), и, соответственно, какие из многочисленных существующих государств «пропитаются» свойством «нации». Разработка критериев потенциального или действительного статуса нации, в сущности, служила именно этой цели. Представлялось очевидным, что не все государства совпадут с нациями и не все нации – с государствами. Знаменитый вопрос Ренана, «почему Голландия является нацией, тогда как Ганновер или Великое Герцогство Пармское – нет?»[50]50
Ernest Renan. What is a nation? в Alfred Zimmern (ed.), Modern Political Doctrines. Oxford, 1939. P. 192.
[Закрыть] порождал один ряд требующих анализа проблем. С другой стороны, замечание Джона Стюарта Милля о том, что образование национального государства должно быть а) реально осуществимым и б) желанным для самой национальности, – вызывало к жизни вопросы иного рода. Это было верно даже для националистов середины викторианской эпохи, не питавших никаких сомнений относительно ответов на оба рода вопросов касательно их собственной национальности и того государства, в котором она воплощалась. Ведь на соответствующие притязания других национальностей и государств даже они смотрели куда менее благосклонно.
И однако, сделав еще один шаг вперед, мы обнаруживаем в либеральной теоретической мысли XIX века поразительно высокую долю интеллектуальной неопределенности. И объясняется она не столько неспособностью глубоко проанализировать национальную проблему, сколько предположением, что данная проблема, будучи вполне очевидной, и не нуждалась в четкой формулировке. А потому значительная доля теоретических построений, связанных с проблемой нации, возникает у либеральных авторов, так сказать, в стороне от главного направления их мысли. Более того, мы увидим, что основное ядро теоретической доктрины либерализма делало вообще чрезвычайно затруднительным национальный подход к «нации». В оставшейся части данной главы наша задача будет состоять в том, чтобы реконструировать стройную либерально-буржуазную теорию «нации» – так же примерно, как по сохранившимся кладам монет археологи восстанавливают маршруты торговых путей. Начать же лучше всего, пожалуй, с наименее удачного понятия «нации» – в том смысле, в каком употребляет это слово в названии своей великой книги Адам Смит. Ведь в контексте его труда оно, безусловно, означает не более чем государство, обладающее известной территорией, или, по выражению Джона Рэя (проницательного шотландца, который в начале XIX века странствовал по Северной Америке и критиковал Смита), «всякую отдельную общину, общество, нацию, государство или народ (термины, которые в применении к нашему предмету можно считать синонимичными)».[51]51
John Rae. The Sociological Theory of Capital, being a complete reprint of The New Principles of Political Economy by John Rae. 1834, (ed.) C. W. Mixter. New York, 1905. P. 26.
[Закрыть] И все же взгляды знаменитого либерального политэконома должны были иметь вес и для тех либеральных мыслителей среднего класса, которые рассматривали «нацию» с иной точки зрения, пусть даже сами они не были экономистами (как Джон Стюарт Милль) или редакторами «Экономиста» (как Уолтер Бэйджхот). И мы вправе задаться вопросом: было ли исторической случайностью то, что классическая эра фритредерского либерализма совпала с эпохой «становления наций», – процессом, который Бэйджхот считал для своего века решающим? Иными словами, имело ли национальное государство какую-либо особую функцию в процессе развития капитализма? Или по-другому: каким образом истолковывали подобную функцию либеральные теоретики того времени?
Ибо для историка вполне очевидно, что экономика, заключенная в границах государства, играла тогда огромную роль. Мировая экономика XIX века была не космополитической, но скорее интернациональной. Теоретики мировых систем пытались доказать, что капитализм как глобальная система зародился на одном конкретном континенте, а не где-либо в другом месте, именно благодаря политическому плюрализму Европы, которая не была ни «мировой империей», ни ее частью. Экономическое развитие протекало в XVI–XVIII веках на основе территориальных государств, каждое из которых как единое целое тяготело к политике меркантилизма. Еще более характерно то обстоятельство, что, рассуждая о мировом капитализме XIX-начала XX вв., мы оперируем терминами, указывающими на его национальные составляющие в развитом мире: британская промышленность, американская экономика, германский капитализм в отличие от французского и т. д. В течение долгого периода с XVIII века до первых лет после второй мировой войны в глобальной экономике находилось, кажется, немного места и возможностей для тех действительно экстерриториальных, транснациональных и промежуточных образований, которые сыграли столь важную роль в генезисе мировой капиталистической системы и которые сегодня вновь выходят на первый план, – например, независимых мини-государств, чье экономическое значение несоразмерно их малой величине и скромным ресурсам, вроде Любека и Гента в XIV веке или Сингапура и Гонконга в наши дни. В самом деле, оглядываясь на историю становления современной мировой экономики, мы видим, что та эпоха, в которую экономическое развитие было неотделимо от «национальных экономик» ряда развитых территориальных государств, находится между двумя по существу своему транснациональными периодами.
Для либеральных экономистов XIX века или для либералов, которые могли, возможно, согласиться с аргументами классической политэкономии, трудность состояла в том, что экономическое значение наций они могли признавать лишь на практике, но отнюдь не в теории. Ведь классическая политэкономия, и особенно теория Адама Смита, возникла в виде критики «системы меркантилизма», т. е. именно той системы, при которой каждое правительство относилось к национальной экономике как к единому комплексу, который надлежит развивать посредством целенаправленных усилий государства. Теории свободной торговли и свободного рынка были направлены как раз против подобной концепции экономического развития нации, неплодотворность которой Смит, как ему представлялось, ясно доказал. А потому экономическая теория разрабатывалась исключительно на основе индивидуальных субъектов предпринимательской деятельности – отдельных лиц или фирм, – которые стремятся рациональным путем увеличить, насколько возможно, прибыли и уменьшить убытки, действуя при этом в условиях рынка, не имеющего определенных пространственных границ. В конечном счете последний превратился (и не мог не превратиться) в рынок мировой. Смит вовсе не отвергал определенных функций государства в экономике, поскольку речь шла об общей теории экономического роста, однако в данной теории не нашлось места ни для нации, ни для какого-либо иного коллектива, более крупного, чем фирма (последняя, кстати говоря, также не стала в ней предметом серьезного исследования). Так, в разгар либеральной эры Дж. Э. Кэрнс даже потратил добрый десяток страниц на вполне серьезный анализ утверждения о том, что теория международной торговли как чего-то отличного от торговли между частными лицами совершенно бесполезна.[52]52
J. Е. Cairnes. Some Leading Principles of Political Economy Newly Expounded. London, 1874. P. 355–365.
[Закрыть] Он заключил, что хотя международные торговые связи, без сомнения, постепенно облегчаются, в этой области по-прежнему остается достаточно много трений, а значит, проблемы торговли между государствами все-таки заслуживают особого анализа. Немецкий либеральный экономист Шёнберг сомневался в том, что понятие «национального дохода» обладает каким-либо смыслом пообще. Те, кто удовлетворялся поверхностными представлениями, могли, вероятно, в это поверить, но они, пожалуй, заходили слишком далеко, пусть даже оценки «национального богатства» в денежном измерении и были ошибочными.[53]53
Dr. Gustav Schonberg (ed.). Hanbuch der politischen Oekonomie, Bd. I. Tubingen, 1882. S. 158 ff.
[Закрыть] Эдвин Кэннан[54]54
Edwin Cannan. History of the Theories of Production und Distribution in English Political Economy from 1776 to 1848. London, 1894. P. 10 ff.
[Закрыть] полагал, что «нация» Адама Смита состояла лишь из совокупности лиц, живущих на территории одного государства, и задавался вопросом: не вытекает ли из этого факта, что через 100 лет все эти люди уже умрут, полная неиозможность рассуждать о «нации» как о сущности, обладающей непрерывным существованием. В терминах политической экономики это означало убеждение в том, что лишь распределение ресурсов через рынок является оптимальным и что с помощью механизмов рынка интересы частных лиц автоматически преобразуются в интересы целого (если в подобных теориях вообще находилось место для такого понятия, как интересы сообщества в целом). И напротив, Джон Рэй написал в 1834 г. свою книгу именно для того, чтобы в полемике с Адамом Смитом доказать, что индивидуальные интересы не совпадают с национальными вполне, т. е. что принципы, управляющие индивидом в его погоне за личной выгодой, вовсе не ведут к непременному росту богатства нации.[55]55
Rae. The Sociological Theory of Capital.
[Закрыть] Мы еще убедимся, что воззрения тех, кто не желал следовать за Смитом безоговорочно, нельзя было совершенно сбрасывать со счетов, и все же конкурировать с классической школой их экономические теории не могли. В «Словаре политической экономии» Пэлгрейва термин «национальная экономика» появляется лишь в связи с немецкими экономическими теориями, а из аналогичного французского труда 1890-х гг. сам термин «нация» совершенно исчезает.[56]56
Nouveau Dictionnaire d'Economie Politique, (ed.) Leon Say and Joseph Chailley. Paris, 1892.
[Закрыть]И все-таки даже самым ортодоксальным из экономистов классической школы приходилось иметь дело с понятием национальной экономики. При вступлении в должность профессора политической экономии в Коллеж де Франс сен-симонист Мишель Шевалье каким-то извиняющимся или даже полуироническим тоном объявил в своей лекции: