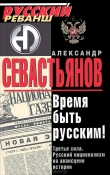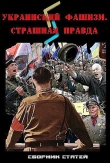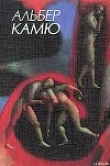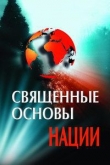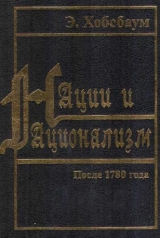
Текст книги "Нации и национализм после 1780 года"
Автор книги: Эрик Хобсбаум
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Разумеется, все это стало возможным как благодаря технической революции на транспорте и в средствах связи, так и по причине свободного перемещения производительных сил, которое осуществляется в течение долгого периода в обширном регионе, сложившемся после Второй мировой войны. Это также привело к мощной волне международной и межконтинентальной миграции – крупнейшей со времени предшествовавших 1914 году десятилетий. Миграция усилила межобщинные трения (особенно в виде расизма), но при этом сделала мир национальных территорий, «принадлежащих» исключительно коренному населению, которое умеет заставить чужаков «знать свое место», еще менее реалистической перспективой для XXI века, чем она была для века XX. Сегодня мы переживаем период, в котором любопытным образом совмещаются технология конца XX века, принцип свободной торговли XIX столетия и возрождение своего рода промежуточных, межгосударственных центров мировой торговли, характерных для эпохи средневековья. Оживают города-государства, вроде Гонконга и Сингапура; внутри юридически суверенных наций-государств умножаются экстерриториальные «индустриальные зоны», подобные «ганзейскому безмену», на лишенных какой-либо иной ценности островках появляются оффшорные убежища от налогов, чья единственная функция в том и состоит, чтобы освобождать международную экономическую деятельность от контроля со стороны национальных государств. Ни к одному из этих процессов ориентированная на нации и национализм идеология никакого отношения не имеет.
Сказанное не означает, что экономическая роль государств уменьшается или совершенно сходит на нет. Напротив, как в капиталистических, так и в некапиталистических странах она выросла, – и это несмотря на существовавшую в 1980-х годах в обоих лагерях тенденцию поощрять частный и вообще негосударственный сектор. Не говоря уже о государственном планировании и управлении, но-прежнему сохраняющих свою важность даже в тех странах, которые в теории привержены неолиберализму, один лишь вес общественных доходов и расходов в экономике государств, а главное – растущая роль последних в значительном перераспределении национального продукта посредством фискальных механизмов и системы социального обеспечения сделали государство, вероятно, еще более ключевым фактором в жизни современного человека. Национальные экономики, размываемые экономикой транснациональной, существуют рядом и во взаимодействии с нею. А к тому же, если исключить, с одной стороны, самые «замурованные» страны – а сколько их осталось теперь, когда даже Бирма подумывает о возвращении в мир? – и, с другой – Японию, то следует признать, что собственно «национальные» экономики уже не те, какие были прежде. Даже США, которые в 1980-х годах еще казались достаточно мощными, чтобы решать свои экономические проблемы, не обращая внимания на других, в конце этого десятилетия осознали, что «контроль над их экономикой перешел в значительной степени в руки иностранных инвесторов… которые теперь способны поощрять ее рост или, напротив, содействовать ее сползанию к спаду» (The Wall Street Journal, 5 December, 1988, p. 1). Что же касается всех малых и практически всех средних по величине государств, то их экономики уже явно перестали быть автономными (в той мере, в какой они вообще были таковыми). Здесь напрашивается еще одно важное соображение. Дело в том, что важнейшие политические конфликты, которые, по всей видимости, и будут определять судьбы нынешнего мира, имеют мало общего с проблемами наций-государств, ибо в течение последних пятидесяти лет не существовало ничего похожего на европейскую систему государств образца XIX века.
Послевоенный мир был в политическом смысле биполярным: он строился вокруг двух сверхдержав, которые можно рассматривать в качестве громадных по величине наций, – но, безусловно, отнюдь не в качестве элементов международного порядка, аналогичного тому, какой существовал в XIX веке или до 1939 года. Самое большее, что могли сделать прочие государства, – как союзники одной из сверхдержав, так и не входившие с ними в союз, – это выступить по отношению к сверхдержавам в роли сдерживающего фактора; впрочем, у нас нет особых оснований полагать, что они в этом смысле многого добились. Кроме того, центральный конфликт эпохи имел идеологическую природу (это справедливо в отношении США, но отчасти и догорбачевского СССР), поскольку триумф «истинной» идеологии был равнозначен господству соответствующей сверхдержавы. Революция и контрреволюция – вот главная тема мировой политики после 1945 года; национальные же вопросы лишь до известной степени ее оттеняли или затушевывали.
Эта модель, как принято считать, разрушилась в 1989 году, когда СССР перестал быть сверхдержавой; впрочем, модель мира, расколотого на две части Октябрьской революцией, перестала соответствовать реалиям конца XX века еще раньше. Непосредственным результатом подобного развития событий стало то, что мир лишился международного системообразующего или упорядочивающего принципа, хотя последняя сверхдержава и попыталась присвоить себе функции единственного мирового полицейского, – роль, которая, по всей видимости, превышает экономические и военные возможности и этого, и всякого иного отдельного государства.
Таким образом, в настоящий момент никакой системы не существует вовсе. Разделение же по этнолингвистическому признаку совершенно не способно стать основой для сколько-нибудь устойчивой, упорядоченной и хотя бы элементарно предсказуемой мировой системы, – чтобы убедиться в этом сейчас (1992), достаточно бросить беглый взгляд на обширный регион, простирающийся от Вены и Триеста до Владивостока. Все карты для одной пятой части суши стали ненадежными и условными. Единственное, что можно с достоверностью утверждать о ее «картографическом» будущем, так это то, что зависит оно теперь от небольшой группы главных игроков за пределами данного региона: Германии, Турции, Ирана, Китая, Японии и – несколько далее – США.[291]291
К моменту написания этих строк Европейское Сообщество как таковое еще не продемонстрировало способности к совместным действиям в области международной дипломатии, а ООН превратилась в придаток США. Разумеется, подобная ситуация может вскоре измениться.
[Закрыть] (Внутри его находится лишь Россия, которая, вероятно, сохранится в качестве более или менее крупного политического образования.) Главная же партия принадлежит указанным странам именно потому, что их пока не подрывает изнутри сепаратистское движение.
Новая «Европа наций», а тем более – «мир наций» сами по себе не способны создать даже сколько-нибудь устойчивый «ансамбль» независимых и суверенных государств. С военной точки зрения независимость малых государств зависит от международного порядка, который – каким бы ни была его внутренняя природа – защищает их от более сильных хищников-соседей; события на Ближнем Востоке ясно это доказали тотчас же после нарушения баланса сверхдержав. И пока не возникнет новая международная система, по крайней мере треть ныне существующих государств (т. е. страны с населением не более 2,5 млн. чел.) не будет иметь эффективных гарантий независимости. Создание же нескольких новых малых государств лишь увеличит число нестабильных политических образований. Когда же этот новый международный порядок сформируется, реальная роль малых и слабых будет в нем столь же незначительна, как и влияние Ольденбурга или Мекленбург-Шверина на политику Германского союза в прошлом веке. В экономическом же отношении даже гораздо более мощные государства зависят теперь, как мы убедились выше, от глобальной экономики, которая определяет их внутреннее состояние и находится вне их контроля. Латвийская или баскская «национальная» экономика, взятая в отрыве от какой-то более крупной системы, частью которой она является, есть такой же абсурд, как и «парижская» экономика в отрыве от Франции в целом. Самое большее, что можно утверждать с определенностью, это то, что малые государства теперь столь же жизнеспособны в экономическом отношении, как и государства более крупные, поскольку «национальная экономика» отходит на второй план перед транснациональной. Можно также предположить, что «регионы» представляют собой в наше время более рациональный элемент крупных экономических структур, подобных Европейскому Сообществу, нежели исторические государства, являющиеся его официальными членами. Оба эти тезиса, на мой взгляд, справедливы, однако логической связи между ними не существует. Западноевропейские сепаратистские националистические движения (например, шотландское, уэльсское, баскское или каталонское) могут теперь в качестве представителей «регионов» апеллировать непосредственно к Брюсселю, пренебрегая собственными национальными правительствами. И все же у нас нет оснований полагать, что малое государство ipso facto образует экономический регион в большей степени, нежели государство крупное (например, Шотландия по сравнению с Англией); и обратно, у нас нет причин думать, будто экономический регион должен ipso facto совпадать с потенциальным политическим образованием, созданным на основе этнолингвистических или исторических критериев.[292]292
Это явствует из: Sydney Pollard. Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe 1760–1970. Oxford, 1981, где заглавная тема рассматривается как «по существу проблема отдельных регионов в общеевропейском контексте» (р. VII).
[Закрыть] А кроме того, если сепаратистские движения малых народов более всего мечтают о том, чтобы утвердиться в качестве элементов крупных наднациональных политико-экономических систем (в данном случае – Европейского Сообщества), то они по сути дела отказываются от классической цели подобных движений – создания независимого суверенного национального государства. Но против Kleinstaaterei, по крайней мере в ее этнолингвистическом варианте, свидетельствует сегодня не только неспособность этой системы разрешить реальные проблемы современности, но и то обстоятельство, что, получив возможность проводить свою политику, она их еще более усугубляет. Культурный плюрализм и свобода в наше время почти наверняка надежнее гарантированы в крупных государствах, сознающих и признающих свой многонациональный и многокультурный характер, нежели в мелких странах, которые стремятся к идеалу этнолингвистической и культурной однородности. И вовсе не удивительно, что самым первым требованием словацкого национализма стало в 1990 г. следующее: «Словацкий должен стать единственным государственным языком, а 600 000 этнических венгров нужно заставить использовать в общении с властями только словацкий и никакой другой».[293]293
Henry Kamm. Language bill weighed as Slovak separatists rally // New York Times, 25 October, 1990.
[Закрыть] Что касается алжирского националистического закона 1990 г., который «превращает арабский в государственный язык, предусматривая высокие штрафы за употребление в официальной сфере любого иного языка», то в Алжире его воспримут отнюдь не в качестве шага к освобождению от французского влияния, но как выпад против третьей части алжирцев, которая говорит на берберском языке.[294]294
Algerians hit at language ban // Financial Times, 28 December, 1990.
[Закрыть] Справедливо замечено, что: «Современная версия существовавшего до XIX столетия мира – мира искренних и наивных местных привязанностей – звучит очень мило, однако нынешние разрушители национальных государств клонят, кажется, совсем в другую сторону <…> Они отнюдь не стремятся к созданию таких государств, которые состояли бы из терпимых и достаточно открытых друг другу небольших районов, но исходят из крайне ограниченного представления о том, что сохранить свою целостность народ может лишь благодаря полному этническому, религиозному или языковому единообразию».[295]295
The state of the nation state // Economist, 22 December 1990-14 January 1991. P. 78.
[Закрыть]
Курс на подобным образом понятую «монолитность» уже приводит к возникновению автономистских и сепаратистских настроений среди меньшинств в такого рода националистических государственных образованиях, а также к тому, что лучше всего называть не «балканизацией», а скорее «ливанизацией». Русские и турки хотят отделиться от Молдавии; свою независимость от националистической Хорватии объявляют сербы; негрузинские кавказские народности отвергают господство в Грузии грузин, – а, с другой стороны, в Вильнюсе слышны голоса ультранационалистов, которые сомневаются в том, что вождь, коего фамилия явно выдает немецкие корни, способен как следует уразуметь самые глубокие вековые чаяния литовцев. В нашем мире, где примерно из 180 государств, вероятно, немногим более полудюжины могли бы не без оснований претендовать на то, что их граждане принадлежат к одной этнической или языковой группе, национализм, основанный на стремлении к подобной однородности, не только нежелателен, но в значительной степени саморазрушителен.
Короче говоря, лозунг самоопределения вплоть до права на выход из состава государства, в его классической версии Вильсона-Ленина, не способен послужить всеобщим принципом для решения реальных проблем XXI века. Скорее, в нем следует видеть симптом кризиса понятия «нации-государства» образца прошлого века; понятия, зажатого в тиски между «супранационализмом» и «инфранационализмом» (если воспользоваться терминологией журнала The Economist).[296]296
Ibid. P. 73–78.
[Закрыть] Но кризис этот затронул не только крупные, но и малые нации-государства, как новые, так и старые.
А значит, сомнению подлежит отнюдь не сила свойственного людям стремления к самоидентификации с некоей общностью, вариантом которой – но, как показывает исламский мир, не единственным – является национальность. Мы также не отрицаем и энергию противодействия всеобщей централизации и бюрократизации государства, экономики и культуры, т. е. их удаленности от конкретного человека и недоступности для контроля снизу. Нет у нас причин сомневаться и в том, что практически любое проявление местного и даже группового недовольства, способное встать под цветные знамена, находит для себя весьма привлекательным национальное обоснование.[297]297
«Классовый „грим“ воинствующих лидеров <…> Окситанского (провансальского) движения свидетельствует о том, что причины подобного недовольства заключаются преимущественно не в региональной неравномерности экономического развития, а в тех трудностях, которые испытывают „белые воротнички“ и представители интеллигентных профессий <…> по всей Франций». William R. Beer. The social class of ethnic activists in contemporary France в кн.: Milton J. Esman (ed.). Ethnic Conflict in the Western World. Ithaca, 1977. P. 158.
[Закрыть] Скептики сомневаются в другом, а именно: действительно ли стремление к созданию однородных наций-государств так уже неодолимо, как это принято считать; и в самом ли деле теоретическая концепция и практическая программа подобного государства окажутся вполне пригодными для XXI века? Ведь даже в тех регионах, где можно было ожидать весьма мощных классических движений за образование самостоятельных наций-государств, с помощью эффективного перераспределения функций и разумной регионализации подобные тенденции удалось предотвратить или даже остановить. В Северной и Южной Америке, во всяком случае, к югу от Канады, после Гражданской войны в США сепаратизм явно пошел на убыль, И весьма знаменательно, что в Западной Европе сепаратистские движения менее всего характерны для государств, потерпевших поражение во Второй мировой войне и вынужденных под внешним давлением – ставшим, очевидно, реакцией на сверхцентрализацию фашистской эпохи, – пойти на особенно существенное перераспределение власти от центра к регионам; хотя, если рассуждать формально, Бавария и Сицилия представляют собой, по крайней мере, столь же благоприятную почву для сепаратизма, как и Шотландия или франкоязычные районы Бернской Юры. В действительности же, возникшее на Сицилии после 1943 года сепаратистское движение оказалось весьма недолговечным, пусть даже иные авторы до сих пор оплакивают его конец как «гибель сицилийской нации».[298]298
Marcello Citnino. Fine di una nazione. Palermo, 1977; G. C. Marino. Storia del separatismo siciliano 1943–1947. Rome, 1979.
[Закрыть] Смертельный удар ему нанес закон 1946 г. о региональной автономии.
Таким образом, современный национализм служит отражением того лишь наполовину осознанного кризиса, который переживают ныне теория и практика национализма Вильсона-Ленина. Как мы убедились, даже весьма многие из старых, мощных и непримиримых националистических движений (например, баскское и шотландское) испытывают сомнения относительно реального смысла государственной независимости, пусть даже они по-прежнему ставят своей целью полное отделение от тех государств, в состав которых входят сейчас соответствующие территории. Подобные колебания превосходно иллюстрирует старый и до сих пор не получивший адекватного ответа «ирландский вопрос». Во-первых, независимая Ирландская Республика, настаивая на своей полной политической самостоятельности по отношению к Британии – резко подчеркнутой нейтралитетом Ирландии в ходе Второй мировой войны, – на практике нисколько не возражает против обширных связей с Соединенным Королевством. И для ирландского национализма не составило особого труда приспособиться к весьма любопытному положению вещей, при котором граждане Ирландии, находясь на британской территории, пользуются всеми правами граждан Соединенного Королевства, как если бы их страна никогда от него и не отделялась, т. е. de facto обладают двойным гражданством. Во-вторых, быстро угасает прежняя вера в лозунг единой независимой Ирландии. И лондонское, и дублинское правительства, вероятно, согласились бы с тем, что единая Ирландия есть нечто (относительно) приемлемое. Однако весьма немногие – даже в Ирландской Республике – увидели бы в подобном объединении что-либо иное, кроме наименее неудачного из имеющихся в наличии плохих вариантов. С другой стороны, если бы Ольстер должен был в подобной ситуации объявить себя независимым как от Ирландии, так и от Великобритании, то большинство ольстерских протестантов также сочло бы это окончательное отречение от папы меньшим злом. В общем, можно с уверенностью утверждать, что лишь кучка фанатиков сумела бы разглядеть в национальном/общинном самоопределении сколько-нибудь существенные преимущества по сравнению с нынешним – крайне неудовлетворительным – положением вещей. Кризис национального сознания, обусловленный сходными причинами, мы можем обнаружить и в нациях давно сложившихся. Это сознание – в том виде, в каком оно возникло в Европе прошлого века, – располагалось где-то внутри четырехугольника, вершинами которого были Народ, Государство, Нация и Правительство. В теории все четыре элемента совпадали. Как выразился Гитлер, Германия – это «em Volk, ein Reich, ein Fuehrer», т. е. один народ/нация, одно государство, одно правительство (Volk означает здесь и народ, и нацию). В реальности же понятия «государства» и «правительства» определялись, как правило, политическими критериями, характерными для той эпохи, у истоков которой стояли великие революции XVIII века, тогда как понятия «народа» и «нации» определялись главным образом прежними, дополитическими критериями, служившими формированию воображаемых общностей. Политика же постоянно стремилась присвоить эти дополитические элементы и преобразовать их ради собственных целей. Органическая связь всех четырех элементов принималась без доказательств, – теперь, однако, в крупных исторических или давно сформировавшихся нациях-государствах это уже стало невозможным.
Иллюстрацией сказанного могут послужить результаты опроса общественного мнения, проведенного в 1972 г. в ФРГ.[299]299
Bundesministerium fur innerdeutsche Beziehungen, Materialen zum Bericht zur Lage der Nation, 3 Bden. Bonn, 1971, 1972, 1974, III. S. 107–113, esp. S. 112.
[Закрыть] Данный случай можно считать, вероятно, предельным, поскольку от абсолютного (в теории) всегерманского политического единства при Гитлере Германия перешла к ситуации одновременного существования по крайней мере двух государств, каждое из которых могло считать себя всей немецкой нацией или ее частью. Но именно это положение вещей и позволяет нам обнаружить сомнения и колебания в умах большинства граждан, размышляющих о том, что такое «нация».
Первое, что явствует из опроса, это значительная степень неуверенности. 83% западных немцев сочли, что им хорошо известно, что такое капитализм; 78% не испытывали затруднений относительно социализма, но лишь 71% рискнул высказаться по поводу «государства», а 34% оказались совершенно неспособны как-либо определить или описать «нацию». Среди наименее образованных слоев неуверенности было еще больнее. 90% получивших среднее образование немцев сочли себя осведомленными по поводу смысла всех четырех терминов, но лишь 54% (не имевших профессиональной подготовки, т. е. неквалифицированных) немцев, окончивших только начальную школу, ответили, что им понятно значение слова «государство», и лишь 47% считали, что имеют представление о «нации». Причина этих колебаний в том и состоит, что прежняя связь «народа», «нации» и «государства» распалась.
На вопрос: «Нация и государство – это одно и то же, или мы говорим здесь о двух разных вещах?», 43% западных немцев – 81% среди лиц с высоким уровнем образования – дали вполне очевидный (ввиду одновременного существования двух немецких государств) ответ: это не одно и то же. Однако 35% респондентов сочли, что нация и государство неразделимы, а отсюда 31% рабочих (39% лиц моложе 40 лет) вполне логично заключил, что ГДР, являясь особым государством, образует сейчас особую нацию. Отметим также, что группой, тверже других убежденной в тождестве нации и государства, оказались квалифицированные рабочие (42%); а лица, голосующие за социал-демократов, тверже других верили в то, что Германия представляет собой одну нацию, разделенную на два государства (52%); среди христианско-демократического электората подобного мнения держались 36%. Можно сказать, что через сто лет после объединения Германии (1871) традиционное, образца XIX века понятие «нации» прочнее всего сохранилось в среде рабочего класса. Все это наводит на следующую мысль: идея «нации», когда ее, словно моллюска, извлекают из на первый взгляд твердой раковины «нации-государства», предстает перед нами в чрезвычайно смутном и неуловимом облике. Это, конечно, не означает, будто немцы к востоку и западу от Эльбы – даже до воссоединения обоих государств – не воспринимали себя как «немцев», хотя большинство австрийцев после 1945 года уже, вероятно, не считало себя частью более крупной германской нации (как это было им свойственно между 1918 и 1945 гг.), а немецкоязычные швейцарцы, несомненно, активно отвергали всякую мысль о своем тождестве с немцами. Западные и восточные немцы испытывали колебания (и вполне обоснованные) относительно политических и иных импликаций самой этой «немецкости». И далеко не ясно, положило ли конец подобной неуверенности образование в 1990 году единого немецкого государства.
Есть основания подозревать, что и в других исторических «нациях-государствах» аналогичные вопросы привели бы к столь же путаным и неопределенным ответам. Какова, к примеру, связь между «француз-скостью» и francophonie (до недавнего времени этот термин даже не существовал – впервые он зафиксирован в 1959 г.)? И генерал де Голль – хотел он этого или нет – вступил в прямое противоречие с традиционным нелингвистическим определением французской нации, когда обратился к жителям Квебека как к «французам за рубежом». В свою очередь, теоретики квебекского национализма «более или менее решительно отказались от понятия родина (la patrie) и впутались в нескончаемые споры относительно недостатков и преимуществ таких терминов, как нация, народ, общество и государство».[300]300
Dion. The mystery of Quebec. P. 302. Голлистское понимание Квебека как французского, представленное в заявлении французского правительства от 31 июля 1967 г., состояло в том, что Франция не может «оставаться безучастной к настоящей и будущей судьбе людей, которые являются потомками ее собственного народа и сохраняют изумительную верность своей исторической родине; или считать Канаду иностранным государством в том же смысле, что и остальные государства мира» (Canadian News Facts, vol. I, no. 15, 14 August 1967), p. 114.
[Закрыть] Вплоть до 1960-х годов быть «британцем» с точки зрения юридической и административной попросту означало появиться на свет от родителей-британцев или на британской территории либо вступить в брак с британским гражданином, или натурализоваться. Сегодня этот вопрос далек от прежней простоты.
Все сказанное не означает, будто национализму не принадлежит сейчас видное место в мировой политике или что по сравнению с прежними временами его заметно поубавилось. Я говорю о другом: несмотря на то, что национализм, бесспорно, вышел на первый план, исторически он стал менее важным. Он уже не является, так сказать, глобальной перспективой развития или всеобщей политической программой, – чем он, вероятно, действительно был в XIX – начале XX вв. Теперь он, самое большее, лишь дополнительный усложняющий фактор или катализатор для иного рода процессов. Историю европоцентристского мира XIX века можно не без веских оснований представить в виде истории «становления наций», как это и сделал в свое время Уолтер Бэйджхот. В подобном свете мы и сейчас изображаем историю крупнейших государств Европы после 1870 г. (см. напр., название работы Юджина Вебера Крестьяне становятся французами).[301]301
Eugen Weber. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford, 1976.
[Закрыть] Но неужели кто-нибудь опишет подобным образом мировую историю конца XX-начала XXI века? – В высшей степени маловероятно. Напротив, ее неизбежно придется писать как историю такого мира, который уже не может быть удержан в жестких рамках «наций» и «наций-государств» в их прежнем толковании – политическом, экономическом, культурном и даже лингвистическом. История эта будет в значительной степени супранациональной и инфранациональной, но даже инфранациональность – независимо от того, рядится ли она в одежды какого-либо мини-национализма или нет – станет симптомом упадка старых наций-государств в качестве эффективно действующих структур. Ведя речь о «нациях-государствах», «нациях» или этнических/языковых группах, история прежде всего покажет, как они отступают на второй план перед лицом нового, супранационального преобразования мира, сопротивляются ему, поглощаются им или адаптируются к нему. Нации и национализм никуда из этой истории не исчезнут – но только играть они в ней будут второстепенные, а часто и совершенно незначительные роли. Это не значит, что в системе образования и в культурной жизни отдельных, в особенности небольших стран их национальная история и культура не будут занимать весьма важное место – их роль, вероятно, даже возрастет. Вполне вероятно, что они смогут пережить расцвет в рамках гораздо более широкой супранациональной системы, как процветает, например, в наши дни каталонская культура, – приэтом, однако, молчаливо подразумевается, что общение каталонцев с остальным миром будет осуществляться на испанском и на английском, поскольку весьма немногие из людей, живущих вне каталонии, окажутся способными говорить с каталонцами на своем языке.[302]302
В 1970-х гг. две трети каталонцев, оказавшись за границей, считали себя «испанцами». M.Garcia Ferrando. Regionalismo y autonomies en Espana. Madrid, 1982, Table II.
[Закрыть]
«Нация» и «национализм», как я уже заметил выше, больше не являются терминами, в которых можно адекватно описать, а тем более глубоко проанализировать политические образования и даже чувства и настроения, которые в свое время описывались с их помощью. И я не исключаю возможности того, что с закатом нации-государства и национализм пойдет на убыль; и тогда с ясностью обнаружится, что быть «англичанином», «ирландцем», «евреем» или совмещать в себе все эти характеристики – это лишь один из многих способов самоидентификации, к которым прибегают люди в зависимости от конкретных обстоятельств.[303]303
К числу немногих теоретиков, разделяющих, по-видимому, мои сомнения относительно силы и влияния современного национализма, принадлежит Джон Брейи (John Breuilly), автор работы Nationalism and the State. Он критикует как Гельнера, так и Андерсона за свойственное им допущение, будто «самоочевидные успехи национализма свидетельствуют о том, что он чрезвычайно прочно укоренен в сознании и поведении человека» (Reflections on nationalism //Philosophy and Social Science, 15/1, March 1985. P. 73).
[Закрыть] Было бы нелепо утверждать, что день этот уже близок, – я, однако, надеюсь, что сейчас о нем уже можно говорить как по крайней мере о реальной перспективе. В конце концов, сам факт, что историки начинают делать известные успехи в исследовании и анализе проблем наций и национализма, наводит на мысль, что в этом – как и во многих других случаях – пик изучаемого ими феномена уже позади. Сова Минервы, несущая мудрость, вылетает, по слову Гегеля, в сумерки, и то, что теперь она кружит над нациями и национализмом, есть добрый знак.