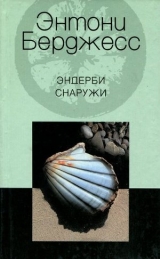
Текст книги "Эндерби снаружи"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
– Moi, – сказал Эндерби, сунув в карман коричневый крем для обуви, – j’essayerai à le vendre ou, à moins, à l’échanger pour quelquechose de comestible.
– Tu sors?[98] – спросил Али Фатхи, уже обняв Вахаба за шею.
Эндерби не понравилась подобная фамильярность. И он хмуро кивнул. Ухожу. Пора пойти выяснить, что с ним самим происходит в связи с неминуемой кончиной Йода Крузи. Похоже, в Скотленд-Ярде никто ничего не делает. Время от времени непременные сообщения насчет хода расследования, но почти все газеты сосредоточились теперь на Йоде Крузи, – не на очередной ежедневной жертве обычного покушения на убийство, а на умирающем боге. Палач как-то сдвинулся в тень, облагородился, стал безличным предопределенным агентом влияния темных сил, гордым и молчаливым во Фрейзеровой роще. Только английская полиция воспитана не на Фрейзере, а на Мориарти, и Эндерби был уверен, что она что-то скрывает. Возможно, поджаривает Джеда Фута в камерах под рекой. А может быть, прячется в плащах под шляпами тут, на морском танжерском ветру. Пора навестить ту самую Тошниловку Жирного Белого Пса, посмотреть, не прислал ли письмо Джон-испанец через своего брата Билли Гомеса, если Эндерби правильно помнит имя.
На том же этаже располагались еще две спальни, составляя бордельную часть заведения, хотя в оживленные ночи для самых поверхностных и торопливых клиентов занавешивались кабинки в нижнем баре, использовалась пару раз кухня толстого Напо, где имелся прочный стол для специалистов по столешнице. Спальня, которую Эндерби делил с Али Фатхи, Вахабом и Сурисом, никогда, насколько ему было известно, не осквернялась гетеросексуальным актом, хотя было понятно, что, как правило, поздним утром там время от времени совершается акт коммерческой педерастии, когда Эндерби с Али Фатхи (которым не разрешалось покидать помещение, ибо Напо не верил, что их не поймают) выходили на задний двор с сухопарыми курами выкурить пару окурков утешительной марихуаны, выданных Напо в маленькое воздаяние за любезное временное освобождение оплаченной вперед комнаты.
И сейчас на площадке с голой лампочкой и портретом короля Марокко он с омерзеньем увидел открытую дверь одного из этих номеров. Пара смешливых приятелей, оба средиземноморской комплекции, готовились ублажать гурий в колеблемых смешками паранджах на смежных кроватях. Эндерби сердито захлопнул ту самую дверь и направился вниз по ничем не застеленной лестнице, бурча про себя. В баре исцарапанная пластинка играла египетскую популярную музыку, – одна тема, вновь и вновь в унисон исполняемая большим, зря потраченным оркестром. Заглянув в дырку в ветхой занавеске из грязного розового муслина, он увидел Напо за стойкой. Будучи еще толще Суриса, Напо взял за образец Уинстона Черчилля, которого, по своему утверждению, видел однажды за рисованием в Марракеше, но на выкормленном извечным магрибским бесчестьем лице утвердилась мрачная детская злоба. В данный момент он спорил о магических свойствах определенных чисел с невидимым для Эндерби клиентом: что-то связанное с лотерейным билетом.
Эндерби громко пошел в уборную рядом с кухней, потом на цыпочках через кухню к черному ходу. Стоял синий, но ветреный вечер. Куры во дворике забрались на насест в ветвях чахлого дерева, идентифицировать которое он не сумел. Они для него одного разразились тихим протестующим хором, исключительно для Эндерби, слегка трепеща перьями на ветру. Хмурясь на луну, он взобрался на низкую стену с помощью пустых ящиков из-под кока-колы, вставив носки башмаков в пару дыр из-под выпавших кирпичей. Легко, хоть и с пыхтеньем, спрыгнул с другой стороны в переулок, который вел к улице. Улица бежала вниз с холма к другим улицам. Если все время двигаться вниз, со временем придешь на авеню Испании, которая выходит на пляж. Там и было то самое псиное заведение, неподалеку от отеля «Риф».
Спуск очень крутой, не слишком хорошо освещенный. Эндерби просеменил мимо облупленного театра под названием «Мигель де Сервантес», потом, обнаружив, что следующий поворот вновь идет несколько вверх, попробовал сунуться в темный, усыпанный листьями проход, недвусмысленно шедший вниз. Там, завидев его, заплакала мавританская девочка, залаяли многочисленные дворовые собаки. Но он игриво топал, хватаясь для опоры за сломанные заборы.
Круто, лучше не скажешь. Наконец, вышел из лающей тьмы, оказавшись на улице, где его окликнула кучка мавританских парней в красивых костюмах:
– Хочешь мальчика, Чарли?
– Тебе очень жарко, хочешь вкусного пива?
– Отвалите, – сказал Эндерби, не расположенный к заграничной чепухе, а парень парировал:
– Сам вали в задницу, английская свинья долбаная. – Это Эндерби не понравилось. Он знал, что этой землей, составлявшей часть приданого португальской королевы Карла II, владели некогда англичане. Нехорошо, что с ним так обращаются. Однако другой парень крикнул:
– Немец долбаный. Капут хайльгитлер.
А третий:
– Янки долбаный, свою мать раздолбавший. Засунь себе в задницу жвачку.
Продемонстрирована определенная изобретательность инвектив. Парни очень грубые, но их очевидное презрительное равнодушие к иностранцам, – возможно, здоровый признак, – породило в душе Эндерби слабую сочувственную ноту соль. Он кивнул и еще раз, повежливее, сказал:
– Отвалите.
Они как бы почуяли другой тон, поскольку просто ткнули в его сторону двумя пальцами каждый, один-другой непристойно прыснул губами, потом стали весело, визгливо бороться друг с другом. Эндерби продолжал нисхождение, придя вскоре к отелю с баром с левой стороны под названием «Эль-Дженина». В переднем дворе стояли клетки, куда на ночь набивались все птицы, и он отчетливо увидел в длинном окне бара выпивавших и обнимавшихся мужчин средних лет. Должно быть, думал он, писатели-экспатрианты. Разумеется, сам он отныне один из них, только вполне равнодушен к обязанностям и радостям братства. Он сам по себе, выжидает. Впрочем, пишет. Работает. Поддерживаемый ветром с моря, Эндерби семенил к уровню моря. Вот она, наконец, так называемая авеню Испании.
Он повернул налево. Мужчина в феске перед лавкой приветствовал его, демонстрируя коврики, седла, огнестрельное оружие. Эндерби серьезно покачал головой и честно сказал:
– No tengo bastante dinero, hombre[99]. – Он становится настоящим лингвистом.
Тощий, тупой с виду парень с заметной на свету перед лавкой диастемой[100] предлагал английские газеты. Это дело другое. Эндерби вытащил дирхемы. Старался сдержать тяжелое дыхание, ища новости. Ветер дышал еще тяжелее, набрасываясь на газету со всех четырех сторон, словно Эндерби никаких новостей больше не требовалось. Он понес газету к дверям лавки с ковриками и седлами.
– Вам, мужчина, – сказал мужчина в феске, – понравится хорошее ружье. Вижу. – Утверждение неосторожное, и поэтому Эндерби резко на него взглянул. – Кх-кх-кх, – добавил мужчина, указывая на ржавый арсенал ружей времен Крымской войны и пистолеты сценических разбойников с большой дороги.
Эндерби читал. Оставим всякую надежду, по-дантовски гласил заголовок. Конец совсем близок, максимум несколько дней. Кома. Куда ж к черту пуля попала, гадал Эндерби. Полиция возбуждает дело об убийстве, сообщала газета. Удвоенные усилия, обработка ценной информации, работает Интерпол, арест ожидается очень скоро. Неожиданно ухнувший ветер вдул эти слова в открытый рот Эндерби. Эндерби толкнул газету обратно и взглянул на дату. Вчерашняя. Он уже должен быть мертв, пасть, кующая деньги, однако не золотая, навсегда заткнулась. Торговец оружием показал настоящую золотую пасть, как у Джона-испанца (опять же: насколько можно ему доверять?), и мягко положил на свежий газетный лист, который Эндерби крепко держал на уровне подбородка, как плат в момент причастия, образец пистолета для осмотра и восторга. Эндерби в ошеломлении уронил его на порог. С дребезгом отскочила какая-то деталь, и магазинщик с готовностью упрекнул Эндерби:
– No quiero[101].
– Я сразу сказал, – сказал Эндерби, – ты, дурак чертов. – И вышел на ветер, озабоченно глядя на мерцавшие фонарные огни. Газета больше не нужна, и он ее бросил ветру на грудь. Ветер с ней обращался неловко, как женщина.
Море. La belle mer[102]. Эндерби почему-то никогда не замечал, что la belle тег с какой-то французской иронией было вынуждено принять значение la belle-mère, то есть мачеха. Что ж, приходится ненадолго вернуться к ней, – вот она, рыгает, ворчит, кипятит целый день зеленый крепкий чай, стонет ночью в постели. Это ее стараниями его поймала женщина, а вскоре поймает полиция. Где тут заведение Роуклиффа? Уличные фонари предъявили «Силки для солнца» с кошерной надписью, и «Добропожаловать». Темно; вечером люди двигались глубже на сушу, к жирным исполнительницам танца живота, к бутылкам квасцового вина «Вальпьер». Вот: Эль Акантиладо Верде, желтоватосоломенная постройка. Видно, Роуклифф открыл несколько маленьких танжерских баров и чайных. Это будет его последнее предприятие.
Эндерби отдышался, прежде чем войти в бар-ресторан с обтрепанной, хлопавшей на рвущем газету ветру псиной вывеской с низковольтной лампочкой. Прискорбно не решенный кроссворд вспорхнул, ненадолго взлетел в воздухе к глазам Эндерби, шагнувшего к закрытой двери. Вдоль тротуара тянулись опустевшие железные столики, заставленные перевернутыми стульями. Изнутри доносилась фортепьянная музыка. Он толчком открыл дверь.
Исцарапанное пианино с жестяным звуком стояло на помосте из старых пивных ящиков, а играл на нем, видимо, североевропеец, с горестной авторитетностью исполнял медленный джаз, мрачно кусая губы. Бесстрастное лицо свидетельствовало, что он страдал, но уже перешагнул грань страдания. Эндерби решил, что будет американцем. Американцы всегда сидят развалившись, в наглых вольных позах, поэтому, думал он, кажется, будто они вечно робко озираются по сторонам. В воздухе стоял травяной, лиственный запах гербария, осенний запах. Осень по-немецки Herbst? Мельком почуялся стих, подобно мимолетной похоти, которую чуешь, наткнувшись на посторонний, почти голый снимок на страницах увлекательной журнальной статьи. Американцы называют осень листопадом. Падение листьев, нравов, трава благодати. Нет, надо думать и делать другие вещи, а у него уже стих выковывается. Тем не менее, он принюхался. Нос защипали наркотики, нечто покрепче безобидной марихуаны (то есть Мэри-Джейн, простой кухарки среди наркотиков), которую ему дают покурить. Очень худой молодой человек в темных очках беспрестанно шевелил губами в каком-то трансе. Другой юноша с белыми, коротко стриженными волосами сидел, читал тонкую или тощую книжку.
– Дерьмо, – то и дело выносил он суждение.
Никто не обращал никакого внимания; никто не обращал никакого внимания на Эндерби. В углу мужчина в облегающем, точно кожа, костюме, как бы для балетных занятий, дрожащей рукой писал слова на школьной доске. «Безмозглый простофиля», написал он, а ниже «разбередил рану». Эндерби кивнул с крошечным одобрением. Литературные изгнанники разных сортов. Что ему напомнило: может быть, им известно про чертову книжку умирающего оболтуса?
– Дерьмо, – сказал беловолосый молодой человек, перевернул страницу, потом рассмеялся.
Вокруг, кажется, ни единого официанта. В дальнем углу деревянная стойка бара с ободранной внизу ногами краской, три пустых высоких табурета. Чтоб добраться туда, Эндерби пришлось миновать опасного с виду литератора, расставившего перед собой три столика вроде амвона. Он держал в руке ножницы, деловито выстригая полоски из газетных листов, которые затем, хмуро глянув на Эндерби, стал наклеивать, явно в случайном порядке, на клейкий залапанный лист бумаги. Смахивал он на хозяина похоронной конторы или, лучше, на гробовщика: черный костюм, очки в черной, почти квадратной оправе, как рамки некрологов в старых номерах «Панча». Эндерби робко приблизился и сказал:
– Извиняюсь (неплохой американский штрих), но кто-нибудь может?..
– Если, – сказал мужчина, – для вас это не имеет значения, речь идет только о щелке, куда вводятся данные. – Сказано не без любезности, однако усталым, полностью лишенным нюансов тоном.
– Я, собственно, имел в виду собственно выпивку. – Впрочем, Эндерби не хотел показаться невежливым; похоже к тому же, что этот мужчина занимается некой литературой, начиная теперь корректировать лист чернильным фломастером; типа собрата-писателя. – Хотя, думаю, понял, о чем вы говорите.
– Хорошо, – сказал мужчина и забормотал наклеенное и написанное, нечто вроде: – Баланс медленной мастурбации платежных вопросов опаловым трутом порождает замечание по вопросу вторжения зеленого осла и отсрочки фантомов. – И встряхнул головой. – По-моему, ритм ни к черту.
– Собственно, – продолжал Эндерби, – я ищу здешнего официанта. По имени, кажется, Гомес.
Из-за занавески из пластиковых полос разнообразных основных цветов легкой походкой денди вышел мужчина в зеленоватой рубашке, никогда, – в любом случае, на протяжении долгого времени – не снимавшейся и поэтому лоснившейся, как глазурь, с тощими голыми ногами, усыпанными перчинками крошечных дырочек, словно изъеденными жуком-точильщиком. Лицо изношено до костей, волосы грязные, в колтунах. Он известил мужчину с ножницами:
– Вроде бы уже связался по горячей линии.
– Что говорит?
– Муха записывает. Можно узнать, вам кого? – обратился он потом к Эндерби.
– По-моему, насчет Гомеса что-то, – подсказал гробовщик.
– Позже. – Мужчина в глазурованной рубашке поболтал пальцами в воздухе, как в воде. – Нету его, будет un росо mas tarde[103]. – Теперь пианист разрабатывал какие-то старомодные высокие аккорды скрябинской школы. – Сдурел, – заметил болтавший пальцами мужчина.
– Я бы выпил, – сказал Эндерби, – если можно.
– Британец, – кивнул гробовщик. – Так я и думал. Проклятый Богом город кишит британцами, точно вшами. Ползут сюда писать про чай с мисс Митфорд, про розовые сады в уединенном домике приходского священника, всякую белиберду.
– Только не я. – Эндерби издал некий звук, сразу сообразив, что в дешевых романах его бы называли веселым смешком. Значит, номер у него не вышел. – Выпью «Кровавую Мэри», то есть если найдется. – И с бряцанием вытащил несколько дирхемов. Томатный сок питательный; он нуждается в подкреплении.
– «Sangre de María»[104], – пожал плечами мужчина в грязной рубахе, видимо хозяин заведения, направляясь за стойку бара. Эндерби пошел влезать на табурет.
– Барочный стиль, в высшей степени, – заметил он. – Наверно, здесь этот коктейль все так называют. Конечно, не знают английской истории, – испанцы, я имею в виду, – превратили ее в какую-то причуду Крэшо[105], хотя, собственно, стиль Крэшо скроен, как я слышал, по испанскому образцу. Или возьмем статую святой Терезы. По-моему, это она стрелой проткнута. Только это же, разумеется, Дева Мария с кровоточащим сердцем. Дева, понимаете: кровь. Впрочем, одно и то же. Профессора Эмпсона очень интересовала та самая строчка Крэшо, знаете: «Длинный сосок его налит кровью. Значит, мать сына сосала с любовью». Две строчки, я имею в виду. Барокко, в любом случае. – Все, кто не пребывал в наркотическом трансе, смотрели на Эндерби. Он недоумевал, почему так трепещут нервы; надо осторожней, иначе нечаянно можно все выложить. – А ваш Гомес, – добавил он, – по достоверным, полученным мною сведениям, специалист по испанской поэзии.
– Гомес, – объявил гробовщик, – специалист исключительно по причудам собственной прямой кишки.
Мужчина у школьной доски написал дрожащей рукой Всему свой череп. Беловолосый читатель очень серьезно сказал:
– А вот это, по-моему, не дерьмо. Слушайте. – И прочел:
Общество одиноких детей —
Стиляг, хиппи, битников и хулиганов,
Нудистов, пижонов и рокеров, —
Прислушайся к психоделическим откровениям
Свами
[106]
, йогов, йогинь, дзен-буддистов,
Америндейских вождей под пейотом
[107]
.
Восславь космос духа, стряхни с плотской машины
Условно-рефлективный гипноз,
В который ее погрузили Посланцы…
– Но ведь, – неосмотрительно вставил Эндерби, с улыбкой приплясывая с кровавой выпивкой в руке, – стиляг и пижонов у нас больше нет. – В конце концов, для чего-то же он читал «Дейли миррор». – Знаете, опасно пытаться создавать поэзию из эфемерности. Если вы меня извините, на мой взгляд, весьма старомодно звучит. Правда, фактически непонятно, настоящая ли это поэзия. Назад, – улыбнулся он, – к старым временам верлибра. Знаете, люди выкидывают массу фокусов. Перекладывают в стансы каталоги семян. О, очень многие представители soi-disant avant-garde[108] заблуждаются.
Послышалось тихое сердитое ворчание, в том числе, кажется, от мужчины, якобы пребывавшего в трансе. Беловолосый читатель как бы успокаивался с помощью неглубокого ритмичного дыхания. Потом сказал:
– Ладно, дерьмо. Давай твое послушаем.
– Как? Мое? Что вы хотите сказать?.. – Все ждали.
– Тебе вся бодяга известна, – объяснил гробовщик. – Без конца рассуждаешь, как только пришел. Кстати, кто тебя сюда звал?
– Это ведь бар, правда? – сказал Эндерби. – Не частный дом, я имею в виду. Кроме того, дело в Гомесе.
– К черту Гомеса. Выкладывай свое.
Атмосфера сложилась враждебная. Хозяин за стойкой с ухмылкой болтал в воздухе пальцами. Пианист в шестой – восьмой раз играл что-то нарочито глупое.
– Ну, собственно, – начал Эндерби, – я не готовился, когда шел. Впрочем, работаю кое над чем в форме оды Горация. Не слишком далеко продвинулся, всего пара стансов. Вам, по-моему, вряд ли захочется слушать. – Чувствовалось щекочущее волосками сомнение. После всей дребедени про свами с космосом духа. Да, сонет. Да, ода Горация. Может быть, он не совсем современный поэт. Однажды критик написал: «Пристрастие Эндерби к форме сонета доказывает, что истинное его место в тридцатых годах». Ему не особенно нравится молодежь, не очень хочется принимать наркотики. Он предположительно убил основополагающий голос новой эпохи. Но тот самый голос не побрезговал косноязычно промямлить произведения Эндерби и стал за это членом Королевского литературного общества. И Эндерби отважно прочел:
Зоркий глаз горит огнем,
Наблюдает каждым днем
За опасным ростом,
Беззаконным просто.
Лишь младенца восхищает
Пламя, что в печи пылает,
Разрывая черный
Континуум покорный.
Почка взбухнет, лопнет, треснет,
Рак ползет на волю, —
Знать, ему там было тесно, —
На чужое поле.
Кто-то прыснул, выйдя из транса.
– Понимаю, последний куплет, – предупредил трепещущий Эндерби, – нуждается в небольшом продолжении, но, думаю, общая мысль вам понятна. – В смятении взмахнул «Кровавой Мэри», протянул запятнанный стакан (брызги убитого маленького животного на переднем стекле) за другой порцией. Как-то в детстве Эндерби заснул на империале последнего трамвая и проснулся в трамвайном депо. Опозоренный, он заметил, как мужчина в форме со спокойным удивлением на него смотрит, отдавая надлежащую дань дурацкому поступку. Кажется, на него теперь так же смотрят.
– Я стою за форму и плотность, – сказал он. – Модифицированная традиция семнадцатого века. Когда придет Гомес? – Гробовщик перестал резать и клеить, помотал головой с идиотской ухмылкой. Стриженый беловолосый юноша спрятал усмешку в новом тоненьком томике. Громче всех критиковали пребывавшие в трансе, из космоса их душ рвалось громкое прысканье. – Ну, – сказал Эндерби, – начиная сердиться, – а как насчет чертова плагиата распроклятого Йода Крузи?
Некий мужчина вышел, прихрамывая, из-за школьной доски (на которой теперь было очень вульгарно нацарапано Мая страна всиленная) и сказал:
– Я тебе отвечу, приятель. – Абсолютно лысый, но пышно бородатый, он говорил с акцентом, который Эндерби до тех пор ассоциировал только с ковбойскими фильмами по телевизору. – Чистая умозрительность. По-моему. Новые рамки сознания. Не стихи, как таковые, а его взгляд на них. Ну, как будто смотришь говенные красивые картинки с викторианцами, – кадр в кадре. Называется Процесс, старик.
– Мне бы очень хотелось увидеть… – У Эндерби обострялся насморк. Есть ли там набросок сонета про Сатану. И, есть он там или нет, удастся ли держать себя в руках в борьбе с обильно награжденным вором с безобразной ухмылкой?
– С любой страницы, – предложил лысый бородатый мужчина. – В сортирной библиотеке. – И указал за занавеску из многоцветных пластиковых полос пальцем, казавшимся наполовину откушенным; поистине любезный мужчина. – Что касается плагиата, все кому-нибудь принадлежит. Называется Опыт, старик. – И, хромая, вернулся за школьную доску, где теперь было написано Уксус сочится в хваленые сальные железы.
Эндерби с замирающим сердцем пошел к сортиру. В темном коридоре свистел ветер, под ногами горбился линолеум. В каком-то алькове на походной койке под тусклой лампочкой лежал мужчина, за ним другой с блокнотом. Лежавший в наркотическом путешествии посылал сообщения из неизведанного. Позади жуткие ножницы претворяли в вечность газеты. Абсурд полный.
Уборная была маленькой, грязной, но с красным светом типа электрокаминного. Там нашлась куча книг, сильно съеденных плесенью. Эндерби тяжело сел на пустое сиденье, ласково пошевелил книги правой рукой, задыхаясь. Грешный том лежал сверху неподалеку. Под названием «Друзь», с нагло ухмылявшимся изображением псевдоавтора. Производит впечатление шестнадцатилетнего, заметил Эндерби с мрачной усмешкой. Заметил вдобавок слишком много не своих стихов; видимо, воровство многократное, если кое-что не написала проклятая Веста или, как его там, Витгенштейн. Эндерби нашел шесть своих неопубликованных стихотворений, и, благодарение непотребному миру, среди них не было того сонета. Был упомянутый мисс Келли стих под названьем «Сонет» – двенадцать плохих нерифмованных строк, сочиненных, вполне вероятно, самим Йодом Крузи в средней современной школе[109]. Эндерби с содроганием прочитал:
Мама плюхает мне папе Сьюзи на стол
Плюх-плюх глухо звякнувшие соусные бутылки
Сьюзи про себя читает названия
Рот открыла а вслух не читает
Нос же у нее забит как
У этих самых бутылок
«О-Кей», «Эйч-пи», «Эф-Ю» и «Си-Кей»
Я имею в виду красный красный томат
И пока продолжается жарка а папа
Тоже рот разевает на телик
Думаю хорошо бы разбрызгать катсуп или кетчуп
По стенам стряхнуть в их открытые рты
Много было бы красного но без томатного вкуса
– Боже, – сказал Эндерби своему поджавшемуся кишечнику. – Боже боже боже.
Значит, вот до чего дошло, да? И его собственные тонко выкованные вещички осквернены соседством. Он уронил книжку на пол, она оставалась открытой, но резкий сквозняк из-под далеко не плотно пригнанной двери превратил срединные страницы в прямостоящий веер, обнажил краткий стих, и щурившегося в тусклом красном свете Эндерби как бы кто-то стукнул по спине, предлагая на него взглянуть. Кто-то или что-то его подтолкнуло: предостерегающий домовой, живущий, может быть, в сырости в туалетном бачке. Раньше он этот стих не заметил, только стих, Бог свидетель, знакомый. Он поднялся с колоссальным волнением и обеими руками схватил книгу.
Тут дверь открылась. Эндерби посмотрел, ожидая увидеть ветер, но это оказался мужчина. Несмотря на волнение, начал высказывать стандартный протест против нарушенья приватности. Мужчина отмахнулся и представился:
– Гомес.
– Тот факт, что дверь не заперта, никакого значения не имеет. Ну ладно, я все равно уже кончил. – По какой-то растянутости произнесенных слов Эндерби понял, что улыбается. С изумлением ощутил свои губы. Ликование, первая репетиция триумфа. Ибо, Бог свидетель, теперь он их поймал. Держит, как говорится, за шкирку. Но уверен ли, можно ли быть уверенным? Уверен, уверенно можно сказать. Или это просто воспоминание о перспективном издании? Надо проверить, определенно найдется возможность проверить, даже в этой проклятой жаре. Среди писак-экспатриантов должны ж быть какие-то более-менее культурные люди.
– Гомес. Билли Гомес. – Слегка смахивает на грызуна, значит, сразу дернулся Эндерби, возможно, опасен. Но в каком контексте? Гомес всплеснул руками, как мультипликационная мышь в припадке самоуничижения. Он был в грязном белом барменском пиджаке, однако без галстука. И кажется, в теннисных туфлях.
– А. – Внезапно вновь высветилась вторая структурная неотложность. Могучая, как крепостная, увитая плющом башня, она разнесла темноту, обезглавила с медным звоном. – Sí, – сказал Эндерби. – Su hermano[110]. Я хочу сказать, в Лондоне. Mi amigo[111]. Или, лучше сказать, коллега. Он мне что-нибудь прислал? – В том сонете заключен сонет Вордсворта. Ключ превращается в лютню, в фанфару. Он сунул книжку в боковой карман. Тяжесть грязного предательства стала, как ни странно, отточенным орудием мести.
– Пошли. – И Гомес повел Эндерби из уборной по коридору, который привел их к составленным ящикам с пустыми бутылками, потом в какую-то чесночную буфетную, ярко освещенную единственной голой лампочкой. Теперь Эндерби хорошо его разглядел. Волосы рыжие. Правда ли, что он брат темноволосого смуглого Джона? Гомес – гот, может быть, даже визигот, которых немало в Испании, положивших конец иберийской провинции Римской империи. Был у них один епископ, переведший кусочками Библию, только гораздо позже; грубый народ, но весьма энергичный; язык сложностью не уступает латыни; возможно, они заслуживают доверия, скажем, не меньше, чем мавры. Эндерби на всякий случай решил быть очень осторожным.
В буфетной коричневый мальчик в полосатой ночной рубашке резал хлеб. Гомес беззлобно шлепнул его, взял кусок того самого хлеба, шагнул к плите в пятнах горелого жира, макнул кусок в миску с чем-то вроде масла из-под сардин, сложил в каплющий сандвич и съел. Его светлые шныряющие глаза охватывали массу аспектов Эндерби. Мальчик, продолжая нарезать хлеб, сощурил глаза в щелки и не сводил их с левого уха последнего. Эндерби раздраженно сменил позицию. Глаза остались на месте. Наркотики или еще что-нибудь.
– Имя свое назовите, – приказал Гомес.
Эндерби назвал единственный испанский вариант собственного названия в регенерированном барменском качестве. И добавил:
– Он обещал письмо прислать через вас. Una carta. Получили? – Гомес кивнул. – Ну, – сказал Эндерби, – может быть, отдадите тогда? Очень нужные сведения.
– Не тут, – брызнул Гомес слюной. – Скажите, где остановились. Приду с письмом.
– А, – заключил Эндерби с неким удовлетворением. – Понял вашу небольшую игру. – Ему показалось, что он улыбнулся, к своему изумлению, ослепительно: триумф близится. – Может, лучше бы к вам пойти за ним, если можно? Быстрей получилось бы, правда?
Гомес съел весь намасленный хлеб, облизал пальцы, вытащил из мешочка луковицу. Глянул на продолжавшего резать хлеб мальчика, глаза которого вернулись теперь к операции, и как бы смягчился, не стал его шлепать, пусть даже совершенно беззлобно. Наоборот, с усмешкой погладил. Испанская поэзия, думал Эндерби. Предположительно этот мужчина всю ее знает. Можно ли считать знакомство с поэзией, хотя бы номинальное, некой въездной визой в маленький мир предательства Эндерби? Гомес впился зубами сначала в верхушку, потом в хвостик луковицы (Эндерби почему-то вдруг вспомнил, что зуб на языке готов tunthus; впрочем, этот мужчина совсем незнаком с языком своих предков), выплюнул хохолок на пол, содрал кожицу, несколько подкожных слоев плоти, начал хрустко жевать обнажившийся перламутр. Полетели пикантные легкие брызги. Дивный запах. Эндерби понял: надо уходить. Быстро. Гомес сказал:
– Я вечером работаю. Скажите, где живете.
Мальчик перестал резать (кому, так или иначе, черт побери, нужен весь этот хлеб?), провел лезвием ножа по коричневому большому пальцу.
– Это, в конце концов, не имеет значения, – сказал Эндерби. – Спасибо за помощь. Или, может быть, в данном случае за отсутствие помощи. Так или иначе, muchas gracias[112]. – И вышел, звякая валявшимися в темном коридоре бутылками. Гомес крикнул вслед что-то, заканчивавшееся на hombre. Эндерби прошел мимо мужчины на койке, пребывавшего в мире ином, и сидевшего рядом с ним личного секретаря, пишущего под диктовку. Потом грудью раздвинул пластиковые ленты, слепо заморгал в баре. Там появился новый мужчина, очевидно шотландец, поскольку говорил «маленечко трудновато». Мужчина у школьной доски только что написал Жаркие кухни осла. Салями, подумал в смятении Эндерби, салями делают из ослятины. Бело-стриженый юноша декламировал:
Из космоса души архангелы трубят,
Либриум, Парстелин, Триптизол, Маджептиль, Пертофран,
И звучит серенада на всех ее спутанных струнах.
Романтика, рассеянно подумал Эндерби, лучше всей прочей белиберды. Вспомнив об украденной в сортире книге, быстро сунул руку в карман. Трясущийся молодой человек в темных очках отпрянул, выставил перед собой ладони в ожидании выстрела. Эндерби всем улыбнулся, считая, что у него имеются подходящие основания для улыбки, даже в столь затруднительном положении. Только нет еще, не сейчас. Он жаждал закрытого уединенного места типа уборной, но долг, издав щелчок, вроде таблички «занято», напомнил о себе. Гробовщик не улыбнулся в ответ. Трясущийся молодой человек опомнился, как бы давая понять своей маниакальной ухмылкой, что все это просто шутка. Эндерби придержал книжку в кармане, точно она могла оттуда выскочить. Прочь. Прочь. В ветреную марокканскую ночь.
На медленном пыхтящем подъеме то и дело приходилось резко останавливаться, прислонясь в темноте к какой-нибудь стене, прислушиваться и присматриваться, проверять, не идет ли преследование. Трудно было сказать. Кругом полно мавританских мальчишек, одним из которых вполне мог оказаться тот самый резчик хлеба, хотя никто вроде бы не таился: фактически, один откровенно писал в канаву (впрочем, это, возможно, хитрая уловка), другой приветствовал пожилого, опрятно одетого мавра, шедшего под гору, потом побежал за ним, плачась на определенные осложненные горести, но не удостаиваясь внимания. Эндерби шел мимо грязных кофеен, потом на углу улицы наткнулся на жарко спорившую компанию, видимо, нищих, с тощими, но сильными голыми ногами под свивальниками, в обтрепанных европейских пиджаках, сплошь в тюрбанах; немного с ними постоял, как можно лучше вглядываясь сквозь энергичные жесты. Кажется, все в порядке, никто не преследует, он ушел от предателя Гомеса. Два предателя Гомеса. Чертов Джон в Лондоне, в конце концов, и есть гад поганый, каковым Эндерби его всегда считал. Он сначала наполнил легкие, словно пес, бегущий к дверям, чтобы гавкнуть, потом свернул налево на горку покруче. На полпути наверх стоял очень шумный кинотеатр с каким-то, как явствовало из рекламных плакатов, египетским фильмом (неискренне улыбчивый герой типа полковника Насера). Эндерби себя почувствовал как бы под защитой всего этого шума, производимого главным образом публикой. Ковырявший в зубах молодой человек в темной одежде в окошечке кассы посмотрел на него. Должно быть, администратор.








