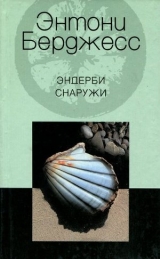
Текст книги "Эндерби снаружи"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– Свинья, – молвил Эндерби, пока Роуклифф пил. – Грязный предатель и извращенец.
Роуклифф вынырнул из стакана. Лицо его пошло пятнами. Он поднял на Эндерби за стрекозиными выпученными очками глаза, не менее бескровные, чем губы, и сказал:
– Я прощу вам последнее оскорбление, Эндерби, – сказал он, – если вы имеете в виду чисто любовное извращение. – Словно на реплику с кухни явился негроидный официант в феске, прислонился к дверному косяку, с каким-то любовным ужасом глядя на Роуклиффа. – Ну-ну, мой черный красавчик, – проворковала ошкуренная гортань последнего. – Там есть кто-нибудь? Quién està comiendo? – Голова его дернулась в сторону обеденного зала.
– Nadie[128].
– Закрывай чертово заведение, Мануэль, – прокашлял Роуклифф. – Закрываемся до дальнейшего уведомления. Чертовы baigneurs и baigneuses[129], сплошь жирные и прыщавые, Эндерби, пускай делают главное дело в посудомойке. – Мануэль заплакал. – Прекрати, – велел Роуклифф с тенью резкости. – Что касается, – вновь повернулся он к Эндерби, – грязного предателя, я не совершил ничего противоречащего Закону о государственной тайне. Чудовищная насмешка – посылать вас сюда в качестве шпиона, или еще кого-то. Ваш макияж смешон. Похоже на крем для обуви. Скипидар найдете на кухне.
– Относительно меня, – пояснил Эндерби. – Ты меня предал, гад. Разжирел на моем украденном и подделанном творчестве. – Жалость моих нимф убила. – Метафорически разжирел, я имею в виду.
– Разумеется, мой милый Эндерби. – Роуклифф прикончил бренди, попробовал кашлянуть, но не смог. – Лучше. Хотя чистый паллиатив. Так вот из-за чего вы взбесились, да? Мой мозг одурманен, то есть то, от него оставшееся, что еще не пожрал вторгшийся ангел. Не пойму, зачем вам вообще понадобилось вот так вот одеваться, чтобы мне сообщить, будто я метафорически разжирел на чем-то там вашем. – Его вдруг одолела сонливость, потом он встряхнулся. – Закрыл уже чертову дверь, Мануэль? – попытался он крикнуть.
– Pronto, pronto[130].
– Довольно долгая история. – Эндерби не видел возможности избежать извинений. – Понимаете, я прячусь от полиции, Интерпола и прочее. – Он сел на стул из составленной груды.
– Устраивайтесь поудобнее, милый мой старина Эндерби. Выпейте. Вид у вас тощий, голодный. На кухне спит Антонио, бывший весьма сносный мастер быстрой готовки. Мы его кликнем, разбудим, и он, распевая от всего своего не слишком заслуживающего доверия андалузского сердца, свалит вас с ног собственным вариантом жаркого ассорти. – Он попробовал кашлянуть горлом, но ничего не вышло. – Лучше. Мне лучше. Должно быть, в вашем присутствии, дорогой старина Эндерби.
– Убийство, – объявил Эндерби. – Разыскивают за убийство. Меня, я имею в виду. – И не смог удержаться от минимальной самодовольной ухмылки. Вулвортские часы громко тикали. Солнце, как бы в последнем отчаянном выдохе, озарило огнем, хрусталем полки с бутылками за стойкой бара, а потом зашло. Нависшие тучи сдвинулись ниже. Купальщики бежали к солярию Роуклиффа за ключами и одеждой. Мануэль там кричал им, болтая ключами:
– Cerrado. Fermé. Geschlossen[131]. Закрыто проклятое заведение.
– Как будто что-нибудь из покойного дорогого бедняги Тома Элиота, – сказал Роуклифф. – Ему всегда нравился тот мой стишок. Ну, вы помните, который во всех антологиях. Теперь дождь прибьет нашу пыль. Не найти больше убежища в колоннаде и солнца в Хофгартене. – Казалось, он готовился распустить слюни.
– Убийство, – твердил Эндерби, – вот о чем мы говорили. Я хочу сказать, что меня разыскивают за убийство.
– Будь чист перед жизнью и смертью, – изрек Роуклифф, нашаривая грязный носовой платок в многочисленных наружных пиджачных карманах. Поднес его обеими руками к лицу, слабо откашлялся, продемонстрировал Эндерби сгусток крови. – Лучше вверх, чем вниз, наружу, чем внутрь. Итак, Эндерби, – продолжал он, заворачивая, как рубин, и старательно сберегая сгусток, – вы предпочли фантазийную жизнь. Спасительная видимость. Не скажу, чтобы я вас за это винил. Реальный мир абсолютно ужасен, когда дар уходит. Я-то знаю, помоги мне Бог.
– Он ушел и вернулся. Дар, я имею в виду. А потом, – сказал Эндерби, – в тюрьме буду писать. – Положил ногу на ногу, почти полностью демонстрируя европейские брюки, и почему-то светло улыбнулся Роуклиффу. – Смертной казни больше нет, – добавил он.
Роуклифф трясся и трясся. От злости, с изумлением понял Эндерби.
– Не говорите мне о смертной казни, черт побери, – трясся Роуклифф. – Природа сама наказывает. Я умираю, Эндерби, умираю, а вы тут болтаете про писание стихов в тюрьме. Я возражаю не столько против смерти, сколько против распроклятого неприличия. Нижнее белье сплошь в дерьме, черт возьми, и записано насмерть, воняет. Вонь, Эндерби. Чуете дурной запах?
– Я привык к дурным запахам, – извинился Эндерби, – при таком образе жизни. Вы пахнете ничуть не иначе, – принюхался он, – чем тогда в Риме. Проклятый предатель, – с жаром добавил он. – Украли мою поэму, черт возьми, и распяли ее.
– Да да да да. – Роуклифф как бы снова устал. – Наверно, во мне всегда шел какой-то процесс разложения. Ну, теперь уж недолго. Не стану отравлять ни землю, ни воздух. Пусть меня примет море. Море, Эндерби, thalassa[132], la belle mer. Провидение, в каком бы обличье оно ни было, прислало вас, в каком бы обличье вы ни были. Ведь как ни милы часто мальчики в мои весьма вонючие, однако, истинные времена бабьего лета, им нельзя полностью доверять. С моей кончиной скучающие фагоциты просто скушают – ням-ням-ням – кусок органической слизи, Эндерби, посмертное воспоминание о моей просьбе не подвигнет их на ее исполнение. О нет, святители небесные. Но это с полной уверенностью можно поручить вам, собрату-англичанину, собрату-поэту. – Слышалось, как парни на кухне от души чмокают средиземноморскими губами, реже доносилось более изощренное звяканье вилки о тарелку, магрибская беседа, прорвавшийся сквозь чавканье смех. Вообще нельзя доверять. Уже падал дождь, и Роуклифф, как бы довольный свершившимся запуском сложного экспериментального процесса, кивнул. Эндерби вдруг осознал, кто это ему кивает: Роуклифф.
– Роуклифф, – сказал он, – сволочь. Я здесь не затем, чтобы что-нибудь для тебя, для такой сволочи, делать. Ты будешь убит. Как осквернитель искусства, проклятый предатель. – Заметил, что все так же сидит, удобно положив ногу на ногу. Принял более агрессивную позу, напряженно обхватив руками колени, хотя сидел спокойно. Кажется, обувной крем сходил вместе с потом, оставляя полоски. Лучше по этому поводу что-нибудь сделать, прежде чем убивать Роуклиффа.
– Если вы меня убьете, – заметил Роуклифф, – то окажете очень большую услугу. В «Таймс» будет маленький некролог. Вспомнят ранний триумфальный стишок; как знать, может быть, перепечатают. Что касается оружия, в буфете за стойкой есть служебный револьвер для охраны денежной кассы. И ножи для мяса у нас очень острые. Или скормите мне пятьдесят капсул снотворного, одну за другой. Ох, мой милый Эндерби, не будьте таким распроклятым занудой. Дайте мне искупить вину естественным образом, чтоб вас разразило.
– Это несправедливо, – забормотал Эндерби. – Я имею в виду правосудие. – Он имел в виду, что с полным основанием ждет пожизненного приговора, а вместе с ним немного покоя и мира. – Я имею в виду, если меня возьмут, пусть уж лучше за что-то реальное. – А потом: – Я не это имею в виду. Я имею в виду, и за курицу, и за яйцо. Слушайте, я, в конце концов, выпью.
– Лучше, Эндерби, гораздо лучше. Там за стойкой добрая бутылка «Стреги». Помните краткие солнечные дни, когда мы пили «Стрегу» у Тибра? Вы сказали бы, дни предательства. Я был единственным предателем? – Он с неожиданным оживлением сел. – Передайте-ка вон ту бутылочку с суррогатом жизни, милый Эндерби. «Кордон блю», синий кордон перед царапающейся когтистой толпой жаждущих моей крови. Пускай обождут, правда? Сначала нам с вами надо кое о чем позаботиться. – Эндерби пошел к стойке, сунул бутылку трясущемуся Роуклиффу, в любом случае, не желая наливать извращенцу, потом стал рассматривать другие бутылки, растерявшись перед выбором. – Не получилась семейная жизнь, правда, Эндерби? Не создан для супружества, не создан для убийства. Расскажите мне все. Нет, постойте. Милая тетушка Веста. Вышла теперь за какого-то хитрого левантинца в очень хороших костюмах. Только, знаете, на самом деле она проиграла, несмотря ни на что, проиграла. Ни в чью биографию ей никогда не попасть, бедной сучке. Вы замечательный человек, Эндерби. Знаете, про их брак все газеты трубили. Какая-то свадебная поп-месса была, или что там еще. Хореография вокруг алтаря, вынесенного по такому случаю на авансцену. Куча чертовой экуменической белиберды.
– Именно это, – ворчливо пробормотал Эндерби, – я и говорю. Не в этой связи. В другой, я имею в виду. Я священника имею в виду. В день происшествия. – «Фундадор». Не слишком плохая выпивка, несмотря на чертову луну. Роуклифф звякал, звякал, наливая себе, потом выпил. Эндерби, стыдясь своей спокойной координации, налил профессионально, как истинный бармен. – А произошло вот что, – сказал он, прежде чем выпить. – Олух пулю получил, то есть Крузи, и кто-то пистолет сунул мне в руку. Понимаете, я убежал. Вы бы то же самое сделали.
Роуклифф нахмурился, резко поднес к губам стакан, разбрызгивая и проливая коньяк, всосал, задохнувшись, доброе количество.
– Давайте-ка проясним, Эндерби, – выдохнул он. – Я газеты читаю. Больше ничего не читаю. Понимаете, привязан к жизни. Я хочу сказать, к эфемерной, прискорбной, прекрасной, ужасной, трагической повседневности, а не к трансцендентности высокого искусства. С вечностью я уже скоро встречусь. Буду слушать камерную музыку, не трудясь спускаться в глубины, битком набитые потеющими под звуки бараньих кишок. Или там не будет ничего, как у Сэма Беккета. Я читаю газеты – собаки, курящие трубку, невесты с обнаженной грудью, убийства поп-певцов. Про Йода Крузи все знаю. Умирает, скоро умрет. Возможно, мы умрем в один день. В каком-то смысле было бы удачно. Бармен его подстрелил. Фамилию не помню. Постойте-ка, что-то свинячье.
– Хогг, – нетерпеливо подсказал Эндерби. – Хогг, Хогг. – Явился молодой человек с бельмастыми глазами, в фартуке, должно быть повар Антонио, встал у кухонной двери, ковыряя в зубах птичьим пером, озадаченно хмурясь на внешний вид Эндерби. – Хогг.
– Точно. Значит, вы тоже читали газеты. Знаю, фамилия поэтическая. Был такой очень типичный поэт при короле Якове. Вновь любуюсь я, Чарли, тобой, милым мальчиком. Чем еще угостить короля, как не махоньким немчиком. Нравится мне этот «махонький». Он говорит открыто, Эндерби. Ему абсолютно плевать.
– Слушайте, – прошипел Эндерби, выходя из-за стойки со стаканом «Фундадора». – Это был я. Хогг. Фамилия моей матери. Меня сделали барменом. Уопеншо и все прочие. Да, да, да. Говорят, полезный гражданин, больше не поэт. Вы не знали, и никто не знал. Об этом никогда не писали в газетах. – Теперь Роуклифф полностью окостенел, вытаращив глаза. – Но, – продолжал Эндерби, – я бежал. Как Эндерби. У меня паспорт был. А потом проклятая женщина разузнала, что Эндерби и Хогг одно и то же. Поэтому от паспорта пришлось избавиться. История, собственно, долгая. – Он хлебнул «Фундадора», снова почувствовав вкус той ночи с чертовой женщиной. Распроклятая женщина.
– Возможно, возможно. Но, – сказал Роуклифф, – ведь ищут мужчину по имени Хогг. – Эндерби перенял у Роуклиффа окостенение и вытаращенные глаза. – О да. Ничего не говорится о возможности бегства под другой фамилией. Таинственное исчезновение малоизвестного незначительного поэта – ничего подобного. Никто не проболтался, милый мой Эндерби.
– Она должна. Называет себя селенографом. Полиция рыщет в Марокко. Я прячусь. А там еще Джон-испанец.
– Да-да-да, – утешительно проворковал Роуклифф. – Мир полон предателей, правда? Но скажите мне, Эндерби, зачем вы его застрелили?
– Он заслужил пулю. Плагиатор. Извращает искусство. Украл мои стихи. Точно так же, как вы.
– Ох, ради бога, – с подчеркнутой усталостью вздохнул Роуклифф, – прекратите. Всех перестреляйте. Расстреляйте весь чертов предательский мир, потом встаньте за стойку бара, пишите свой бред собачий, полный жалости к себе, черт побери.
– Собачий бред, – усмехнулся Эндерби. – Это вы, настоящая сволочь, называете мои сочинения собачьим бредом?
– Впрочем, стойте, стойте. Разве вы не сказали, что вовсе не убивали его? Будто кто-то вам сунул в невинную руку дымящийся пистолет? Похоже на кинокадры с дымящимся пистолетом. Спагетти-вестерн. Меня заставили писать, Эндерби. А я вывернулся. Неплохо справился с «L’Animal Binato». Чертовски хорошая ваша идея. – Он, встряхнувшись, вернулся к насущной проблеме: – Вы не убийца, Эндерби, будьте уверены. Даже не предопределенная жертва. Вы увернулись от настоящего разящего удара с помощью деформации времени, искаженья пространства, еще чего-нибудь. И упали на лапы. Вам, конечно, придется переименовать «Акантиладо Верде».
– Что?
– Зеленый утес, невозделанный[133]. Кто-то стоит на вашей стороне. Кто? Вы стоите, нелепый, но полный жизненной силы. И тетушка Веста побеждена, и бедный Роуклифф умирает. Чего вам еще нужно? Ох, да. Я продиктую письмо в Скотленд-Ярд – у меня в спальне за баром есть старый конторский «Оливер», – и сознаюсь во всем. В конце концов, Эндерби, я легко мог это сделать. Даже приглашение получил. Я ведь, в конце концов, тоже был великим мастером жидкого искусства, достойным приглашения. Был как раз в Лондоне, обменивался рукопожатиями с последним своим консультантом. Он был очень серьезен. Готовьтесь к встрече с Богом. Вернее, с богиней. Да-да-да, подражатели, разбавители и пародисты заслуживают смерти. – Эндерби хмурился, не уверенный, то ли все это пьянство, то ли начало предсмертного бреда. Роуклифф закрыл глаза, уронил голову, ширинка его потемнела, потом с нее закапало. Эндерби увидел бармена, официанта, повара, сгрудившихся в кухонных дверях с разинутыми ртами.
– В постель его уложите, – скомандовал он. – Ну, быстро. – Антонио перекрестился, по-прежнему с птичьим пером в зубах. Мануэль и официант в феске схватили Роуклиффа за подмышки. Роуклифф смутно стонал. Эндерби взялся за ноги, вспомнив, что это уже было. В Риме, в медовый месяц. Теперь Роуклифф был легче тогдашнего. Антонио указал, где находится спальня. Дождь немного утих.
3
– А вы, значит, из его друзей? – спросил доктор. – Не знал, что у него есть и британцы. – И взглянул на Эндерби без особого расположения, несмотря на вставленные на место зубы, розоватую выбритость (снять тот самый коричневый крем было трудно, растворители доставляли страдания), редкие, но вымытые и причесанные волосы, серьезные очки, ловившие бледный после дождя танжерский свет. Вдобавок на Эндерби был один из неогеоргианских костюмов Роуклиффа, серый, волосатый, довольно широкий в подмышках. Три парня, которые, ближе знакомясь с Эндерби, делались все прыщавее и манерней (к официанту в феске добавилось также имя – Тетуани, в честь его родного города Тетуана), помогли с реставрацией. Даже соорудили ему нечто вроде постели из каминного кресла и двух-трех складных стульев. Кажется, они с облегченьем восприняли присутствие рядом неумирающего англичанина.
– Не в том смысле, – сурово заметил Эндерби. – Как бы друг, но не в том смысле, в каком вы имели в виду.
– Что вы имеете в виду, в каком смысле я имел в виду? – Доктор, высокий мужчина с прямой осанкой, лет шестидесяти пяти, с массой серебристых волнистых волос, напоминал военного врача, который при возвращении на родину отличившегося гарнизона предпочел остаться. Место понравилось, или еще что-нибудь. А может быть, свои тайны; темные дела. Слишком уж резковато он бросил «что вы имеете в виду».
– Вы знаете, что я имею в виду, – вспыхнул Эндерби. – В любом случае, с сексом покончено, – пробормотал он, неловко, плохо себя чувствуя с докторами.
Словно это заявление служило разгадкой личности, доктор спросил:
– Я где-то вас раньше видел?
– Наверно, на снимке в газете. Или, скорее, – поспешно поправился Эндерби, – на снимке, как мне говорили, очень на меня похожего мужчины. По фамилии Хогг.
– Не знаю. Никогда газет не читаю. В основном куча лжи. Что касается секса, меня это направление человеческой деятельности нисколько не интересует, пока люди ко мне не являются с жалобами на последствия. Вот он, – сказал доктор, поводя плечом в сторону Роуклиффа, лежавшего под одеялом со слабым храпом, – предпочитал больных, грязных. Впрочем, вам это, конечно, известно, как другу. Nostalgie de la boue[134], если вы понимаете, что это значит. Хотя подобная смерть может каждого ждать. Вас, – пояснил он, – вашу тетушку, старую деву, в Чичестере, или где там еще.
– У меня нет никакой…
– Он весь изрешечен болезнью, которая не взирает на лица. Можно только облегчить конец. Если угодно, сейчас расплатитесь со мною за шприц и морфин. А также за эту и две предыдущие консультации. Вызовите меня, когда сочтете, что он умер. Выпишу свидетельство о смерти.
– Тело, – вставил Эндерби. – Дело в том…
– Он наверняка поступил так, как все здешние британцы. Фунтов пятьдесят за место у святого Андрея. Похоронная служба, воскрешение, жизнь и так далее. Впрочем, он мне однажды рассказывал, будто по убеждению был гедонистом. Значит, цель жизни – удовольствие. Весьма неразумно, смотрите, куда это его привело.
– Но вы говорили, так может случиться…
– Его следовало бы похоронить в Бубане. Рискну сказать, произнесут несколько слов над могилой. Как правило, кто-то приходит из консульства. Предоставляю все это вам.
– Послушайте…
– Обычно я беру наличными. Из кассы. – Он проследовал вперед Эндерби в бар, и, кивнув Антонио и Мануэлю, игравшим в скрэббл[135] по-испански, взял, кажется, сорок пять дирхемов.
– ELLA.
– ELLAS[136].
– Он говорит, хочет быть брошенным в море, – объяснил Эндерби. – Это записано, подписано и засвидетельствовано. Чтоб его в море бросили. Есть какой-нибудь закон против этого?
– Дьявольски нехорошо, – заявил доктор, плеснув себе глоток «Белла». – Все надо делать подобающим образом. Я себя часто спрашиваю, что подумают здесь о белом человеке. Педерастия, если это понятие вам знакомо, пьянство. Наркотики и сочинительство. Вы здесь новичок, поэтому не знаете половины того, что творится. Держитесь подальше от собачьего заведения с глупым названием через дорогу. Американцы наихудшего сорта. Ну, autre temps autre mosurs[137]. Надеюсь, переводить не надо. Предоставляю все вам, его другу. Не забудьте мне звякнуть, когда придет время.
– Энби, – очень слабо вымолвил Роуклифф.
– Лучше пойдите взгляните, чего ему надо. Не волнуйте его. Он теперь в ваших руках.
– Слушайте…
– DIOS.
– ADIOS[138].
– По-моему, можно сказать, сам по себе стишок, – заключил доктор. И смачно допил «Белл». – Ну, оставляю поэзию вам и вам подобным. Мне теперь надо идти.
– Что вы имеете в виду…
– Энби. – Роуклифф страдальчески всосал несколько дополнительных чайных ложечек воздуха, чтоб усилить призыв. Доктор без всякого сострадания вышел. – Пррр, Энби. Сюда.
Эндерби вернулся в комнату больного, маленькую, но прохладную. Постель Роуклиффа представляла собой двуспальный матрас на потертом бухарском ковре; по всему полу были разбросаны местные козьи шкуры разных степеней бывшей белизны; были тут дешевые побрякушки с базара – рука Фатимы; кобра, собственно, стальная пружина, которая при касании пульсировала, прыгала и громыхала на мавританском кофейном столике; берберское седло, кальян, кривые турецкие сабли, кинжалы на стенах. Одна стена целиком заставлена книгами в армейских ящиках из-под боеприпасов, отведенных под книжные полки. У Эндерби еще не было времени рассмотреть эти книги: среди них вполне может быть экземпляр… Запах умиравшего Роуклиффа боролся с курительницей фимиама и разбрызганной из аэрозоли лаванды.
Роуклифф, голый под одеялом, сказал:
– Брнди. Оольше.
– Он говорит, вам морфин нужен, – тревожно возразил Эндерби. – Алкоголь, говорит, не помогает от боли.
– Неси. Нхч гврть. Брнди.
Эндерби постарался ожесточиться сердцем: предатель, клеветник, разбавитель, грешник против литературы. И пошел за новой бутылкой «Кордон блю». Справится Роуклифф с лимонадным стаканом?
– САСА.
– CACAO[139].
Рядом со стальной коброй стояла фарфоровая миска. Эндерби налил в нее коньяку, сел на постель Роуклиффа и помог ему выпить. Роуклифф брызгал, кашлял, пытался сказать «Иисусе», однако, по оценке Эндерби, принял около пятикратной барменской дозы. Однажды в «Поросятнике» он наливал подобную порцию министру кабинета: около тридцати шиллингов налогоплательщиков.
– Лучше, Эндерби, гораздо лучше. Письмо на почту отнесли? Задерживаются иногда по дороге, бездельники. Впрочем, в целом хорошие. Полная задница здравого смысла. Как сказал доктор Джонсон[140] или еще кто-то, Эндерби.
– Это о женщине сказано.
– О женщине? Ну, конечно, больше по вашей линии, да? Боже боже боже боже, проклятая боль. Надо постараться представить проклятую чертову боль где-нибудь в другом месте. Тело – не я. Не особо существенно. Только, Господи Иисусе Христе, в мозгу есть горячая линия. Обрежь нервные окончания, разве это по-прежнему я, когда все обрезано? Психоневрологический парал парал параллелизм изм. До войны было весьма популярно. Новая аморальность.
– Вот морфин, – сказал Эндерби.
– Больше по вашей линии. Впрочем, две линии, горячая и холодная. Солнце и луна. Луна над вами не властна, Эндерби. Я согрешил против Музы, женщины до мозга костей, и она отомстила. Теперь я приношусь ей в жертву. Но она будет частично обманута, Эндерби. Новая луна вот-вот явится. Только на востоке есть воды, которые неподвластны приливу. Бросьте внешнее тело в неподвластные приливу воды, Эндерби. Еще бренди.
– Вы думаете…
– Да, думаю. Расскажу. Дам инструкции. – Эндерби налил в миску еще коньяка. Праздничная пьянящая золотистая жидкость как-то непристойно выглядела в болезненно бледном фарфоре. Роуклифф оживленно сосал. – Есть один человек по фамилии Уокер, Эндерби. Полезный. Колониальный британец. Точное местонахождение на земле неизвестно. Сейчас в Касабланке. Свяжитесь, номер телефона за стойкой бара. Он знает, как раздобыть небольшой самолет, одолжить у Абдул Карима или у другого чертова мошенника, кем бы он ни был. Чертов мошенник. О чем это я? Немножечко путаюсь, вот в чем проблема. Голодный желудок, вот в чем проблема.
– Я этого Уокера знаю. Называется Изи Уокером. Можете что-нибудь съесть? – добавил потом Эндерби. – Яйцо, или там я не знаю.
– Не ваше дело поддерживать во мне жизнь, правда, Эндерби? Зачем мне есть, черт возьми? Слушайте. Деньги вот тут, в матрасе. Ради Христа, присмотрите, чтоб никто его не сжег. Не скажу, будто банкам не доверяю, Эндерби. Я банковским мошенникам не доверяю, Эндерби. Болтает, болтает, болтает, сколько у него есть, потом взаймы просит, потом избивает тебя в переулке, если не получает. Я их очень хорошо знаю. Вы их очень хорошо знаете. Изи Уокера знаете. Я всегда говорил, что вы падаете на лапы, Эндерби. Позовите Антонио, черт побери.
– Зачем?
– Пусть гитару захватит. Послушать хочу. Услышать. Во всех антол. Он его поет.
Эндерби вышел в бар и сказал:
– Antonio, Señor Rawcliffe quiere que tu, usted canta, cante, где-то тут сослагательное наклонение, как его там. Su cancion, él dice[141].
Антонио с Мануэлем подняли головы от доски для скрэббла, уже почти заполненной словами, глаза их были готовы заплакать. Эндерби вернулся к Роуклиффу.
– Насчет письма в Скотленд-Ярд, – сказал он. – Добра никакого не принесет. Наверно, таких писем много. – Куда бежать, куда? Он ведь смирился, правда? Но считал тогда себя способным убить Роуклиффа.
Глаза Роуклиффа были закрыты. Он вновь начал храпеть. Слабо корчился телом. Потом энергично очнулся и серьезно медленно проговорил:
– Вы понятия не имеете, черт побери, о проклятой агонии. Даже не представляете. Не позволяйте ей долго длиться, Эндерби.
– Морфин?
– Бренди. Инсульт мозга. Бедный Дилан. Сделайте милость, убейте меня, черт возьми.
Эндерби снова наполнил миску со вздохом. Вошел с плачем Антонио, трогая струны.
– Пой, чтоб тебя разразило, – велел Роуклифф, прыская коньяком, запах которого быстро одолевал его собственный.
Шмыгая слезами, Антонио сел в берберское седло, провел большим пальцем с нижнего ми до верхнего. Гитара совсем старая; Эндерби видел потертость от барабанивших в андалузском стиле по корпусу пальцев. Антонио взял дрожащий мажорный аккорд, как бы утверждающий жизнь вместе с запахом коньяка (солнце, сапатеадос[142], смерть среди белого дня). И гнусаво запел:
Он зказал: «Неузели вам нузен трухой,
Мозет, мне лудше уити дог да».
Она не зглянула, не зтала кивать холовой,
Не зказала ни нед, ни да.
– Во всех антологиях, – крикнул Роуклифф, потом начал кашлять и кашлять. Антонио не стал продолжать. – Заткни его, смерть, в свою чертову задницу, – послабей сказал Роуклифф, когда муки стихли. – Exegi monumentum[143]. А вы, Эндерби? – Голос его так ослаб, что Эндерби пришлось наклонить ухо. – Лучше быть автором одного стиха, старина. А потом она меня бросила. Открыла творческие небеса и закрыла. Ладно, Антонио. Позже, позже. Muchas gracias. – Антонио высморкался в поварской фартук. – Почитайте мне что-то свое, Эндерби. Вон где-то там ваши тощие томики. Я в конце концов купил ваши книги. Самое меньшее, что мог сделать. Не так уж я плох.
– Ну, собственно, вряд ли… Я имею в виду…
– Что-нибудь подходящее. Об умирающем или умершем.
Эндерби мрачно ощупал свой левый пиджачный карман. Сунул глубже украденный ужас.
– Я, – сказал он, – и без ваших полок могу.
Впрочем, вот, наконец, – сердце, как бы притворно хромая, запрыгало, – шанс проверить. Тетушка Веста. Он шагнул через спрятанные ноги Роуклиффа к стенке с книгами. Куча дешевой белиберды: «Бамбой», «Забавы мистера Веста», «Бичеватель». Показался по размеру и форме экземпляр своего сборника «Рыбы и герои», но это оказался небольшой альбом глянцевых фотографий: трудолюбивые мужчины и мальчики с идиотскими глазами. Но вот другой том, который сурово разбранили критики: «Круговая павана». Эндерби листал и листал страницы. Их было немного. И вот.
– Хорошо, – сказал он.
Роуклифф снова закрыл глаза, по почуял, что Эндерби улыбается. И сказал:
– Рады, да? Радость творца? Нашли что-то, напомнившее настоящий экстаз сочинительства. Не обостряйте мою агонию. Читайте.
– Слушайте.
Эндерби старался читать грубовато, но стих в его исполнении звучал гнусаво, будто какой-нибудь умный зеленый ребенок изображал эмоции взрослого:
Казалось, что все это видится в скобках —
Только голое утверждение помнится,
Не добавляя смысла и соли сентенциям робким,
Не пробуждая того, кто спит на ходу, спотыкается, —
Поэтому пусть занимают незанятые места,
Допивают свой кофе, завершают споры,
Сдергивают со знакомых крючков пальто
И уходят под дружеские довольные взоры.
Только нитка сплетается с ниткой, как хлебная ткань,
Это сами они и их время…
– О боже боже, – крикнул вдруг Роуклифф. – Безобразная адская бездна не разверзается, Люцифер не идет. – И забормотал: – И если вечность обретает свой лик в преходящем, там они отыщут свой ад. – Резко вскрикнул, лишился сознания, голова его упала, язык высунулся, кровь потекла из левой ноздри. Гитара Антонио тихо наложила одну на другую четвертушки «собачьего вальса», когда он ее положил, перекрестился и начал плаксиво молиться. – Колите, Эндерби, ради Христа. – Эндерби опешил: проверка, может ли он в самом деле убить? – Побольше колите. – Тут он понял и пошел к кофейному столику за шприцем и ампулами морфина в коробке, надеясь, что справится. Типы из Псиной Тошниловки наверняка справились бы.
4
Отключился Роуклифф ненадолго. Была в нем, несмотря ни на что, могучая жизненная сила.
– Бренди, – сказал он. – Я уже всех побил, Эндерби. – Эндерби налил миску: бутылка подходила к концу. Роуклифф выпил, как воду. – Что нового? – спросил он. – Какие безобразия творятся в большом мире?
– Никаких, насколько я понимаю, – сообщил Эндерби. – Но у нас только испанская газета, а я не совсем хорошо читаю по-испански.
Впрочем, вполне достаточно. Вернувшийся после отправки авиаписьма Тетуани принес с собой номер «Эспанья», который Эндерби взял с собой в бар за столик. Роуклифф был без сознания, хотя жутко храпел из глубины подкорки. Эндерби сел с большой порцией виски, профилактически дыша свежим воздухом из открытого окна.
– Quiere comer?[144] – спросил Антонио.
Эндерби покачал головой, он ничего сейчас есть не может, пока; тем не менее, gracias. Выпил выпивку и просмотрел газету. Лучше не по-английски прочесть то, что он непременно прочтет: несмотря на предвидение, необходима подстилка из иностранного языка, со всеми его литературными и туристическими ассоциациями. Слова обладают собственной силой: смерть всегда страшное слово. Каудильо на первой странице по-прежнему вопил про Скалу; какой-то арабский лидер тщетно требовал уничтожить Израиль. Увидав заголовок на второй странице YOD CREWSY MUERTO, он среагировал, как наборщик, сам этот текст набиравший. Счет, скажем, 10: 2, надо ждать, скажем, десять минут до расслабляющего финального свистка. Под заголовком краткое сообщение. Говорилось, насколько мог судить Эндерби, что он на миг открыл глаза, после чего перешел в последнюю стадию комы, и вскоре исчезли дальнейшие признаки сердечной деятельности. Где-то пройдут какие-то похороны, потом заупокойная месса в католическом соборе в Лондоне (имеется в виду Вестминстер). Брат О’Мэлли произнесет панегирик. Ничего не сказано о девушках, рыдающих, как над Осирисом, Адонисом, или кем там еще. Ничего насчет Скотленд-Ярда, ожидающего немедленного ареста.
– Вообще ничего, – констатировал Эндерби.
Что сделает Скотленд-Ярд с письмом Роуклиффа? Эндерби его сам печатал двумя пальцами под диктовку Роуклиффа. Сказал, ничего хорошего не выйдет, но Роуклифф настоял. Каюсь, увидев свет; символический удар по антиискусству. Гость (смотри список гостей), пришедший с абсолютно хладнокровным намерением убить, а потом подвергнуться аресту, – чего ему терять, умирая в жестоких когтях? – инстинктивно поддался панике и сунул пистолет неизвестному официанту. Он не жалеет, о нет, далеко: так погибнут все враги искусства, включая (только он был полон самых черных мыслей: знал, что делал) его самого. Ползучая подпись Роуклиффа, двух свидетелей: Антонио Аларкона и Мануэля Пардо Пальма. Что ж, думал Эндерби, может быть, это так или иначе решит дело. Приведет полицию на ту или другую конечную станцию. А ваша фамилия, сэр, señor? Эндерби. Паспорт, пожалуйста, por favor[145]. Ну, тут, офицер, небольшая проблема. Консультации шепотом, сержант зовет инспектора, сличают фотографии. Ладно, стало быть, Хогг. Я узнал истинного убийцу и погнался за ним. Поработал за полицию, правда, в лучших литературных традициях. А больше ничего не скажу. Хорошо, арестуйте меня. Безусловно, больше ничего не скажу. Не надо никаких предупреждений.








