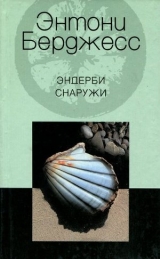
Текст книги "Эндерби снаружи"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
– Старые испанские обычаи, – крикнул мистер Гаткелч.
– …но только немногим придется открыть чемоданы…
– Лишь бы никому их бросать не пришлось, – крикнул мистер Гаткелч, возможно слишком далеко зайдя.
– …знаете, по выбору, выборочный, можно сказать, досмотр.
– Думаю, – обратилась к Эндерби мисс Боланд, – вряд ли у вас может быть такая буржуазная вещь, как багаж, правда? Наверно, спите в рубашке или вообще во всем. – Глаза сверкнули, словно эти слова возбуждали ее.
Эндерби с неприятным чувством ответил:
– Скоро увидите, есть или нет. Я ничем не отличаюсь от любого другого. – Подозрительно на него посмотревший на пути по гудрону мужчина снова сделал то же самое. – То есть, в смысле, – расширил свое утверждение Эндерби, – личного имущества и тому подобное.
– Немножко похоже на опознание, да? – хихикнула мисс Боланд. – Очень волнует.
Все стояли возле груды багажа, а служащий в фуражке с козырьком тигром в клетке прохаживался перед отрядом искателей развлечений, сложив за спиной руки. Эндерби увидел, что это мужчина снаружи, хмурившийся над его поросячьим хрюканьем. Мужчина остановился лицом к ним. Брылы, не лишенные сходства с ихним каудильо, даже аллеломорфная форма бровей; может быть, дальний родственник, которому режим был вынужден найти работу. Он стал сурово тыкать в людей пальцем. Ткнул и в Эндерби. Тот сразу оглянулся в поисках мужчины с лишним багажом. Обнаружил его и спросил:
– Где он?
– Что? Он? А почему вы свой не покажете?
– Есть причины, – сказал Эндерби. – Вещи, которых никто видеть не должен.
– Думают, будто там воровская добыча. Ничего себе, я бы сказал, свобода. В любом случае, мне нечего бояться. – И указал на сверхнормативный чемодан.
Эндерби потащил его к таможенной стойке. Служащий уже деликатно надел очень чистые белые хлопчатобумажные перчатки. К багажу большинства пассажиров он относился поверхностно, а к мнимому багажу Эндерби очень внимательно. На дне сумки под мужскими бермудскими шортами обнаружились три книжки в цветистых бумажных обложках, выглядевшие вполне безобидно на лондонском аэровокзале. Здесь же, в подавленной и подавляющей католической стране, где лишние воинственные страсти выливаются в бое быков, они вдруг вспыхнули обещанием исключительной непристойности. Мисс Боланд, хотя и не вошедшая в число избранных предъявителей багажа, держалась рядом с Эндерби и все видела.
– Грязь, – с усмешкой сказала она.
Служащий поднял книжки почти к портрету каудильо, как бы ожидая проклятия из его уст.
– Кто начнет торги? – вставил мистер Гаткелч.
На обложке сияли три аллотропа типичных слабоумных блондинок, перепуганных и раздетых.
– Pornográficos, – объявил служащий. Все кивнули, довольные, что понимают испанский. А потом он прямо на Эндерби хрюкнул, повторил его собственную пантомиму добычи трюфелей и добавил: – Puerco.
– Ясно, ясно, – проговорила мисс Боланд со сдержанным удовлетворением, прижимаясь к Эндерби сбоку. – Вот как произносится. А означает «свинья». Стало быть, вас здесь знают. Вы в самом деле темная лошадка. Свинья, я хотела сказать, свинья грязная.
Из одной высоко поднятой книги вывалились два плоских квадратных пакетика. И упали на чье-то благопристойное белое белье, выложенное для осмотра. Все мужчины сразу поняли, но какая-то пожилая женщина, явно отгороженная от мира, сказала:
– Что это за колечки? Зачем они нужны?
Послышался стон мужчины, способного лучше всех объяснить: предметы явно стороннего, не супружеского предназначения. Служащий вытер руки в хлопчатобумажной перчатке одну о другую, сделал преувеличенно негодующий и отвергающий жест и ко всем повернулся спиной.
– Ipocritico[62], – пробормотал Эндерби. Либо служащий не услышал, либо итальянский язык отличается от испанского.
– Добродетель вознаграждается, – ныл мужчина с лишним багажом. – Этот урок я запомню. – Жена его смотрела в сторону, ничего общего с ним иметь не желая, но нынешней ночью в заграничной спальне сырой темной Севильи, города Дон Жуана, разверзнется ад. – Вы меня унизили, – нелогично упрекнул он Эндерби. Остальные озадаченно хмурились, медленно соображая. Даже мисс Боланд.
Мисс Боланд взяла Эндерби за руку и сказала:
– Пошли, Пигги.
Влияние луны сильно способствует либерализации, горько думал Эндерби. Мистер Мерсер усталым тоном звал всех к ждавшему автобусу.
3
Через час обессиленный Эндерби лежал на кровати в отеле. Он бросил в ящик в вестибюле отеля письмо, обнаружив в своем маленьком казначействе чаевые песеты и получив возможность купить марки у усатой дуэньи, которая с достоинством зевала за администраторской стойкой. Казалось, никто из служащих отеля, должно быть уставших или гордо презирающих прибывавших по ночам постояльцев, даже минимально не взволнован новостями о кончине британского поп-певца. Значит, пока все в порядке. Хотя ненадолго. Конечно, многое зависит от главного хранителя тайны истинной личности Хогга, а именно от проклятого Уопеншо; многое зависит от фотографии Хогга в завтрашних газетах; немногое зависит от семантических исследований мисс Боланд слова puerco.
Скоро, когда он себя почувствует не таким обессиленным, надо будет пойти повидаться с мисс Боланд. Она на этом же этаже отеля, который называется «Марруэкос», всего через пару дверей. Вскоре Эндерби заказал бутылку «Фундадора» и стакан. С «Фундадором» он познакомился в «Поросятнике»: нечто вроде пародии на арманьяк. Пил он его от нервов, лежа на кровати, застеленной покрывалом цвета вареной печенки. Обои цвета кошенили. Картин на стенах нет. Все абсолютно голое, и эту наготу он ничем не прикрыл. Ничего в гардеробе, никакого багажа на полке для багажа в ногах кровати. В открытое окно начинал дуть горячий ветер, соответственно кошенильным стенам. Горячий ветер раздробил тучи, открыв уже испанскую луну, деталь сценической декорации Дон Жуана. Мисс Боланд в благоразумном ночном пеньюаре накручивает сейчас волосы на бигуди, глядя на луну. Luna. Может быть, поищет это слово в сумочном словаре.
Эндерби страдальчески поднялся, пошел в ванную. Из смежной ванной за стеной доносились едкие упреки жены мужу, мужчине с лишним багажом. Ненормальное либидо. Таскать с собой презервативы. Хотя слишком робок и гадок, чтоб ходить к señoritas и bintim[63], не так ли? В любом случае, что-то в этом роде. Она, как рабыня, отдала ему лучшие годы. Эндерби со вздохом кратко помочился, дернул цепочку и вышел из ванной, застегиваясь и вздыхая. Выйдя из номера, встретил направлявшуюся к его двери мисс Боланд. И правда, какое совпадение.
– Я иду, – объявила она, – за своими стихами.
В самом деле, она скорей выглядела как женщина, идущая за стихами, чем как женщина, читающая лекции по селенографии. Пеньюар, вовсе не благоразумный, а прозрачно-черный, раздувался на горячем ветру из окна в конце коридора, под ним ночная рубашка персикового цвета. Причесанные мышиные волосы потрескивали на горячем ветру, схваченные ленточкой персикового цвета. На губах помада цвета кошенили, соответственно горячему ветру. Эндерби сглотнул. Сглотнув, кивком пригласил заходить. И сказал:
– У меня еще времени не было. То есть стих написать. Я, как видите, распаковывал вещи.
– Все распаковали? Боже. Стоило ли? Мы ведь здесь всего на ночь. На остаток ночи. Ах, – ахнула она, раздувшись на горячем ветру из окна, – у вас тоже luna. Моя luna и ваша.
– Мы же, – логично заметил Эндерби, – с одной стороны коридора. Понимаете, один и тот же вид. – И добавил: – Выпейте.
– Ну, – сказала она, – я обычно не пью. Особенно в такой ранний час. Впрочем, в конце концов, я на отдыхе, правда?
– Безусловно, – серьезно подтвердил Эндерби. – Я стакан из ванной принесу. – И пошел. В соседнем номере продолжался скандал. Безудержная похоть в среднем возрасте. Было бы смешно, если б не было так омерзительно. Или что-то вроде того. Он принес стакан, обнаружив, что мисс Боланд сидит на его кровати.
– Mare Imbrium[64], – говорила она. – Се-левк. Аристарх.
Он налил ей очень солидную порцию. Надо ее напоить, чтоб она завтра утром страдала похмельем, отвлекшись от puerco. Вскоре он пойдет к ней в номер и украдет словарь. Все будет хорошо.
– Вы неплохо поработали, – заметила она, принимая у него стакан. – Даже чемодан куда-то засунули.
– О да, – сказал он. – Какая-то мания. Я имею в виду аккуратность. – И тут увидал себя в зеркале над туалетным столиком: не бритый с сегодняшнего самого раннего лондонского утра (правильно ли он написал на конверте – Londra?[65]), в сильно помятой рубашке, в кричащих о своей дешевизне штанах и вытертом на локтях пиджаке. Угрюмо себе усмехнулся полным набором зубов, которые, во всяком случае, казались вполне чистыми. И переадресовал улыбку мисс Боланд.
– Бедняга, – посочувствовала она. – Одинокий? Я увидела сразу, как только вы в Лондоне сели в автобус. Но теперь вам нечего себя чувствовать одиноким. Во всяком случае, в поездке. – И хлебнула «Фундадора», не поморщившись. – М-м-м. Жару поддает, но приятно.
– Mucho fuego, – сказал Эндерби. В англичанах нет fuego, он это запомнил.
Мисс Боланд откинулась на спину. На ней были пушистые шлепанцы на каблучках. Откинувшись, она их сбросила. Ступни длинные, чистые, ногти не накрашены. Она закрыла глаза, нахмурилась, потом сказала:
– Постойте, припомню ли. A cada puerco… что-то там такое… su San Martin[66]. По-английски «every dog has his day»[67]. Только на самом деле надо бы сказать не «дог», а «хог», правда? В словаре сказано «боров», а не «свинья».
Эндерби тяжело сел на кровать с другой стороны. Потом взглянул на мисс Боланд, очень вдумчиво ее оценивая. Казалось, будто с момента посадки на самолет в Лондоне она потеряла около двух стоунов[68] и пятнадцати лет. Он попробовал вообразить, что навязывает ей комплекс утонченной, но сильной влюбленности, которая производит эффект рабской дремотной покорности, вызывающей, например, полное равнодушие к завтрашним новостям. А потом подумал, что, может быть, лучше убраться отсюда, самостоятельно найти дорогу к Северной Африке: наверняка есть на чем унестись в такой час. Впрочем, нет. Несмотря ни на что, безопаснее в группе мистера Мерсера, которая весьма многочисленна, пропускается, как только тот моргнет глазом, без оглашенья фамилий, по мановению руки служащих, которых мановением руки отметает мистер Гаткелч. Больше того, мистер Мерсер всем вернул паспорта, так что паспорт Эндерби вновь угнездился во внутреннем нагрудном кармане. Он не собирается снова от него отказываться, если в последнем отчаянном отказе от собственной личности не отправит в огонь того или иного мавра, торгующего кебабом. Он вполне отчетливо видел, как этот мужчина, коричневый, беззубый, морщинистый, громко расхваливает под солнцем кебаб, перекрикивая муэдзинов. Поэтическое воображение, вот что это такое.
– А, – говорила теперь мисс Боланд, плеснув себе еще «Фундадора», – мама с папой обычно возили нас с Чарльзом, моим братом, к дяде Герберту, когда тот жил в Веллингтоне, я имею в виду, в сэлопском[69] Веллингтоне, почему его Сэлопом называют? Ну, название, наверно, латинское, и мы несколько раз ездили в Бредон-Хилл…
– Цветные графства, – сказал Эндерби, оценивая ее в целях соблазна, понимая одновременно, что это замечание чисто академическое, – в вышине слышны жаворонки. Юноши вешаются и оказываются в тюрьме Шрусбери. За любовь, как они говорят.
– Как вы циничны. Но я тоже, наверно, имею все права на цинизм, в самом деле. Его звали Тоби, – глупое для мужчины имя, да? – и он мне говорит, я должна выбирать между ним и карьерой, – я хочу сказать, больше похоже на собачью кличку, не так ли? – и, разумеется, речи даже не шло, чтобы я отказалась от своего призвания ради того, что он мне обещал. Говорит, якобы жена с мозгами никуда не годится, а он не позволит луне лежать между нами в постели.
– Отчасти даже поэтично, – заметил Эндерби, сам все больше впадая в дремоту. Горячий ветер гонял оконные занавески, точно марионетки, приклеивал к подбородку мисс Боланд ночную рубашку.
– Отчасти вранье, – возразила мисс Боланд. – Он врал про своего отца. Отец его был не поверенный, а всего только клерк у поверенного. Врал про свой чин в Королевских войсках связи. Врал про свою машину. Она вовсе была не его, он ее позаимствовал у приятеля. Не то чтоб у него было много приятелей. Мужчины, – заключила она, – склонны к вранью. Взгляните, например, на себя.
– На меня? – сказал Эндерби.
– Говорите, вы поэт. Рассказываете о своей старой шропширской фамилии.
– Слушайте, – велел Эндерби. И начал декламировать:
Шрусбери, Шрусбери, окруженный рекой,
Северн ревнивый, спящая собака, лижущая губы,
То рычит, то опять обретает покой,
С храпом во сне испуская туманные клубы.
– Это ваше, да?
Любовь буйствует праздным летом:
Афродизиакальное солнце в чудовищной вышине
Возбуждает дрожащим полуденным светом
Вспотевшего Джека, Джоан на спине.
– Я всегда слышала, не должно быть в стихах длинных слов.
Слабые и безгрешные анемичной зимой,
Нимфы отплясали на летней пирушке веселой,
Оборванного живописца лодки гонят домой,
Государственные деятели выходят из школы.
– А, понятно, о чем вы. Школа в Шрусбери, куда Дарвин ходил, да?
В пивных подают разбавленные напитки,
Бездетная официантка разносит счета,
Пока Дарвин связывает эволюции нитки
В леденящей ночи, где стихла суета…
– Простите, больше не буду перебивать.
…Но разглаживаются юношеские прыщи,
Бог является на четырнадцатой склянке,
Вставай, разбухай, трепещи,
Приминай траву на полянке.
– Очень много секса, правда? Извините, что снова перебиваю.
– Последний станс, черт возьми, – сурово предупредил Эндерби. – Вот сейчас.
Время с городом смыкаются в круг, как река,
Дарвин мыслит прямолинейно.
Отбор происходит долгие века,
Только новые виды не вынырнули из бассейна.
Воцарилось молчание. Эндерби чуял прилив поэтической гордости, потом упадок сил. День был жуткий. Мисс Боланд получила сильное впечатление. И сказала:
– Ну, в конце концов, вы в самом деле поэт. То есть, если это ваши стихи.
– Конечно мои. Налейте мне чуточку из бутылки. – И она охотно набулькала, прислуживая поэту. – Из раннего сборника «Рыбы и герои». Который вы не читали. Который никто не читал. Только, Богом клянусь, – поклялся Эндерби, – я им всем покажу. Со мной еще не кончено, ни в коем случае.
– Правильно. Может, вам будет удобней без обуви? Не трудитесь, позвольте мне. – Эндерби закрыл глаза. – И пиджак?
Вскоре Эндерби в рубашке и штанах лежал на половине кровати; она сняла с него также носки и галстук в гостиничных красном, белом и синем цветах. Все так же дул горячий ветер, но Эндерби стало прохладней. Она лежала рядом. Курили одну на двоих сигарету.
– Ассоциации, – услыхал Эндерби собственный голос. – Будьте уверены, все так делают, от испанского священника прямо до Альбера Камю с Кьеркегором где-то посередине.
– Кто такой Керк… как его?
– Философ, фактически приравнявший Бога к душе. Дон Жуан использует женщин, а Бог человека. Севилья, кстати, город Дон Жуана. Я хотел написать о нем драму в стихах, где он подкупом заставляет женщин рассказывать, что с ними делал, потому что в действительности ни с кем ничего не мог сделать. Потом драма в стихах вышла из моды. – Он решил, что ногти на ногах решительно нуждаются в стрижке. Впрочем, толстые ногти пришлось бы обрабатывать резаком или еще чем-нибудь. Очень твердые. В конце концов, он не сильно изменился. В конце концов, ванна – сосуд для поэтических черновиков. И ощутил щекочущий внутри новый стих, вроде насморка. Стих о статуе. И довольно тепло посмотрел на мисс Боланд. Последнего поцелуя, последнего… Если б только удалось сперва этот закончить.
– А кто такой севильский цирюльник?
– А, его выдумал один француз, потом французскую газету в его честь назвали. Как бы всеобщий фактотум, делает для людей всякие вещи и прочее. – Эндерби махнул головой.
– Очнитесь. – Она с ним обращается довольно грубо, видно, из-за «Фундадора». – Можете написать пьесу, где этот цирюльник на самом деле Дон Жуан, и страшные дела творит своей бритвой. Понимаете, из чувства мести.
– Что вы имеете в виду? Какой мести?
– Я ничего про месть не сказала. Вы опять отключились. Очнитесь! Не пойму, почему нельзя сделать луну подходящим научным сюжетом поэзии, вместо того, что в ней видят почти все поэты, знаете, какой-то фонарь, или так называемый афродизиак, как в вашем стихотворении солнце. Тогда можно было бы употреблять сколько угодно красивых длинных слов. Апогей, перигей, эктократеры, мегаимпакт, гипотеза отторжения.
– Что вы сказали про семяизвержение?
Она не услышала. Или, может быть, он ничего не сказал.
– И лунные месяцы, – продолжала она. – Синодические и нодические, сидерические и аномальные. Изостазия. Грабены, горсты. И лунные моря, совсем не моря, а огромные равнины лавы, покрытые пылью. Ваше тело – горст, мое – грабен, потому что горст противоположен грабену. Слушайте, пошли отсюда, побродим по севильским улицам вот так вот, как есть, я хочу сказать, в ночной одежде. Только ваш ночной костюм – без ничего, правда? Все равно, ночь прелестная, хотя луна заходит уже. Чувствуете всей кожей теплый ветер? – Неправда, что луна заходит. Когда они шли по calle[70] у отеля, Эндерби абсолютно голый, болтая мешочками, луна была огромная, полная, очень близкая. Настолько близкая, что издавала запах, похожий на запах кашу[71] из старых вечерних сумочек, пожелтевших балетных программок, долго лежавшего в нафталине лисьего меха.
– Mare Tranquillitatis[72], – рассказывала мисс Боланд. – Фракасторо. Гиппарх. Mare Necta-ris[73]. – Она низвела луну прямо на крыши севильских домов, чтобы покопаться в морях. На время исчезала в каком-нибудь, потом голова с мышиными волосами становилась золотой головой Береники, волосы вздымались, пронизывая северную полярную мембрану. Она как бы оживляла пустую луну изнутри, направляя ее на Эндерби. Он бежал от нее, от луны, вниз по calle, обратно в отель. Старик портье разинул рот среди впалых щек hidalgo на его болтавшуюся наготу. Эндерби пропыхтел вверх по лестнице, один раз попал большим пальцем в дыру на ковре, другой раз чертыхнулся на гвоздь, впившийся в мозолистую левую пятку. Слепо отыскал свой номер, плашмя упал на кровать, отчаянно хватая воздух. В открытое окно проникало мало воздуху. В то самое окно проникала луна, сильно съежившаяся, но, очевидно, существенной массы, ибо рама окна, четыре упрямых касательных к напиравшему шару, поскрипывала, кусочки лунной субстанции сыпались в четырех точках касания, как штукатурка. Потом на полюсе, который превратился в пупок, прорвалась голова мисс Боланд с разлетавшимися огненными волосами. Эндерби был пригвожден к постели. Женщина и луна разом бросились на него.
– Нет, – прохрипел он, очнувшись. – Нет, нельзя, это нехорошо. – Но она придавила его своим тяжелым лунарным телом. В ту самую левую пятку втыкался ее ноготь, дыра на ковре оказалась ничтожной прорехой между полой пеньюара и кружевной оторочкой. Значит, нагота не реальная, просто разоблачение, все сорвано, сброшено.
– Тогда покажи мне, покажи, как надо. Сам.
Он свалил ее, она лежала на спине, ждала. Эндерби с отчаянной поспешностью оттолкнулся ягодицами от опороченного матраса, как от трамплина. Матрас оказался пружинистей, чем он думал, и Эндерби внезапно встал на ноги, сурово глядя на нее сверху вниз.
– Если, – сказал он, – вам нужен такой тип отдыха, будет масса возможностей обеспечить его. Жиголо, и я не знаю что. Темнокожие мальчики и так далее. Чего вы ко мне привязались?
Она заскулила:
– Я думала, мы станем друзьями. Вы ненормальный, вот что.
– Я не ненормальный. Только очень-очень устал. День был просто ужасный.
– Да. – Завернувшись в пеньюар, она взглянула на него снизу вверх, твердо, но со слезами. – Да, точно. Есть в вас что-то не совсем хорошее. Что-то у вас на уме. Вы сделали что-то такое, чего не должны были делать. Могу сказать, от чего-то поспешно бежите.
Это уж совсем никуда не годится.
– Дорогая, – проскрипел Эндерби, раскрывая объятия и приближаясь с глупой ухмылкой.
– Нет, вам не удастся меня провести.
– Дорогая, – нахмурился теперь Эндерби, по-прежнему с открытыми объятиями.
– Ох, вытащите из несуществующего чемодана несуществующую пижаму и ложитесь спать после ужасного дня. Есть в вас что-то очень подозрительное, – объявила мисс Боланд и собралась встать с кровати.
Эндерби подскочил, несколько грубо толкнул ее обратно и сказал:
– Вы правы. Мне пришлось бежать. От нее. От той женщины. Не смог больше терпеть. Вырвался. Вот так вот. Она чудовищно со мной обошлась. – Из пошевеливаемых кочергой мозгов Эндерби выкатился дальний уголек, на секундочку вспыхнул, спрашивая, что есть истина, придираясь к каким-то мелочам в связи с контекстом ситуации и так далее. Эндерби уступил, внеся в текст поправку: – Я бегу.
– Что за женщина? Какая женщина? – Женское любопытство осушило слезы.
– Наш брак никогда не был настоящим. О, позвольте мне лечь в постель. Найти приют. Я так безнадежно устал.
– Сначала мне все расскажите. Я хочу знать, что случилось. Ну, очнитесь. Выпейте еще бренди.
– Нет-нет-нет. Утром расскажу. – Он снова лежал плашмя на спине, готовый умереть. Безнадежно.
– Я знать хочу. – Она встряхнула его так же грубо, как он ее толкнул. – Кто виноват? Почему брак не был настоящим? Ох, ну, давайте же.
– Дурной глаз, – молвил Эндерби in extremis[74]. И весело повел последнюю из трех машин, красную спортивную, а из «мерседеса» впереди радостно махали руки. До какого-то придорожного паба, куда все направлялись, путь лежал долгий, но все уже хорошенечко подзаправились, хотя мужчины вели машины с железной сосредоточенностью и дерзкой скоростью. Девушки жутко хорошенькие, полны веселья. Рыжеволосая Бренда, темненькая крошка Люси, мило пухленькая Банти в бирюзовом костюмчике. На шее Эндерби вился колледжский шарф, улыбавшиеся крепкие белые зубы закусывали трубку.
– Обожди только, Банти, старушка, – неразборчиво проскрежетал он, – ты свое скоро получишь. – Девушки визжали от смеха. Шумно и весело подстрекаемый ими, он носком до блеска начищенной туфли еще прибавил скорость красного трудяги, с урчанием пожиравшего дорогу, и легко обогнал двух других. Притворно гневные взмахи, притворное презрение, смех на весеннем английском ветру. В паб он приехал первым. Милый маленький паб с председательствовавшим в коктейль-баре лысым барменом, с запахом мебельной полировки. Бармен в белом пиджаке с лацканами цвета кларета. Эндерби заказал на всех выпивку, велев бармену по имени Джек пошевеливаться, чтобы спиртное выстроилось в ожидании запоздавших. Горькое пиво в высоких кружках, джин и прочее; для Банти «Адвокат».
– От этого у тебя глаза загорятся и хвост распушится, детка, – подмигнул Эндерби. Потом снаружи донесся размытый сигнал. Когда в бар ввалились Фрэнк, Найджел, Бетти, Этель и так далее, Эндерби сразу пришлось сказать: – У всех прошу прощения. Надо насчет собаки кое с кем повидаться.
– Хочешь сказать, башмаки сполоснуть, – хихикнула Банти.
Мочевой пузырь Эндерби мгновенно взревел о неотложной надобности, заглушив гогот приятелей, но в «муж.» он не побежал, а уверенно проследовал, хотя в этом пабе никогда раньше не был. Однако, завидев в конце коридора, был вынужден побежать. Черт возьми, только-только успел.
Только-только успел. Эндерби вскочил с кровати и бросился в туалет, с проклятиями нащупывая выключатель. Изливая поток, ворчал на расточительность снов, способных на такие труды, – персонажи, декор и так далее, даже реклама пива («Золотое руно» Джейсона), которого не существует, – только для того, чтобы он встал с постели помочиться в надлежащем месте. Дернул цепочку, вернулся в постель и увидел при свете из ванной, который не потрудился выключить, лежавшую там женщину. В общих чертах вспомнил, кто это такая: лунная женщина, с которой он летел (почему летел?), а еще – что тут какой-то заграничный город. Потом вспомнилось все целиком. Он слегка испугался, что испугался не так, как следовало.
– Что, а, кто? – сказала она. А потом: – Ох, я, наверно, заснула. Идите, ложитесь. Уже холодновато.
– Который час? – поинтересовался Эндерби. Щурясь на свет из ванной, заметил, что его наручные часы стоят. Где-то вдали ударил один раз большой колокол. – Сильно помог, – буркнул Эндерби. Странно, что раньше он этого колокола не замечал. Видимо, они находятся где-нибудь рядом с собором, муниципалитетом или еще с чем-нибудь. Севилья, вот они где. Город Дон Жуана. В постели незнакомая женщина.
– Ну, – сказала она. – Ее звали Банти, да? Она вас оскорбила. Ничего особенного, каждого когда-нибудь оскорбляют. Меня Тоби оскорбил. Имя тоже глупое.
– Понимаете, мы ехали в машине. Я был за рулем.
– Ложитесь обратно в постель. Я вас не обижу. Прижмитесь поближе. Холодно. Одеял мало.
Прижиматься было довольно приятно. Мне было так холодно по ночам. Кто это говорил? Распроклятая Веста, чертова злодейка.
– Чертова злодейка, – пробормотал Эндерби.
– Да-да, но теперь все позади. Вы немножечко мокрый.
– Извините, – извинился Эндерби. – Не подумал. – И вытерся простыней. – Интересно, который час.
– Зачем это вам? Почему вы так рветесь узнать, который час? Встать хотите так рано? Ночь в Севилье. Надо, чтобы нам обоим было что вспомнить о ночи в Севилье.
– Солнце включат, – изрек Эндерби, – тогда день начало получит.
– Вы о чем это? Что хотите сказать?
– Просто пришло в голову. Из синевы. – Кажется, рифмы собрались выстраиваться. Кларет, запрет… Впрочем, сейчас надо другое дело доделать. Она ни капли не похожа на чертову Весту, которая не растрачивает плоть в постели, чтобы за ее пределами оставаться изящной. Тут есть за что подержаться. Он видел, как один клиент в баре с ухмылкой произносил эту фразу. Очень вульгарно. Эндерби принялся собирать старые воспоминания о необходимых действиях (времени много прошло). Над постелью как бы навис сам Дон, почему-то ковыряя в зубах, кивая, тыча пальцем. Более или менее удовлетворенный, он упорхнул на адской бесплотной лошадке и недалеко от отеля приветственно махнул статуе дерзким сомбреро с перьями.
– Воздвигли статую-портрет, – пробормотал Эндерби.
– Да-да, милый. Я тебя тоже люблю.
И Эндерби осторожно, робко, слегка краснея, начал протираться, то есть проталкиваться, пытаясь войти, так сказать. Давненько. И вот. Фактически, довольно приятно. Он остановился на счет пять. И опять. Пентаметрами. И тут хлынуло семяизвержение слов.
Каких потомков этот светлый глаз явил!
Бумажных ветхих идолов повергнув в пыль,
Открыв все ставни, сокрушив любой
Сонет, сонет, для нового сборника «Революционных сонетов», первым в котором стал тот, что разъярил проклятого Уопеншо. Слова текли, Эндерби взволнованно выуживал вещь целиком.
– Извините, – извинился он. – Мне надо доделать. Бумагу достать. Сонет, вот что это такое. – Вспомнил о пузатом, болтавшемся над изголовьем кровати выключателе, протянул к нему дрожащую руку. Внезапный свет с насмешкой спугнул бархатную севильскую ночь. Она не поверила. Лежала, открыв рот, в ошеломлении, с вытаращенными глазами. – Я только напишу на бумаге, – пообещал Эндерби, – потом снова возьмусь за дело. Я имею в виду… – Вылез из постели, пустился на поиски. Барменский карандаш в кармане пиджака. Бумага? Проклятье. Стал выдергивать ящики, выискивая белую подстилку. Сплошь старые испанские газеты с боями быков или что-нибудь вроде того. Черт.
Она завывала в постели. Эндерби вдохновенно метнулся в ванную, вышел, обмотанный туалетной бумагой. И улыбнулся:
– Отлично сгодится. Я быстро. Дорогая, – добавил он. Потом, омерзительно голый, присел к туалетному столику, начал писать.
Открыв все ставни, сокрушив любой запрет
И подчинив себе движение планет,
Они придумали монету, ложе, мозг, что жаждут из всех сил
Своих ключей; и в поле, где сад прежде проходил,
Воздвигли статую-портрет.
– Вы чудовищны, омерзительны. Никогда в жизни меня так не оскорбляли. Неудивительно, что она…
– Слушайте, – не оборачиваясь, сказал Эндерби, – дело важное. Дар решительно возвращается, слава богу. Я знал, что вернется. Дайте мне только пару минут. Потом я снова вернусь. – Он имел в виду – в постель, поднимая глаза к зеркалу над туалетным столиком, как бы именно это намеренный ей сообщить, если она находится в зеркале. Понимал, что должен быть шокирован увиденным в зеркале, только сейчас не время для этого. Жару нет, черта с два. Пускай лучше другие стихи не мешаются. Кроме того, цитата неправильная, все ее вечно неправильно понимают.
И в поле, где сад прежде проходил,
Воздвигли статую-портрет.
– Закончил октаву, – пропел он. – Теперь скоро.
– Гад поганый. Паскуда бесполая.
– Что за выражения, право… – Зеркало, сверкало, лекало. Жалко, нет настоящей рифмы к зеркалу, кроме тех чертовых слов сэра Ланселота, которые Теннисон украл у Автолика. – Эй, селено… как-вас-там…
– Ты так не отделаешься. Обожди. – И, достойно закутавшись в пеньюар, она, к изумлению Эндерби, вышла в дверь и исчезла, крепко ею хлопнув.
– Слушайте, – слабо сказал Эндерби. И тут зеркало, сохраняя английское наименование, велело ему заканчивать секстет.
4
Секстет. Все хорошо, думал он. И сказал испанскому рассвету, что, по его мнению, все в порядке. Потом хлебнул «Фундадора». Совсем не так много осталось. Она вписала свое имя, та самая мисс как-ее-там, луна. Эндерби на манер лектора прочитал секстет своему отражению в зеркале:
Мужчины, видя в ней зерцало,
Таращат в пустоту глаза под омраченным лбом,
Гордясь, что страха в них вовеки не мерцало,
Забыв про разницу меж камнем и стеклом.
Когда кто-то признает тут свое лекало,
Припомнится ошибка поделом.
А смысл? Кажется, вполне ясен. Вот что происходит в человеческом обществе. Сад Эдема (из другого сонета, того, который взбесил проклятого Уопеншо) превращается в поле, где люди строят, сражаются, пашут, или еще что-нибудь. Они себя почитают, считают очень умными, а потом все персонифицируются в вожде-автократе, вроде этого самого Франко в Мадриде. Гуманизм всегда ведет к тоталитаризму. В любом случае, что-то вроде того.
Эндерби был умеренно доволен стихом, сильней радуясь перспективе более крупной структуры – цикла. Несколько лет назад он издал том под названием «Революционные сонеты». В книгу вошли не только сонеты, но название ей дали первые двадцать стихотворений, каждое из которых старалось вместить, – эксплуатируя парадигму темы и контртемы в излюбленной Петраркой форме, – определенную историческую фазу, на которой совершалась революция. Теперь он чувствовал, что можно взять те двадцать сонетов из сборника и, добавив еще двадцать, в сотрудничестве с Музой построить обширный цикл, сам по себе составляющий том. Понадобится новое название, более изобретательное, чем старое, например, «Мозг и Раковина», или еще что-нибудь. Пока есть вот эти два сонета – про Сад Эдема, и новый, про человека, строящего собственный мир за пределами Сада. Где-то в глубине подсознания зудело воспоминанье о начатом и оставленном в весьма грубом виде другом сонете, который после хорошей отделки и тщательной полировки станет третьим. На самом деле, думал он, тот сонет будет предшествовать этим двум, изображая первичную революцию на небесах, – бунт Сатаны и подобные вещи. Люцифер, Адам, дети Адама. Получатся три первых стиха. Ему казалось, что, достигнув определенной степени опьянения, за которой последуют тщательные раздумья, можно будет вернуть сонет к жизни. По крайней мере, если оставить ворота открытыми, рифмы наверняка притопают обратно в американских армейских ботинках на мягкой подошве. Октава: Люцифер сыт по горло незыблемым порядком и согласием на небесах. Хочет действовать, выдумывает идею дуализма. Секстет: он низвергается и сотворяет ад в противоположность небесам. Эндерби видел его падение. Как орел, сорвавшийся в солнечном свете с вершины горы. Это из Теннисона. Под ним расползается, морщится море. Море – горе. Гора – дыра. Рифмы секстета?








