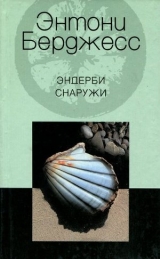
Текст книги "Эндерби снаружи"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Annotation
Энтони Берджесс – известный английский писатель, автор бестселлеров «Заводной апельсин», «Влюбленный Шекспир», «Сумасшедшее семя», «Однорукий аплодисменты «Доктор болен» и еще целого ряда книг, исследующих природу человека и пути развития современной цивилизации.
В бармене Пигги Хогге нежданно оживает творческий дар прежнего Эндерби – его желание и способность писать стихи. Сталкиваясь со всеобщей профанацией искусства, он бежит на Восток, где отдает все, включая вновь обретенное имя, за возможность работать со словом. Волны времени забирают у поэта даже кровного врага, и они же дарят ему, словно Афродиту, юную музу нового времени.
Поэт, сталкиваясь с тотальной профанацией искусства, бежит от пластмассово-синтетического мира в себя, но платит за это потерей творческого дара. Благодаря или вопреки лечению доктора Уопеншо, в бармене Пигги Хогге проступает личность Эндерби, его желание и способность творить. Теперь Поэту нужно только Слово…
Энтони Берджесс
Часть первая
Глава 1
1
2
3
Глава 2
1
2
3
4
5
Глава 3
1
2
3
4
Глава 4
1
2
3
Часть вторая
Глава 1
1
2
Глава 2
1
2
3
4
5
Глава 3
1
2
3
4
5
6
Приложение
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
Энтони Берджесс
Эндерби снаружи
Посвящается Деборе
Esperad todavía.
El bestial elemento se solaza
En el odio a la sacra poesía
У se arroja baldón de raza a raza
[1]
.
Рубен Дарио
Часть первая
Глава 1
1
– Лично я, – сказал клиент у стойки бара, – персонально, это назвал бы… пусть любой другой называет как хочет, мне плевать, черт побери… – Хогг, склонившись в полупоклоне, почтительно слушал, насухо вытирая стакан, из которого шумная женщина, актриса или еще кто-нибудь, пила и ела «Пиммз[2] Номер Один». – Но от себя скажу, я бы это назвал… – Хогг отдраивал несмываемую веронику помады, ожидая в высшей степени идиосинкразической развязки: не соответствующе соответственного слова, а слова, соответственно соответствующего личному, персональному представлению клиента о соответствии, – неприкрашенной вольностью. – Хогг глубже склонился с микроскопическим неудовольствием. Он сам некогда занимался словами (нет, до сих пор… только это лучше держать под замком: говорят, времена те прошли-проехали, на смену прут напролом времена пустоголовых ломовых извозчиков; те, кто так говорит, лучше знают; в любом случае, утверждают, будто лучше знают. И все-таки…). – В конце концов, имя есть имя. – Нельзя так выражаться, как этот мужчина. Это ложь неприкрашенная, а вольность – чертовская. Хогг очень многому научился за время общения с солью земли, барменами и им подобными. Однако бесстрастно сказал:
– Очень любезно с вашей стороны, сэр, подобное отношение.
– Еще бы, – бросил клиент Хоггу слово, будто чаевые.
– Только название не в мою честь дано, сэр, если можно так выразиться. – Хорошо, правильно: истинный бармен. – Можно сказать, меня сюда взяли, потому что оно уже так называлось.
– Всяких Хоггов полным-полно, – сурово заметил клиент. – Тот самый святой, что открыл школы для ребятишек в лохмотьях. Без лохмотьев не примут, это как бы школьная форма. Еще лорд Хогг, который отказывался становиться премьер-министром, а ему и не предлагали, поэтому он расхаживал кругом, звонил во все колокола, проклинал всех и вся.
– Был еще Джеймс Хогг, поэт, – опрометчиво добавил Хогг.
– Поэтов приплетать сюда нечего.
– По прозвищу «эттрикский пастух», если можно так выразиться. Поп[3] в шерстяных чулках.
– И религию тоже. – Клиент, не обедавший, кроме виски, производил все больше шуму. – Мне, к примеру, вполне могла достаться фамилия Жопин. Смотри на цвет кожи, на веру, сильно не ошибешься. Я каждого принимаю таким, каким вижу. – Он распахнул пиджак, словно крылья, продемонстрировав зеленые подтяжки. Хогг беспокойно оглядывал почти пустой бар. Часы показывали без пяти три. Обслуживавший посетителей официант Джон, сардонический высокий испанец, стукач старшего управляющего, все подмечает. Хогг слегка вспотел.
– Я имею в виду, – взволнованно растолковывал он, – бар называется «Поросятником»[4] в честь того, кто еще до меня тут работал. – Джон-испанец ухмылялся в другом конце зала. – Сэр, – добавил Хогг.
– Я говорю, не сильно ошибешься.
– Дело в том, – настойчиво рассказывал Хогг, – что среди основателей этих отелей с самого начала был Хогг. Принес им удачу и умер. Они были американцы.
– По мне, что американцы, что нет. Мы оба раза сражались бок о бок. Хорошего от них ровно столько же, сколько плохого. Надеюсь, они про нас то же самое скажут. – Клиент толкнул к Хоггу пустой стакан, который поехал, как детский десятитонный грузовик размером со спичечный коробок.
– Того же самого, сэр? – спросил Хогг с пробившейся сквозь озабоченность барменской гордостью.
– Нет, попробую чего-нибудь ихнего. Раз янки заведением заправляют, должны знать, что к чему. – Хогг не понял. – По-ихнему – бурбон. Вон из той бутылки с черномазым. – Хогг отмерил двойную порцию «Олд Растуса». – И с фирменной водичкой, – добавил клиент.
Хогг наполнил из крана кружечку в виде свинки. Позвенел деньгами и пояснил:
– Они не желают обманывать, такая у них политика, можно сказать. Говорят, потребители в Штатах любят настоящие вещи, и тут то же самое будет. Поэтому должен быть Хогг.
Клиент, как будто проверяя, не сломана ли у него шея, медленно вывернул голову, оглядев «Поросятник», – один из многочисленных баров с эксцентричными названиями в высоком, но тощем отеле, новой лондонской гордости. Вместе с баром «Уэссекс-сэдлбэк»[5], где в данный момент масса толстошеих ротарианцев[6] потела над жаренными на углях хрящиками, он занимал почти весь десятый этаж. Из окон бара (испещренных штампованными отпечатками копытцев, как бы в виде предупреждения) видна была добрая часть осеннего Лондона. Кварталы офисов обезьяньей архитектуры, оловянная река; деревья, повестками рассылавшие листья по всему Вестминстеру; Рен[7] со своим Богом, наивные простачки; пыль от унесенных ветром резиденций вигов. Однако клиент посмотрел лишь на фриз с хохочущими, кувыркавшимися, откормленными на убой хрюшками, на скамьи в виде свиней с проломленными спинами, куда были вставлены пепельницы: пластмассовые корытца с пластмассовыми хризантемами. Снова повернулся к Хоггу, кивнул с ворчливым одобрением, словно все это устроил он, Хогг.
– Уже закрываемся, сэр, – сказал Хогг. – На посошок, сэр?
– С моей фамилией не посмели б хохмить, – заявил клиент. И с удовольствием подмигнул Хоггу. – Хотя я и шанса бы не дал. Фамилия – личная собственность мужчины. – Он приложил к носу палец, как бы желая унять воспаление, жестом, который мачеха Хогга называла «Гарри-сифилитиком», продолжая подмигивать. – Со мной не пройдет. – Самодовольно ухмыльнулся, будто отвоевал собственную фамилию и собирается нести домой, жадно прижимая к груди. – Теперь чего-нибудь нашенского после ниггерского. Маленько поправиться. У-ху-ху. Крошка-женушка заждалась. – Хогг смело плеснул скотч в стакан из-под бурбона. Джон глаз не спускал с пары своих уходивших клиентов.
– Электрические пастухи, – изрек один из них, вполне может быть, свиновод, однако, похоже, не совсем себя чувствовавший в «Поросятнике» как дома. – К тому идет, осмелюсь сказать. – Он был в компании с мужчиной в клерикальном сером, болезненно бледным, как бы вследствие существования на страховые премии. Оба кивнули Джону-испанцу и вышли.
Джон показал им барочную усыпальницу золотых зубов и сказал:
– Жентильмены. – Потом собрал стаканы, понес к стойке, чтоб Хогг вымыл. Хогг с ненавистью посмотрел на него.
– А я скажу, – сказал единственный оставшийся клиент, – это позор для фамилии твоего старика папаши. Вот как надо на это смотреть. – И осторожно спустился со стула. Джои кланялся, кланялся, со сплошными кусками ломаных дублонов во рту. Клиент с ворчанием запустил руку в брючный карман и вытащил полкроны. Отдал Джону, а Хоггу не дал ничего. Джон кланялся и кланялся, глубже, глубже обнажая золотые залежи.
– Фактически, мамаши, – поправил Хогг.
– А? – прищурился на него клиент.
– Я имею в виду, Хогг – фамилия моей мамаши, а не папаши.
– Я пришел сюда не для того, – провозгласил клиент, – чтобы ты передо мной тут писался. – Теперь наружу вышла определенная низость. – Посматривай за собой.
Хогг помрачнел. Снова он слишком далеко зашел. И этот жуткий Джон, как и прежде, опять стал свидетелем. Только он правду сказал. Хогг – девичья фамилия едва помнившейся нежной женщины, которая пела под собственный аккомпанемент «Все проходит», пока «банксия» и «макартни» и «викурайана»[8] за открытым французским окном тщетно соперничали с ее ароматом. А фамилия отца, слушавшего, пуская кольца дыма «Пробежавшей Тучки», фамилия отца была…
– Я, как всякий, люблю посмеяться, да только посматривай, вот и все. – И клиент ушел с виски в желудке, которое бормотало ааархброххх. Хогг остался лицом к лицу с Джоном-испанцем.
– Пуэрко[9], – сказал Джон, таким образом переводивший фамилию матери Хогга. – Еще раз заговори про поэтов, плохо будет. Вылетишь отсюда, и правильно, черт побери.
– Шпик, – огрызнулся Хогг. – Докладывай Холдену, если хочешь. Плевал я на все, вместе взятое.
Старший управляющий Холден, крупный мужчина, прятавшийся за секретаршами и цветочными крепостными валами, был американцем, порой выдавая себя за канадца. В какой-то связи с американской торговой политикой любил поговорить о крикете.
– На сей раз диктофону скажу, – щедро пообещал Джон. – На сей раз немного. В прошлый раз очень много.
Ну, в прошлый раз Хогг фактически не виноват. Явилась обедать компания толстеющих молодых телевизионных продюсеров, которые хрустели арахисом под мартини, говорили «йя» вместо «да», громко обсуждали сексуальные mores[10] конкретных известных актрис, и естественно перешли к дискуссии о поэзии. Что-то неправильно процитировали из Т.С. Элиота, и забывшийся Хогг их поправил. Заинтересовавшись, они принялись его испытывать на других поэтах, ни про одного из которых – Ванн, Гейн, Ламис, Харкин и тому подобное – он в жизни не слышал. Видно, сначала телевизионщики насмехались над ним, простым барменом, за познания, а теперь насмехались над ним за незнание. Вожак йякальщиков подзаправился горстью соленых орешков, заброшенных в рот ладонью-лопатой на манер кушающего рис малайца, самодовольно ухмыльнулся при этом и невнятно промямлил:
– Ням-дерби.
– Кто? – уточнил Хогг. И затрясся. У поросячье-розового (точней сказать, свиноветчиннорубленого розового) потолка парила призрачная девушка со свитком в руке, с царственными перламутровыми плечами над бальным платьем в стиле Регентства. Слишком хорошо известная Хоггу. Разве она его давным-давно не покинула? А теперь ободряюще улыбалась, хоть свиток кокетливо не разворачивала, allumeuse[11]. – Эндерби, выговорите? – переспросил Хогг, хмурясь и дрожа под белым морозным барменским нарядом. Девушка скользнула вниз, прямо ему за спину, положила ладонь на макушку, сунула прямо в глаза широко развернувшийся свиток. И Хогг услыхал, что уверенно, словно угрозу, цитирует:
В длиннохалатное воскресенье колокола вломились.
Центральное отопление нежит бездетные пары,
обутые в тапки.
Вовремя пришли газеты, обед в непомерном достатке
Распевает в духовке. На мягких коврах развалились
Худенькие пантеры-котята, в игре без царапок
сцепились…
– Ох, Иисусе…
– Сонет, еще не…
Хогг испепелил взглядом маленького жестикулировавшего мужчину, готовый сказать: «Только пикни». Но вместо этого решительно продолжал:
Тельца крепкие, язычки чистые, лапки
Незагрубевшие. Вина все еще молоды, сладки.
Магнитофоны без аккомпанемента распелись…
Тут явился другой телевизионщик, которого все явно ждали, очень похожий на прочих, сплошь тесто. В него страстно вцепились, крича:
– Таверна «Минетта»…
– «Гудис» на Шестой авеню…
У стойки стоял одинокий мужчина, заказывал, тыкая пальцем; в темных очках, рот разинут на Хогга, окутан дымом сигареты. Посетители за столиками, слыша вторжение стихотворных рифм в бесформенную болтовню, разом оглянулись на Хогга. Джон-испанец с гнусной радостью стоял, тряс головой.
– Хватит нас стихами кормить, – оборвал Хогга главный пожиратель арахиса. – Еще мартини.
– Обождите, – заупрямился Хогг, – черт возьми, секстета.
– Ох, пошли, – сказал вновь прибывший. – С голоду умираю. – И все с гвалтом повалили в «Уэссекс-сэдлбэк», лапая друг друга и йякая.
Хогг мрачно повернулся к мужчине в темных очках и сказал:
– Могли бы обождать секстета, черт побери. Никакого нынче воспитания. Это ж чудо, а они не поняли. Столько лет я пытался сделать эту вещь, и сейчас только вышло. – Он вдруг почувствовал себя виноватым, начал оправдываться: – Впрочем, это другой, не настоящий я. Долгая история. Называется реабилитация.
– Nye ponimayu, – сказал мужчина. И поэтому снова принялся тыкать пальцем. Хогг, вздыхая, отмерил в большой шар аперитив «Железный Занавес» с запахом глицерина. Надо хорошенько за собой посматривать. Он ведь теперь счастлив, правда? Полезный гражданин.
Именно после того случая его вызвали к мистеру Холдену, безнадежно лысевшему, как бы задавшись целью попасть в журнал «Тайм». Мистер Холден сказал:
– Не в ту калитку ты пробидл, йя. Держи биту прямо, да с питчера[12] глаз не спускай. Отель у нас респектабельный, ты тут мелькаешь, весь в белом, вот какой у тебя имидж, йя. Повезло тебе сюда попасть после такой короткой профессиональной разминки. Раньше быдл свободным игроком, в досье сказано. Ну, как бы там ни быдло, руководство это не интересует. Хотя начинает казаться, что будто бы не совсем комель фон. Ну, что быдло, прошло. Сливки мирового сообщества входят в наши двери. Им не надо, чтоб бармены советовали выражаться почище. Еще что-то про наш винный погреб сказал клеветническое, только это он, может быть, и приплел, так пропустим. Помни, самое в тебе ценное – это фамилия. Держи биту, браток, или останешься без очков.
Прошло? То есть было в прошлом. Хогг сделал там что-то противозаконное, вскоре переставшее возбраняться законом. Если кто-нибудь разнюхает, его выставят в телевизоре, запихнутого начинкой сандвича между мусорщиком, коллекционером мейсенского фарфора, и банковским клерком, научившим собаку курить трубку. В лучшем случае курьез. В худшем – предатель. Чего? Предателем чего его будут считать? В данный момент, через месяц, Хогг хмуро сверял выручку с рулончиком в чековой кассе, которая несколькими оборотами регистрирует каждую сумму. Деньги надо отнести в коробочке в гигантскую гремучую сокровищницу отеля, полную арифмометров, которые – по утверждению Ларри из бара «Арлекин» наверху, – соответственно запрограммированные, могут заглянуть тебе прямо в душу. А потом у него назначена встреча. На (грудь Хогга минимально разбухла) Харли-стрит[13]. Прямо в душу? Он чувствовал беспокойство. Только, черт побери, он же наверняка никому ничего плохого не сделал? Когда Джон Мильтон ежедневно пахал от звонка до звонка, переводя на латынь Кромвеля[14], разве ему то и дело не говорили: «Хорошую ты приколотил к стенке штуку про Фэрфакса[15] и осаду Колчестера. Продолжай в том же духе»? Он, Хогг, ничего к стенкам не приколачивал, хотя, Бог свидетель, однажды в ту пору… просто…
– Брат мой, – рассказывал Джон, – сейчас в Танжере работает. В Тошниловке Большого Жирного Белого Пса, чертовски дурацкое названье для бара. Билли Гомеса каждый знает. С ножом хорошо обращается в трудных случаях, вот так вот, старина. – Он издал кровожадный пискляяяяяявый звук, вонзив призрачный стилет в спрятанные Хоггом пудинги. – Стихи читал, а теперь перестал. Хорошие стихи. Испанские. Гонсало де Берсео, Хуан Руис, Ферран Санчес, Калавера, Хорхе Манрике, Гонгора, – хорошая поэзия. В долбаной Англии слишком холодно для хорошей поэзии. В англичанине fuego[16] нету. Как в распроклятой рыбе, hombre[17].
– Я тебе дам, нет fuego, – обиделся Хогг. – Мы вам, сволочам, чертовски mucho fuego[18] задали в 1588 году[19], и еще зададим. Педрилы начесноченные. Я вот тебе покажу, нет хорошей поэзии. – Шею защекотали брыжи. Он разгладил кинжальную бороду. Небо побагровело над брандерами[20]. Потом Хогг увидел в огромном стенном зеркале свое раздраженное отражение в обрамлении заграничных бутылок: прилично выбритый бармен в очках, быстро лысеющий, вроде мистера Холдена.
– Пошли теперь поедим, – предложил Джон. В кишечнике отеля кипел служебный кафетерий, полный скрежета уминавшихся чипсов, опьяняющий соусом «Дадди». Организатор-общественник регулярно расхаживал между столами, пытаясь организовать соревнования по настольному теннису. Пустой желудок Джона глухо стучал кастаньетами.
– Не хочу есть, – насупился Хогг. – Сыт по горло. Больше просто не лезет, вот что.
2
Хогг шагал к Харли-стрит по сплошным листьям, летучим обрывкам бумаги. Лондонский Хогг, он наизусть знал дорогу по этим прогулочным улицам. Мачеха в чистилище, или где она там устроилась, в обморок бы упала, видя, как он хорошо знает Лондон. Братон-стрит, Нью-Бонд-стрит, перейти Оксфорд-стрит, потом по Кавендиш-стрит через Кавендиш-сквер на Харли-стрит, зная также, что дальше лежит Уимпол-стрит, где Роберт Браунинг читал кусочки «Сорделло», очень темной и длинной поэмы, женщине, сильно похожей на спаниеля, который у нее действительно был, а под кроватью жили огромные пауки. Отец приучил ее пить крепкий черный портер. Хогг старался прикинуться, будто не знает подобных вещей, ибо они лежали за пределами барменской сферы, только все равно знал, что знает. Нахмурился, презрительно вздернул плечи. Мужчина, продававший газеты и грязные журналы, посоветовал:
– Веселей, хозяин.
Вскоре Хогг в рабочих брюках и приличном спортивном пиджаке в елочку сидел в приемной доктора Уопеншо. Дня три назад он получил краткий вызов от доктора Уопеншо, главной движущей силы процесса реабилитации – превращения Хогга из неудачиика-самоубийцы в полезного гражданина. Удалось выдумать лишь одну возможную причину краткости, однако настолько невероятную, что пришлось ее отбросить. Тем не менее, как подумаешь про всякие кибернетические триумфы, и на что они способны, и такой ловкий психиатр, как доктор Уопеншо, вполне может завести себе банк электронных мозгов, работающих на него (все за счет Государственной службы здравоохранения), поэтому есть небольшая возможность, что вызов связан с тем самым конкретным проколом, допущенным Хоггом, признаком рецидива, если воспользоваться модным жаргоном. С другой стороны, между ним, Хоггом, и доктором Уопеншо установились отношения взаимной любви и доверия, пусть даже официальные и оплаченные Государством, казавшиеся истинным чудом в травянисто-зеленом заведении для выздоравливающих. Разве доктор Уопеншо не демонстрировал его, Хогга, в качестве образцового выздоравливающего, приглашая коллег со всего мира щупать, тыкать пальцами, улыбаться, кивать, задавать коварные вопросы насчет его отношений с Музой, мачехой, уборной и псевдоженой, утешительно сводя все это бурное прошлое к туманной абстракции приличного, чисто клинически интересного случая, за который можно взяться пропахшими антисептиками руками? Да, вот так вот. Возможно, в конце концов, краткость – официальная упаковка, а в ней тепло, любовь, защита от чужих взглядов. И все-таки – тем не менее.
В приемной стоял газовый камин, над которым, как кипер[21] над калиткой, раскорячился единственный другой ожидавший пациент. Осенний холод отражался в обложках «Вога» и «Вэнити Фэйр», лежавших на полированном столике, где ваза с настоящими, не пластмассовыми хризантемами превращалась в некий призрак из мира-антипода. На обложках изображались худенькие молодые женщины в норке на фоне листопада. Какой-то зимней стужей повеяло на Хогга от замеченных на столе номеров «Фема». Те времена, не столь давние, когда он действительно писал для «Фема» жуткие стишки в виде безобидной прозы («Свое дитя я поднимаю к небесам. Оно воркует, ибо Бог есть там»), подписанные псевдонимом Крепость Веры; те невероятные времена, когда он действительно был женат на художественной редакторше журнала Весте Бейнбридж; те времена официально обязаны вызывать у него не более чем умеренное, постоянно угасающее любопытство. То был другой человек, из прочитанного с зевотой рассказа. Но прошлое снова протягивало к нему щупальца, с неустанной назойливостью златоуста присасывалось с того самого вечера явления богини и йякавших телевизионщиков. Хогг с тяжким вздохом кивнул. Доктор Уопеншо знает, все знает. Вот зачем эта встреча.
– Вот эту вот кучу богохульной белиберды тебе предлагают читать, – сказал мужчина у газового камина, обернувшись к Хоггу, взмахнув тоненькой книжкой. Потом поднес ее к камину, как бы специально поджаривая, будто хлеб перед плотным обедом в какой-нибудь школьной истории про доэлектрические времена. У него были буйные седые волосы, культурное произношение, отчего простонародный словарь казался аффектированным. Если он был, – а он явно был, – пациентом доктора Уопеншо, то, наверно, реабилитировался таким же образом, как Хогг, если Хогг в самом деле реабилитировался, что вполне вероятно. – А еще нас чокнутыми называют, – продолжал мужчина. – Думают, – пояснил он, – это мы с вами спятили.
Хогг приготовился было отвергнуть это определение применительно к себе, но сдержался. Мужчина швырнул ему книжку, дико захлопавшую страницами, и Хогг ловко поймал. Мужчина не сказал «в яблочко», как сделал бы мистер Холден и сам доктор Уопеншо, по крайней мере, доктор Уопеншо в зеленые каминные времена, когда он говорил «здорово сыграно» и «молодцом». Хогг хмуро пролистал книжонку. Взглянул на название, еще больше нахмурился: «Kvadratnye kluchi». И осторожно спросил:
– Что вообще это значит?
– Ох, – раздраженно буркнул мужчина, – что вообще все прочее значит? Сплошное merde universelle[22], как говорит тот самый французский ирландец. Почитайте, и все.
Хогг открыл наугад и прочел:
«Чудо этой бесхитростной монодии с минимальным струнным аккомпанементом не исчезает при ретроспективной догадке, что она существовала, затаясь в ожидании, на протяжении всей письменной истории, не замеченная скрипучими бородатыми любителями сложности. Они выстраивают многоголосные контрапункты, грандиозную оркестровку, пишут фуги, сонаты, ища идеал, но если б протерли слезящиеся старческие глаза, то увидели бы, что он кроется в ясности и прямоте, а не в сложности и околичностях. Именно традиционную ошибочную ассоциацию возраста с мудростью можно назвать причиной их слепоты, или, мягче сказать, близорукости. Ответом на все проблемы, эстетические, равно как социальные, религиозные, экономические, служит одно слово: Молодость».
– Я совсем ничего не пойму, – сказал Хогг, и, по-прежнему хмурясь, перевернул страницу, увидав фотографию четырех вездесущих, ухмылявшихся ему обормотов. Один с гитарой, из которой полз гибкий шнур, другие целятся палочками в цветастые барабаны.
– Ах, – проворчал мужчина, – ко мне с этим не приставайте. У вас свой мир, у меня свой. – А потом очень громко крикнул: – Мама, ты оставила своего сына.
Хогг, не испугавшись, кивнул. Разве не прожил он целое лето среди людей, склонных к внезапному отчаянному словоизвержению, или, хуже того, к спокойным уверенным рассуждениям о конечной реальности, часто в угаре будивших Хогга и других пациентов для интимных излияний средь ночи? Он прочел дальше:
«Джек Кейд и «Мятежники» в своем диске «Как Он В Тот Раз», вышедшем в апреле 1964 г., использовали плодотворный способ сильного ритмического акцента на четвертом такте. В мае того же года Нэп с «Костистыми» продолжили и развили этот прием в «Дрожащих Коленках», перенеся его на восьмушку между третьим и четвертым тактами. Не стоит напоминать, что это чисто инстинктивное достижение молодых исполнителей, не обремененных традиционными техническими познаниями. В июне того же года «Опухшие» превзошли обе группы, интуитивно почувствовав новое направление Zeitgeist[23], и, пожалуй, очень мудро придя к абсолютно простой ритмической фактуре…»
– Эй, Хогг! – крикнул голос, одновременно свирепый и сдобный. Подняв глаза, Хогг увидел другого доктора Уопеншо, иного, чем помнившийся, городского доктора Уопеншо в аккуратном сером, цвета древесного угля костюме, более внушительного по сравнению с тем, который одевался на консультации в деревенской глуши, как для игр на свежем воздухе. Круглое лицо суровое. Хогг покорно вошел в кабинет. – Сядьте, – велел доктор Уопеншо. Хогг сел на какое-то покосившееся ближайшее к двери сиденье. – Сюда, – приказал доктор Уопеншо, яростно швырнув пригоршню воздуха в стул, придвинутый к столу, достаточно массивному для небольших потайных электронных мониторов. Сам обогнул стол со стороны окна, встал за своим вертящимся креслом перед серой в оконном обрамлении Харли-стрит у него за спиной, разглядывая Хогга, который, по-прежнему с «Kvadratnymi kluchami» в руке, шаркал вперед. – Ну, хорошо, – с кислой благосклонностью сказал доктор Уопеншо. Консультант с пациентом одновременно сели.
– Зима уже скоро, – завязал Хогг беседу. – Очень быстро холодает по вечерам. С огоньком еще можно жить, так сказать. – Вдруг заметив демонстративно пустую каминную топку в кабинете доктора Уопеншо, добавил: – Не подумайте, будто я это в каком-то критическом духе. Просто хотел сказать, холодновато становится по вечерам. – Доктор Уопеншо не сводил с него презрительного взгляда; Хогг все больше смущался. – Я имею в виду, одни чувствуют холод сильнее других, так сказать. Но, – потрясенный окаменением доктора Уопеншо, он безнадежно выискивал чуточку прежней теплоты, – никто не отрицает, уж поздняя осень, если вы меня извините за подобное замечание…
– Молчать! – крикнул доктор Уопеншо. («Нет-нет, не надо», – всхлипнул пациент в приемной.) – Говорить буду я. – Но только швырнул через стол толстую книгу в зеленой бумажной обложке. Хоггу уже стали надоедать швыряемые ему книжки, хотя он и ее все же ловко поймал, как ту, первую, теперь лежавшую у него на коленях. – Смотрите, – приказал доктор Уопеншо. – Страница 179. Читайте, дружище.
Хогг довольно нежно ощупал книгу. Понял, что это верстка. В давнем прошлом он, будучи абсолютно другим человеком, работал над верстками собственных произведений, совсем тоненькими пробными оттисками стихов. А теперь с определенной завистью листал толстую прозу, восхитившись названием.
– «Реабилитация», – вслух прочел он. – Раньше было много такого. Ф.Р. Ливис[24] и прочие. Назывались «Новая школа критики». Теперь все переменилось. Другие идеи, цветистые названия. «Романтический оргазм», я видел в одном магазине. Еще «Свеча между ляжками». Много названий заимствуют у бедняги Дилана[25], знаете, который умер. Приятно снова встретить доброе старомодное название, вроде этого. А вот это, – робко, однако с намеком на прежнюю авторитарность сказал он, наткнувшись в конце концов на страницу 179, – неправильный знак вычеркивания и связки, если вы мне простите такую поправку. Надо дужку на кончике палочки…
– Читайте, старина, читайте! – И доктор Уопеншо трижды грохнул по столу кулаками. Хогг с изумлением прочел, что было велено. Доктор Уопеншо тихонько барабанил по крышке стола, как будто успокаивал хотя бы пальцы, – три такта левой рукой против двух правой, – словно исполнял какую-то детскую чепуху Бенджамина Бриттена с мелодичными чайными чашками, оловянными свистульками, но и с уже состарившимся Питером Пирсом[26]. – Ну? – спросил он наконец.
– Знаете, – сказал Хогг, – кажется, этот случай очень похож на мой собственный. Вот тут тип, вы его называете «К», был поэтом, поэтому оставался в затянувшемся подростковом возрасте. Сидел подолгу в уборной, стихи писал, – как бы в утробе, вы тут говорите, только это, конечно, полнейшая ерунда, – а та самая женщина его заставила на ней жениться, получился скандал, он сбежал, потом пробовал вернуться к прежней жизни, писать стихи в уборной и прочее, и ничего не вышло, поэтому он попытался покончить с собой, потом вы его вылечили путем переориентации личности, как тут сказано, он превратился в полезного гражданина, забыл про поэзию, и… Ну, – сказал Хогг, – если можно сказать, поразительное совпадение, можно сказать. – Постарался просиять, но мрачный взгляд доктора Уопеншо не лучился.
Доктор Уопеншо наклонился над столом и с ужасающим самообладанием и спокойствием молвил:
– Чертов дурак. Это вы самый и есть.
Хогг слегка нахмурился.
– Но, – сказал он, – быть того не может. Тут сказано, что у этого самого «К» были бредовые мысли, будто другие крадут его произведения и снимают по его стихам фильмы ужасов. Это ж другой случай, правда? Я имею в виду, тот самый чертов Роуклифф взял сюжет моего «Ручного зверя» и сделал из него чертовски поганое итальянское кино. Даже название помню. В Италии называлось «L’Animo Binato»[27], из Данте, знаете. Двуединое по природе животное, или что-то такое, а в Англии «Сын Инопланетного Зверя». – Вчитался внимательней, еще больше нахмурился. – А что это, – сказал он, – вообще за дела насчет сексуальной одержимости того самого олуха «К» своей мачехой? Этот олух не может быть я. Вы же знаете, как я ее ненавидел, я ж вам рассказывал. И, – сказал он, вспыхнув, – про мастурбацию в уборной. И по поводу тонкой женщины, пытавшейся превратить его в настоящего женатого мужчину. – Он поднял глаза, отведя серьезный взгляд от смазанного (четвертого, пятого или какого там) печатного личного экземпляра доктора Уопеншо. – Та самая женщина, – четко вымолвил Хогг, – никакая не тонкая. Она сука. Ей были нужны мои деньги, она их получила; ей требовалась моя честь и слава. То есть после кончины, – добавил он без особой уверенности. – Хотела остаться в моей биографии, если та будет написана. – Большой дорогостоящий кабинет попробовал это на вкус, передернулся, сморщился, скушал.
– Понимаете? – спросил доктор Уопеншо, приподнимая верхнюю губу. – Честно скажете, что понимаете, старина? Самая элегантная в Европе женщина, руководящая лучшими в мире поп-группами?
Хогг вытаращил глаза, слыша такой намек на свидетельство о знакомстве прославленного консультанта с очень вульгарным миром (он знал о нем все, с собачьим усердием каждый день до открытия бара читал «Дейли миррор»). И сказал:








