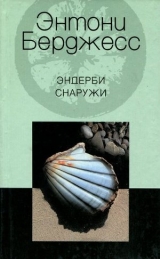
Текст книги "Эндерби снаружи"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
– Я холода не чувствую. Меня не пугает холодное море. – Старцы, как в аллегории на титульной странице «Панча», затрусили прочь – зима или война, спад промышленного производства или сплошь плохой год, – от явления юности, мира, весны, смены правительства. Они уходили со скрипом и стонами, фыркая, хромая, содрогаясь от атеросклеротических болей в ногах. Один-другой устало махнули Эндерби с безопасного расстояния, из-за закрытых стеклянных дверей. – Значит, можно снять? На пару дней. Вперед заплатить?
– Нет, нет, нет необходимости… Безусловно. Un llave[156], Мануэль.
– Numero ocho[157], – улыбнулся Мануэль.
Все – Тетуани, мывший стариковские стаканы из-под виски, Антонио из кухонных дверей, Мануэль с площадки для загара со свернутыми зонтами, Эндерби, повернувшийся в своем кресле, – смотрели, как она мчится прыжками по пустым пескам к морю, в какой-то малиновой чепухе, со свободно распущенными волосами. Эндерби в ярости повернулся к столу. Взял бумагу, свирепо написал: «Ты знаешь, сука, что мою жизнь сгубила. А еще стих украла, отдала своему богохульному лживому и продажному Лазарю. Ну, просто так не отделаешься. Одно из украденных стихотворений уже было опубликовано в моем сборнике. Я в суд подам, и вам всем плохо будет». И увидел стоявшую Весту, хладнокровную, нарядную, в дакроне без единого пятнышка, невозмутимо заявлявшую, что ей плохо не будет, только ее губастому творению, с которым в любом случае дело идет к концу, пик уже позади, приближается время хаотопоэтических групп, дуэта под названием «Лизергин с Диэтилом»[158], «Большое Д с Кубом», «Ястреб и Синильная Кислота». Или того хуже. Эндерби взял другой лист бумаги и написал:
Одр вонючий, неисправимый и страшный,
Скрючивается под дышлом,
Жилы мошонки тянутся к селезенке,
Пустой день извергает блевотиной
Семя скуки и…
И, и. Подпиши, отправь в проклятую Псиную Тошниловку, покажи, что, если пожелаешь, побьешь их на их собственном поле, только ради такой игры, по-уокеровски выражаясь, не стоит дверную ручку поворачивать. И, amigo луковый, я знаю, что написано в carta[159], которое ты хочешь доставить в мое жилье, где бритву, защитную накладку к очкам, пару грязных носовых платков давным-давно сперли те, кого жирный Напо той ночью еще не выдал полиции. Хох. Это какое-то слово на их языке, а не исковерканная фамилия на другом. А в письме, разумеется, сказано, что он видел, кто это сделал, hombre, и сообщил Скотленд-Ярду. Забавное и, пожалуй, подозрительное отсутствие предательства со стороны испанца-предателя. Эндерби чувствовал неблагодарную мрачность. Все готово для писания, а он писать не может. Один незаконченный черновик за другим. Вновь угрюмо перечитал октаву сонета.
Август на гинее при полном параде. Восемнадцатый век, век Августа; гинея – маленькое солнце. Солнце как следует не изучить. Вот именно, настоящее солнце – Бог, тогда как городская жизнь принципиальный продукт разума, который солнце размягчает. Больше никаких королей-солнц, одна Ганноверская династия[160]. Но любой просочившийся сквозь стекло луч представляет собою колонну. Значит, без солнца, фактически, не обойтись, оно дает жизнь, поэтому фильтруй его через закопченное стеклышко, пользуйся его энергией, возводя неоклассические сооружения, архитектурные или литературные (скажем, «Рэмблер», «Спектейтор»; в слове «луч» есть нюанс, намекающий на остроту ума). Классическое ремесло не жалует дугу и арку. Да, парусники, колесившие по известному миру, не затопленному разумным Богом, и отвергнутый завет arc-en-ciel[161]. Что-то вроде того. Для циркуляции (крови, идей) нужны трубы, а трубы имеют прямую конфигурацию. Вполне понятно. Гинея круглая лишь для того, чтоб катиться по прямым улицам, или по чему-то еще, какого-нибудь коммерческого предприятия. На поверхности круглый диаметр труб не заметен, в сущности, трубы связывают точки кратчайшим или в высшей степени силлогическим способом. Возвращаясь к трубам, вспомним о трубках, выкуренных в кафе, где циркулируют новости и идеи. А парусник связан с кофейней Ллойда[162]. Батоны, подаренные Церерой, которой смешно, Тирсиса зовут Джек. Небольшая подмена ради ритма, но, отвергая солнце, ты отвергаешь жизнь и можешь уже принимать ее лишь в стилизованной мифологической форме или в виде эклоги. Джек ведет нас к Жан-Жаку. Круссо, ворочая на плоту весло, ищет остров разума Джонаджека… Дефо все это начал: победа Разума над Природой. Слушатель же услышит: Крузо. Джек возвеличился в Джона, прославление простого естественного человека. Потом сделай Природу разумной, и начинаешь впадать в антитезу разума, становишься романтиком. Почему? Весьма трудное дело, продолжение.
– Чудно. – Она вбежала, мокрая, отжала пучок волос, замочив пол. Жирные капли делились на золотистом теле. Ступни с высоким подъемом оставляли следы Пятницы. Глядя на круглые подвижные ягодицы, Эндерби умирал от ярости и сожаления. – Я, как дурочка, взяла все, кроме полотенца. Не могли бы вы… – Девушка улыбалась, с подбородка капало, словно она ела виноград.
– Минуточку. – Он пропыхтел к себе в спальню, принес банное полотенце, пока, если вообще, не использованное, а еще цветистый халат, не сильно запачканный, в котором умер Роуклифф. Набросил его ей на плечи. Чистая золотая кожа без пятнышка и до смешного нежный пушок. Она энергично насухо вытерла волосы, благодарно улыбаясь. С улыбкой замаячил Мануэль. Она ему улыбнулась в ответ. Эндерби попытался улыбнуться.
– Можно мне, – улыбалась она, – выпить? Чего-нибудь терпкого. Дайте-ка посмотреть… – Бутылки улыбались. Нет, черт возьми, Эндерби этого не допустит. – Виски-сауэр[163].
– Уизки?..
– Я сам сделаю, – сказал Эндерби. – Принеси яичный белок. Clara de huevo. – Мануэль помчался на кухню. Она целиком растерлась блистательной мантией мертвого Роуклиффа. – Непростое искусство, – тарахтел Эндерби, – приготовление виски-сауэр. – Похоже на хвастовство. – Американцы его очень любят. – Громко треснуло яйцо. Она все растиралась и растиралась. Эндерби пошел за стойку бара, поискал пластмассовый лимон, содержавший лимонный сок. Мануэль принес чайную чашку с яичным белком и минуту-другую вытаскивал оттуда треугольнички скорлупы, глядя, как она растирается, а не как его хозяин смешивает коктейль. – Вот, – довольно скоро сказал Эндерби.
Она взяла, хлебнула.
– М-м-м. Никто больше не выпьет?
– Мне почти пора, – сказал Эндерби, – выпить предобеденную, если я правильно выражаюсь. – Ему казалось, что он глупо улыбается, наливая себе чистый скотч.
– Сейчас расплатиться или вы мне потом счет выпишете? И можно мне здесь пообедать, говоря о предобеденной?
– О, – сказал Эндерби, – я вас угощаю. Такой здесь обычай, первая выпивка для нового клиента за счет заведения. – И: – О да. Можете съесть бифштекс с салатом или что-нибудь в этом роде. Или спагетти с чем-нибудь. Фактически, все, что пожелаете. То есть в разумных пределах. – В разумных. Это его вернуло к проклятому стиху. К своему ошеломлению он увидел, как она наклоняется над его столиком, откровенно заглядывая в бумаги.
– М-м-м, – сказала она, еще отхлебнув. – Вы, безусловно, здорово отделали эту особу, верней суку.
– Это, – сказал засуетившийся Эндерби, выходя из-за стойки, – не имеет никаких последствий. Я его не пошлю. Просто мысль, вот и все. Интимная. – Но ведь именно интимные причиндалы ты торопишься обнажить, не так ли, когда… Он чувствовал какое-то тепловатое удовольствие, обещавшее теплоту, а совсем не насилие. Она уселась в его каминное кресло. И начала читать октаву, чуть хмурясь. Возникала какая-то ученическая аура. Эндерби пошел, сел на складной стул возле своего стола.
– Садитесь поближе, – пригласила она. – Что это такое?
– Ну, – заболтал Эндерби, – сонет, очень строгий. Фактически, попытка связать эпоху Просвещения с Французской революцией. Или, на другом уровне, рациональность и романтизм можно считать аспектами друг друга, если вы понимаете, что я имею в виду. – Он, сидя, подвинулся к ней, не вставая, как в инвалидном кресле. – Я показываю, что романтические кривые возникают из классической прямоты. Понимаете, что я имею в виду? – Потом мрачно себе: наверняка нет. Молодая. Возможно, оплакивала смерть Йода Крузи, а после воскрешения отправилась на какую-нибудь евангелическую встречу на свежем воздухе.
Она плотно закрыла глаза.
– Сохраняйте в секстете форму терцета, – сказала она. – Вдох между cdc и dcd. Как классическая колонна стала готической аркой? По-моему, ее солнце расплавило. А потом нужна гильотина. Очень рациональная машина, извините за рифму, но вам ведь нужны рифмы, правда?
– Что, – серьезно спросил Эндерби, – вы желаете на обед? Видите, вон Антонио ждет, и готов приготовить. – Антонио стоял в кухонной двери, стараясь улыбнуться, одновременно что-то жуя. Она кивнула, не улыбаясь, но очаровательно надув губы, задумавшись. Гильотина, машина, Сена, сцена.
– А вы что будете есть? – спросила она. – Я буду то же самое, что и вы. Только никакой рыбы. Терпеть не могу рыбу.
– Ну, – пробормотал Эндерби, – я обычно только… Понимаете, мы закрываемся на сиесту, и тогда я обычно…
– Терпеть не могу есть одна. Вдобавок нам надо это доработать. Есть что-нибудь мясное?
– Ну, – сказал Эндерби, – я чаще всего ем нечто вроде похлебки. С говядиной, с картошкой, с репой и прочим. По правде сказать, не знаю, понравится ли вам.
– И с маринованным луком, – сказала она. – И вустерского соуса побольше. Я иногда люблю плотно поесть. – Эндерби зарумянился. – Иногда люблю спускаться на землю.
– Вы здесь с родителями? – Она не ответила. Наверно, с деньгами. – Где остановились? В «Рифе»? В «Эль Греко»?
– М-м-м, смутно помню. Выше на холме. Ну, давайте. Попробуйте.
– А? – И пока Тетуани накрывал в оранжерее, он попробовал.
Ищет остров разума Джонджека, не желая в прострации
Ждать, чтобы солнце-мститель, изливаясь златом,
Размягчило столпы, и возникла картина
Тени готической, где восседает богиня в наряде богатом…
– Вольта[164] недостаточно сильная. А рифмы слишком слабые. А это самое «чтобы» просто возмутительно.
А потом за жирной похлебкой, слишком богато приправленной соусом, с маринованным луком, схрупанным побочно целиком, за бутылкой густого красного местного вина со вкусом угря и квасцов, они, скорей он, буквально потели над остатком секстета.
И наконец возникла рациональная машина
Навязанная человечеству технократом,
Запатентованная под названием гильотина.
– Ужасно, – объявила она. – Чертовски неуклюже. – И дыхнула на него (хотя юная леди не должна есть, из-за известного запаха лука, лук) луком. – Я бы теперь сыру съела, – прохрустела она. – Есть у вас чеддер «Блэк даймонд»? Если можно, не слишком свежий. Я люблю немножко зачерствевший.
– Не хотите ли также, – смиренно спросил Эндерби, – очень крепкого чаю? Мы его очень хорошо завариваем.
– Только чтоб был по-настоящему крепкий. Я рада, что у вас хоть что-нибудь хорошо получается. Эти строчки – чертовский позор. А еще поэтом себя называете.
– Я не… я никогда… – Но она улыбалась при этих словах.
3
В ту ночь она снилась Эндерби. Собственно, это был кошмар. Она играла на пианино в своем легком зеленом платье шайке певцов, которые размахивали кружками почти перед закрытием. Однако это был не столько паб, сколько длинный темный гимнастический зал. На крышке пианино лежал, зевая, черный пес, и Эндерби, зная, что это дьявол, пытался предупредить ее, но она и певцы лишь смеялись. Впрочем, в конце концов он ее, протестующую, вытащил в зимнюю ночь (хотя она, кажется, холода не ощущала) какого-то прокопченного северного индустриального города. Надо было быстро убираться, в автобусе, в трамвае, в такси, иначе за ней погонится пес. Он торопливо тащил ее, по-прежнему сопротивлявшуюся, к главной улице и без труда остановил шедший на юг грузовик. Она начинала считать приключение забавным, принялась шутить с шофером. Только не видела, что шофер – пес. Эндерби пришлось на ходу открыть дверцу кабины, снова вытащить ее на дорогу, голосовать поднятым пальцем. Опять пес. И опять. Новые шоферы всегда оказывались старым псом; больше того, хотя гавкали, будто едут на юг, почти сразу же поворачивали влево и влево, увозя пассажиров обратно на север. Наконец Эндерби потерял ее и очутился в городе, очень похожем на Танжер, хотя и слишком знойном для Северной Африки летом. У него была комната, только на самом верху высокой лестницы. Войдя, он без всякого удивления увидал эту самую девушку и ее мать, старшую мисс Боланд. Сердце грохнуло, он побледнел, они ему любезно подали стакан воды. А потом, хотя ветра не было, оконные ставни задребезжали, и он услышал далекий, довольно глупый голос, несколько напоминавший его собственный. «Я иду», – сказал голос. Теперь девушка визгливо крикнула, что это пес. А он плыл, преодолевая лиги океана, хватая ртом воздух. И проснулся.
У него началась гадкая диспепсия, и он, включив лампу возле кровати, принял десять таблеток бисодола. Обнаружил у себя во рту слово любовь в виде слабого остаточного вкуса маринованного лука, и отверг его. Луна слабая. Какие-то пьяные мавры скандалили вдалеке, а еще дальше настоящие псы залаяли по цепочке. Ничего подобного ему не надо. Все кончено. Он хлебнул из бутылки «Виттелы», рыгнул браррх (она тоже рыгнула, всего один раз, причем не извинилась), потом протопал в пижамной куртке в ванную. Полоса света над зеркалом неожиданно наградила его ворчливым образом Поэта. Он уселся на унитаз, положил на колени большой том гетеросексуальной порнографии вроде писчей доски, и попытался претворить сон в стих, посмотреть, что все это такое. Работа шла медленно.
В углу темного зала любовь он увидел свою,
Щеки горят, и веселый оскал,
Руки машут, и пальцы летают, как стая вспорхнувших птенцов,
Выставлены в ухмылке сгнившие зубы гульнувших певцов,
Окруживших ее; тогда как на краю
Пес, никем не замеченный, ждал, развалившись лежал.
Она не захотела назвать свое имя, сказала, значения не имеет. Ушла часа в три, вновь в зеленом, размахивая пляжной сумкой без полотенца, не оставив никакого намека, куда направляется. Мануэль, позже вышедший получить заказанные сигареты, сказал, что видел ее выходившей из Псиной Тошниловки. Эндерби заревновал; неужели она помогает грязным наркоманам с их грязными наркоманными виршами? Кто она, чего хочет? Анонимная агентша Британского художественного совета, посланная сюда, чтобы поднять культуру в мелких частностях, по выражению Блейка?
Он заметил, и вскрикнул, и выволок ее из смеха.
На оживленной дороге стоял,
Прыгая в грузовики, готовые мчать на спасительный юг,
Тайком поворачивая на север. В пастях шоферюг,
Отвечавших на глупые шутки себе на потеху,
После стука захлопнутой дверцы кабины песий оскал мелькал.
Пусть лучше она перестанет являться в ребяческих снах, ибо уже слишком поздно. Он попал на небеса, правда? Завтра утром его в баре не будет (фактически, сегодня утром); он уйдет на прогулку.
Наконец, он, усталый, покинул дневной жаркий гул,
К своей лестнице держа путь,
И нисколько не удивился, найдя мать и дочь,
Ее самую. Она ему воды подала, чтобы чем-то помочь,
Содрогнулись в безветрии ставни.
Все перемешано. История не уложится в другой станс, а этот получается слишком длинным. И рифмы безобразные.
«Я иду», – тихий голос мелькнул.
«Боже, Боже мой, пес», – прокричала она.
Он же сквозь мили свинцовой воды со дна
Отчаянно пытался вдохнуть.
Хорошенько это обсудить с кем-нибудь за виски или мачехиным чаем, вот что нужно. Он вдруг с ошеломлением вспомнил: должен ли поэт быть один? Перевел на язык кишечника, мрачно высказал в тихой ночи, сократив соответствующие мышцы, но шум вышел пустой.
И вот она снова здесь, в танжерском солнечном лимонном свете, захватив на сей раз полотенце. Старики, должно быть напуганные пороховым грохотом своих каблуков, не явились, но нашлись другие посетители. Два моложавых киношника, приехавшие в Марокко искать места, которые сошли бы за Аризону, без конца друг другу йякали, жадно подметая поданные Антонио tapas: жирные черные маслины; хлеб с жареным горячим ливером; испанский салат из лука, помидоров, уксуса, резаного перца. Англичанин с беглым, по очень английским испанским рассказывал Мануэлю о своей любви к бейсболу, к игре, за которой он страстно следил, когда жил в трех милях от Гаваны. Тихий мужчина, возможно русский, сидел на углу стойки, настойчиво, но без эффекта, поглощая испанский джин.
– Не стоит писать, – сказала она, – подобные стихи. – Переоделась в малиновое платье, еще короче зеленого. Бейсбольный aficionado[165] с красивой легкой сединой постоянно бросал на нее откровенные взгляды, но она как бы не замечала. – Может быть, вас он трогает, – продолжала она, – под эмоциональным воздействием собственно сна. Только ведь это жуткие старые образы секса, не так ли, не больше. Я пса имею в виду. Север – опухоль. И вы пытаетесь защитить меня от самого себя, или себя от меня, – глупо то и другое..
Эндерби горько взглянул на нее, желанную и деловую. И сказал:
– Там любовь в первой строчке. Прошу извинить. Я, разумеется, это в виду не имел. Просто сон.
– Ладно, мы все равно это вычеркнем. – И она скомкала труд трехчасовой темноты, бросив на пол. Тетуани его радостно подхватил, потащил упокоиться с остальным мусором. – По-моему, – сказала она, – нам надо пойти погулять. Надо доработать другой сонет, правда?
– Другой?
– О котором вы упоминали вчера. О мятеже ангелов или что-то вроде того.
– Я не уверен, что… – Эндерби нахмурился.
Она энергично толкнула его в плечо и сказала:
– Ох, да не смущайтесь вы так. У нас мало времени. – И потащила его из бара, оказавшись сильнее, чем с виду можно было подумать, а посетители, сплошь новые, сочли Эндерби старым клиентом, которому уже хватит.
– Слушайте, – сказал Эндерби, когда они стояли на эспланаде, – я вообще ничего не понимаю. Кто вы такая? Какое имеете право? Не то, – объяснил он, – чтобы я не ценил… Но действительно, если подумать…
Со свистом хлестал довольно холодный ветер, но она холода не ощущала, подбоченившись в смехотворно коротком платье.
– Вы просто время теряете. Ну, как там начинается?
Они шагали в сторону медины, и ему удалось кое-что бросить на ветер. Она словно велела ему лучше двигаться вверх, чем вниз.
Устав до тошноты от песен сикофантов, устав
До тошноты от ежедневных вынужденных игр…
Крепкие пальмы вдоль всего морского берега, кроны шевелит тот самый ветер. Ослы, нагруженные вьючными корзинами, время от времени ухмыляющийся верблюд.
– Общая мысль, да? Небеса в виде начальной государственной школы. Вы ходили в государственную начальную школу?
– Я ходил, – сообщил Эндерби, – в католическую дневную школу.
Была пятница, правоверные шаркали в мечеть. Имам, биляль, или кто он там такой, клокотал в мегафоне. Коричневые мужчины берберского племени шли на голос, хотя бросали на ее ноги взгляды, горевшие откровенным, но безнадежным желанием.
– Все это куча суеверной белиберды, – объявила она. – Что бы вас ни искушало, не возвращайтесь к этому. Используйте как миф, сплошь очистите от образов, но никогда больше в это не верьте. Сгребите в кулак наличные, а остальное развейте по ветру.
– Индифферентный поэт Фицджеральд. – Эндерби любил ее за такие слова.
– Очень хорошо. Давайте послушаем что-нибудь получше.
До тошноты устав от клики местных глав,
Бомба в его мозгу мурлыкнула, как тигр…
Полдник в ресторанчике, битком набитом формой военного лагеря неподалеку от отеля «Эль Греко». Дело вели двое влюбленных друг в друга мужчин, американец и англичанин. Красивый юный мавр, видимо официант, сам был влюблен в англичанина с льняными волосами, бронзового, дерзкого, покрикивавшего на повара. Мавр не умел скрывать чувства: большая нижняя губа дрожала, глаза мокрые. Эндерби с ней взяли скучный и тощий гуляш, который она громко объявила чертовски поганым. Любовник-англичанин вскинул голову, издал на альвеолах раздраженный аффрикат, потом включил музыку: сексуальный петушиный американский голос запел под Малеров оркестр скучную тощую песню кафе тридцатых годов. Она приготовилась крикнуть, чтоб выключили проклятый шум, который вмешивался в их рифмы.
– Прошу вас, не надо, – попросил Эндерби. – Мне еще жить в этом городе.
– Да, – сказала она, твердо глядя на него зелеными глазами с большим количеством золотого металла. – У вас храбрости мало. Кто-то или что-то вас размягчило. Боитесь юности, эксперимента, современности, черной собаки. Когда Шелли объявил поэтов непризнанными законодателями мира, это на самом деле не фантастический образ. Только точно употребляя слова, люди начнут друг друга понимать. Поэзия не дурацкое легкое хобби, которым можно заниматься в самом маленьком во всей квартире помещении.
Эндерби вспыхнул.
– Что я могу сделать?
Она вздохнула.
– Сначала полностью избавьтесь от старья. А потом вперед.
Выбей номер. Если арифметический счет,
Если краткое деление не разделяет основ,
Вспыхивает обида, и он прочтет
Огненные письмена: этот цветок ты сорвать не готов.
– Пора, – сказала она, – приступать к работе над длинной поэмой.
– Я однажды попробовал. А тот гад украл ее и опошлил. Хотя, – взглянул он вниз по холму в сторону моря, – расплатился за это. Тихонько обгладывается, завернутый в «Юнион Джек».
– Это можно куда-нибудь вставить. Связка. Потоп Девкалиона и Ноя. Африка и Европа. Христианство и ислам. Прошлое и будущее. Черное и белое. Две скалы, что глядят друг на друга. Может быть, в Гибралтарском проливе есть подводный туннель. Впрочем, Малларме сказал, что поэзия рождается не из мыслей, а из слов.
– Откуда вы все это знаете? Такая молодая.
Она довольно-таки грубо плюнула.
– Ну, опять двадцать пять. Больше интересуетесь ложными разделениями, чем истинными. Ну, давайте закончим секстет.
Секстет закончится в пивной неподалеку от сукка, или сокко, за стаканами тепловатого анисового ликера. Однообразные длинные хламиды, капюшоны, пончо, погонщики ослов, громко клокочущие магрибцы, дети, ковырявшие в носу, протягивая другую руку за милостыней. Эндерби сочувственно раздал им монетки.
И поэтому он сорвал его. Сразу вскинулись
Краски, звуки. Звонок электрический караул пробудил,
На призыв его аггелы ринулись,
Он задумался, постояв на краю, потом ад сотворил.
Световая рефракция грянула, двинулась,
Он низвергся, и дьявольский гром раскатил.
– Насчет дьявольского, – объяснил Эндерби. – Это на самом деле должно означать негодующее восхищение. Но толк будет, только если читатель знает, что я заимствовал эту строчку из стихотворения Теннисона про орла.
– К черту читателя. Хорошо. Надо, конечно, пройтись как следует, но это можно сделать на досуге. Я имею в виду, когда меня не будет. Теперь лучше посмотрим Горациеву оду. Можно у вас пообедать?
– Я бы лучше куда-нибудь вас повел пообедать, – сказал Эндерби. И: – Вы говорите, когда вас не будет. Когда уезжаете?
– Улетаю завтра утром. Около шести.
Эндерби задохнулся.
– Недолго у нас пробыли. Можно очень хорошо пообедать в заведении под названьем «Парад». Могу взять такси и заехать за вами около…
– Все еще любопытствуете? Прежде вы не особенно интересовались людьми. В любом случае, судя по вашим рассказам. Отец оскорбил вас, женившись на мачехе, мать оскорбила слишком ранней смертью. И прочие упоминавшиеся мужчины и женщины.
– Отец у меня был хороший, – возразил Эндерби. – Я против него никогда ничего не имел. – И нахмурился, впрочем не мрачно.
– Много лет назад, – сказала она, – вы за свой счет издали маленький томик. Разумеется, изданный очень плохо. Там был стих под названием «День независимости».
– Будь я проклят, если помню.
– Стих довольно плохой. Начинается так:
В прошлом выступившего
Против отца с мечом
Завязывали в суровый мешок,
Разъяренную обезьяну сажали на горбушок,
Добавляли визжавшего попугая, чей щелк
Завывал, задыхаясь во тьме, зная толк,
Словно волк,
Сквозь змеиный скользящий шелк.
– Я не мог этого написать, – возразил обеспокоенный теперь Эндерби. – Никогда не писал ничего такого плохого.
– Нет, – сказала она. – Слушайте.
А потом он барахтался в море.
Только все это байки и сказки.
Нынче у нас все иначе,
На белом свете нашел я удачу,
Смыв с ковра прежние краски.
И, узнав, что конец его скор,
Выхожу на широкий простор.
Щелчком пальцев отбросил сомненья
В неуместности собственного рожденья,
Обрел право на землю и силу,
Видя в себе мужчину,
Сбрасывая чешую старой кожи.
– Это кто-то другой, – настойчиво утверждал Эндерби. – Честно, это не мое.
– А мать любили потому, что никогда ее не знали. Знали только, что она могла быть вашей мачехой.
– Теперь все иначе, – умоляюще заверял Эндерби. – Я простил свою мачеху. Я ей все простил.
– Очень великодушно. А кого вы любите?
– Я к этому только что подошел, – объяснял Эндерби, готовясь выбросить флаги капитуляции. – Вот что я хотел сказать…
– Ладно, ладно. Не заезжайте за мной в такси. В любом случае, вам неизвестно куда. Я сама за вами заеду около восьми. Ну, идите домой, поработайте над чертовой одой Горация. Нет, меня здесь оставьте. Мне в другую сторону. – Она казалась беспричинно раздраженной, и Эндерби, живший однажды, пусть коротко, с женщиной, подумал: может быть… Она уже достаточно взрослая, может быть, у нее…
– Говорят, – любезно предложил он, – джин с горячей водой творит чудеса. – Она как бы не слышала. Как бы отключила Эндерби, вроде телевизионной картинки, слепо на него глядя, как на ослепший экран. Вообще, очень странная девушка. Однако он думал, что, взяв самое лучшее от луны, на сей раз сумеет справиться со страхом.
4
Она красиво оделась к вечеру: бронзовые чулки и короткое, но не слишком короткое золотистое платье, на загорелых плечах золотой палантин, волосы сзади зачесаны вверх. На левом запястье золотая цепочка с маленькими подвешенными фигурками. Свет в ресторане был приглушен, и Эндерби не видел, что собой представляют или символизируют эти фигурки. Духи, напоминавшие что-то печеное, – нежное, и одновременно арфодизиакальное суфле, сдобренное изысканными ликерами. На Эндерби был один из эдвардианских костюмов Роуклиффа, довольно неплохо сидевший, и даже золотые часы Роуклиффа с цепочкой. Одно ему не нравилось в том заведении: присутствие гробовщика, клеившего коллажи в Псиной Тошниловке, видимо, постоянного уважаемого клиента. Он сидел за столиком напротив, ел руками ножку некой жареной дичи, приветствовал девушку фамильярным бурчанием, а теперь, обкусывая с костей мясо, неотрывно сурово смотрел на нее. Эндерби он, должно быть, не помнил. Она ему в ответ бросила, как американская стюардесса:
– Хай.
На этот раз она не собиралась есть жирную похлебку с маринованным луком и мачехиным чаем. Внимательно читала меню, будто в нем содержалась набоковская криптограмма, заказала зайчонка под названием «капуцин», маринованного во фруктовом соке, фаршированного своей собственной и свиной печенкой, мятым хлебом, трюфелями, консервированной индюшатиной, подававшегося с соусом, полным красного вина и сливок. Предварительно съела небольшую порцию закуски из заливного вепря. Смущенный Эндерби сказал, что возьмет бараний язык en papillotes[166], что бы это ни было. После сухого мартини, который она отослала обратно, не признав ни сухим, ни достаточно охлажденным, пили шампанское – «Боллинжер» 1953 года. Она его не признала особенно привлекательным, только, видимо, лучшего не было, поэтому по ее требованию в лед поставили другую бутылку, пока пили первую. Эндерби с беспокойством подмечал признаки сознательного стремления напиться. Вскоре она, звякая вилкой, сказала:
– Воображаемое превосходство над женщинами. Презрение к их мозгам порождает притворное презрение заодно к телу. Потому только, что вы их тело не можете получить.
– Простите?
– Ювенилия[167]. Одна из ваших. – Она тихо рыгнула. – Ювенилия.
– Ювенилия? Но я никогда не печатал никаких ювенилий. – Несколько посетителей бара заинтересовались повторявшимся словом: гормональная инъекция, сексуальная позиция, синтетический курорт? Она начала декламировать с издевательской серьезностью:
Страх и ненависть, как к заплечному палачу,
к Донну и Данте в нем,
к ледяному
таланту, что в сердце пылает огнем,
поцелуй в ворота лабиринта чу
довища. И выносят из дому,
плетут и цепляют тоненькую нить…
– Не так громко, – сказал Эндерби с тихой силой, вспыхнув. Гробовщик поглядывал сардонически над большим блюдом мороженого кровавого цвета.
…теннисной партии, танцев в приходе,
похлопыванья по плечу:
кислый гной продолжают сочить
поры трупа.
Кто-то в баре, невидимый в полумраке, зааплодировал.
– Я этого не писал, – сказал Эндерби. – Вы все время меня с кем-то путаете.
– Да? Да? Пожалуй, возможно. Столько второсортной поэзии.
– Что вы хотите сказать – второсортной? Она сделала большой глоток «Боллинжера», словно цитирование вызвало жажду, рыгнула, не извинилась и продолжала:
– Была еще одна поганая вещичка про знакомство с девушкой на танцах, правда? Опять ювенилия. – А может быть, болезнь, одна из ворчливо-приятно звучащих, вроде сальмонеллы. Она еще хлебнула шампанского и смертельно усталым тоном со слишком резкой артикуляцией процитировала:
Под стеной плача семитские скрипки
Скрежещут свою погребальную песнь
По джунглям, ушедшим под землю, сплетенью лиан…
– Полагаю, – сурово сказал Эндерби, – я имею какое-то право знать…
Все это было раньше, при первом приливе потопа,
А теперь
Лицемерные чувства
Рассыпаются горстью зазубренных стертых монет.
– Я хочу сказать, кроме того, откуда вам это известно, не верю в любом случае, будто это мое.
И на этом фоне выступают
Порывы, неведомо чем порожденные:
Скорлупки забытых страстей.
– Ну, с меня хватит. – Эндерби крепко вцепился в топкое запястье. Она без усилий вырвалась и спросила:
– Слишком жирно для вас? – фыркнув на недоеденный бараний язык en papillotes. – Слишком многое чересчур для вас жирно, правда? Ничего, мамочка обо всем позаботится. Разрешите закончить. – Очень несчастный Эндерби разрешил.
Так мало понимаешь, не видишь ни слов,
Воплощающих мысль, ни стрелы
Указателя к твердой земле, ни сверла
Для буренья живого колодца.
Мне уже не по силам
Выкапывать тебя из стертых монет и разбитых
скорлупок.
Она еще хлебнула пенящегося вина, отрыгнула миниатюрной победной фанфарой, потом с улыбкой махнула гробовщику напротив.
– Очень для него показательно, – констатировал тот.
– Это чертовски нечестно, – громко сказал Эндерби и еще громче гробовщику: – Не суй нос, сволочь. – Гробовщик посмотрел на Эндерби практически без интереса и продолжал есть мороженое.
– Красивые ложные позы, – сказала она. – Претензии. Из претензий большую поэзию не создать.








