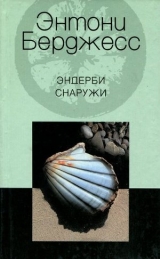
Текст книги "Эндерби снаружи"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
– Я вам говорю, – объяснял Эндерби, – во всем моя мачеха виновата, но теперь кончено. Вы говорите, претензии, – хитро добавил он, – однако весьма памятные претензии. Нет, – добавил он к добавленному, – я этого не писал. Уверен, что не писал. – И был, в любом случае, вполне уверен.
– Я все могу вспомнить, – самодовольно заявила она. – Такой дар. – Потом выдохнула: – Ф-ф-фу. Боже мой, как тут жарко. – И резко сдернула палантин, обнажив сияющие юные плечи.
– Знаете, на самом деле не жарко, – возразил Эндерби. И с надеждой добавил: – Может быть, это шампанское. Может быть, вы себя не совсем хорошо чувствуете.
– Я себя прекрасно чувствую, – провозгласила она. – Во мне солнце играет. Я – чаша, полная южного жара. Замечательный конфликт противоположностей: долгий век остывая в земных глубинах. – Она выпила больше половины первой бутылки, а теперь весьма успешно в секунду расправилась со второй. – Не стану утверждать, что это вы написали, – не вы. Один бедняга. Впрочем, его имя не на воде написано. – Эндерби похолодел при этих словах. – Потомки, – молвила она потом. – Поэт обращается к потомкам. А что такое потомки? Сопливые ребятишки, хвостом таскающиеся за грымзой-училкой вокруг памятников. Чайная чашка поэта с въевшимся кольцом танина. Любовные письма поэта. Выпавший волос поэта, застрявший в давно не мытой щетке. Грешки поэта, надежно, но не навсегда спрятанные. Ребятишкам скучно, все страницы их учебников испещрены отпечатками большого пальца и грязными маргиналиями. О да, они читают стихи. Потомки. Вы никогда не думаете о потомках?
Эндерби опасливо посмотрел на нее.
– Ну, как всякий…
– Незначительные поэты надеются, что потомки сделают их значительными. Великий человек, дорогие мои, пострадавший от насмешливых критиков и пренебрежения публики. Зловонное дыхание над вашим телом. Почтительная цепочка по домику поэта, тыканье пальцем в горшки и кастрюли.
Эндерби вытаращил глаза.
– Я вспомнил сон. По-моему, это был сон. Посыпались горшки, кастрюли, и я проснулся.
– Ну, хватит, давайте прикончим шампанское и пойдем. Не могу больше есть это месиво. Фу, кости левретки в сметане. Пойдем купаться.
– В такой час? И очень холодно, я имею в виду, в море. Кроме того…
– Знаю, вы не купаетесь. Готовите свое тело к почетному погребению. Ничего с ним не делаете. Ладно, тогда поглядите, как я плаваю. – Она налила оба высоких бокала, опрокинула свой, снова наполнила, снова выпила.
– Я хотел сказать… Знаете, это не совсем легко, но… – Эндерби попросил счет: – Cuento, por favor. – Простой незаметный танжерец, думал он. Здесь готовится к погребению. Нет, нет. У него ж дело есть, правда? И еще один вопрос, который лучше выложить сейчас, пока счет не принесли. – Знаю, – напряженно, но убедительно начал он, – большая разница в возрасте. Но если вы посмотрите со своей стороны… Я хочу сказать, мы отлично поладили. Предоставляю вам решать, какой именно характер примут наши отношения. Ничего не прошу. – Очередной гот с пламенными волосами, сверкающий золотом официант-испанец принес счет. Куча дирхемов. Эндерби отсчитывал бумажку за бумажкой за бумажкой из матраса Роуклиффа.
– А вы просто попросите, – предложила она. Шампанское было прикончено, и она перевернула бутылку, держа ее на манер тирса. – Я прямо сгораю от нетерпения.
Гробовщик проворчал что-то вроде «ну и ладно тогда». Она улыбнулась, кивнула.
– Что вы там делали? – ревниво спросил Эндерби. – Вы там были. Я имею в виду, в собачьем заведении. Знаю.
– Я хожу во многие заведения. Маленькая девчонка, хлопотливая пчелка. Мир гораздо больше, чем вы можете себе представить.
Швейцар свистнул petit taxi, taxi chico. На холмистой улице стоял просто ветреный вечер. Грязный старый мавр потащился к ним, предлагая пакетик марихуаны за пять дирхемов.
– Дерьмо, – заявила она. – Разбавленное дерьмо для туристов. Вытащенное из собранных в канавах окурков. – И выпалила старику полный рот кратких слов, похожих на беглый арабский. Вид у старика был шокированный. Эндерби ничему уже не удивлялся. В такси он сказал:
– Так что скажете? Насчет характера отношений…
– Решение вы предоставили мне. Хорошо. Впервые вижу ваше истинное лицо. – Машина катилась к морю. Шофер, усатый тощий мавр в тюбетейке, постоянно оглядывался направо, чтобы посмотреть на нее. Она стукнула его по плечу:
– Гляди, раздолбай, на дорогу. – И обратилась к Эндерби: – В данный момент мне хочется только купаться. Не хочется никаких признаний, характера отношений… – Потом замолчала, и Эндерби, приняв это за проявление скромности, тоже молчал. Доехали до ближайших ворот, оставалось пересечь лишь единственную дорожку к лестнице на пляж, и… Но «Акантиладо Верде» было закрашено, а новое название пока лишь очень слабо намечено по трафарету. Брат Мануэля занимался такими вещами.
В резком свете бар выглядел мрачным и функциональным.
– Проходите, – пригласил Эндерби, ведя ее к себе в комнату. Там стояли настольные лампы с абажурами теплых цветов, одновременно вспыхнувшие, когда он щелкнул у дверей выключателем. Оставалось еще много мавританских вещиц Роуклиффа, но уже образовалось большое пустое пространство на полках, которое надо заполнить. Чем? Он не так много читает. Может быть, надо больше читать, поддерживать связь с потомками, к которым она, в конце концов, почти принадлежит. Читать о средствах массовой информации, о раскрытии душ посредством наркотиков. И всякое такое. Эндерби приобрел одеяло из верблюжьей шерсти с неопределенным рисунком, а также новые простыни, новый матрас. В постели на полу, посреди пола, по-прежнему было что-то берберское, скалистое, роуклиффское. Эндерби еще не совсем обжился с вещами.
– М-м-м, – промычала она. – Не попросите ли своего повара позаботиться насчет кофе? Я потом люблю выпить кофе.
– О, его нет. Все спят. Yo, – с усилием смошенничал Эндерби, – duermo solo. – И добавил: – Вы купаться, конечно, не сможете. Забыли, и я позабыл. Вам же не в чем купаться. – И улыбнулся.
– Правильно, – согласилась она. – Не в чем. Буду купаться без ничего. – И прежде чем Эндерби сумел что-то сказать, метнулась к книжным полкам, схватив фолио с золоченым обрезом.
– Это, – объявил Эндерби, – не мое. После него осталось. Пожалуйста, не смотрите. – Дурак, надо было подумать. – И не купайтесь без ничего. Слишком холодно, запрещено законами, придет полиция, страна мусульманская, очень строго насчет неприличия.
– Неприличие, – повторила она, пролистывая том. – Да. Боже мой боже мой боже мой. Похоже, не столько приятно, как больно.
– Прошу вас, не надо. – Он имел в виду две вещи, чувствуя желание заломить руки. Но она бросила книгу на пол и принялась снимать платье. – Я сам сделаю кофе, – вызвался он, – есть довольно хороший коньяк. Не надо, пожалуйста.
– Ладно, пока отложим. – Сбросила туфли на шпильках, стала сдирать чулки, сидя в кресле у постели Эндерби, чтобы легче было это сделать. А потом. Он сглотнул, прикидывая, не повернуться ли к ней спиной, однако после той самой книжки это могло быть принято за лицемерие. Эндерби храбро не двигался с места, смотрел. Но:
– Ради Бога, пусть будет по-вашему, но… – Но если все будет по ее желанию, значит, придется почти что дойти до того, до чего она пожелает дойти. А вот теперь совсем. Боже. Эндерби видел ее совсем обнаженной, сплошь золото, никаких безобразных проказных рубцов, там, где их следует ждать, видя ее в купальнике. И он просто стоял, как дворецкий, явившийся на звонок эксцентричной леди. Она твердо, но мягко на него смотрела. Он оскалился на ужасающе юную, полностью предъявленную красоту.
– Время есть, – хрипло сказала она. Улеглась на верблюжью шерсть, не сводя с него глаз, и сказала: – Любовь. Ты хотел сказать, любовь. Иди, возьми меня, милый. Я твоя. Когда я даю, то даю. Ты же знаешь. – Он ничего подобного не знал. Она протягивала золотистые лезвия рук, на бедрах мерцала золотая фольга. И золото пониже на бугре. – Ты сказал, – сказала она, – мне решать насчет истинного характера отношений. Ну и вот, я решила. Милый, милый. Иди.
– Нет, – задохнулся Эндерби. – Вы же знаете, я не могу. Я не это имел в виду.
– Прямо как мистер Пруфрок. Милый, милый, делай со мной все, что хочешь. Иди, не заставляй меня ждать.
– Не пойду, – сказал Эндерби, умирая. И видел себя здесь вместе с ней, пыхтящего, вялого, белого. – Сожалею, что сказал то, что сказал.
Она вдруг подтянула к подбородку колени, обхватила руками лодыжки и рассмеялась, не без приятности.
– Мелкий поэт. Теперь нам известно наше положение, правда? Ну, не важно. Скажи спасибо за то, что получил. Не проси слишком много, и все. – И спрыгнула с постели, на долю секунды погладив рукой золотой гладкий бок, пока бежала мимо него к двери, в дверь, из дома, с площадки для загара, к морю.
Эндерби сел на матрас. В налитых кровью глазах складывались рисунки, сердце колотилось со стонами. Нырнула в кровавое море, к Роуклиффу. Впрочем, нет. Роуклифф в Средиземном море, к востоку отсюда. А она на обочине Атлантики, большого моря. Иногда забываешь, что это Атлантика; Атлантика, Африка, большие дела. Мелкий поэт в Африке, лицом к Атлантике. Вокруг нее все обязательно будет фосфоресцировать, когда она уплывет в Атлантический океан.
5
На следующее утро она не пришла, впрочем, он ее и не ждал. Хотя это еще не прощание, пока нет. На высоких каблучках пристучала на кухню, сияющая, одетая, даже надушенная (однако, к его удовольствию, как бы пахнувшая утопшими поэтами), и нашла его наблюдавшим за булькавшим кофе, словно за алхимическим экспериментом. Кофе ей не понравился: слишком слабый, слишком мелкопоэтический. Что ж, он никогда не умел заваривать хороший кофе. Чай теперь вообще совсем другое дело. Так или иначе, ей надо лететь, столько еще необходимо увидеть до того, как на самом деле лететь. Потом легкий, не сатирический поцелуй в обе щеки, как бы в качестве некого приза за мелкую поэзию. И уход.
Ворочаясь в постели, он думал о мелких поэтах. Был трехногий Т.Э. Браун, сказавший: «О черный дрозд, дитя, что же ты будешь делать?» – увлекавшийся британскими садовыми горшками или пластмассовым богвестьчем. И Ли Хант, которого поцеловала Дженни. И женщина, которая видела фавнов в ручье, а потом выскочила за поэта, признанного крупным. «Мелкие поэты XX века» (ОЮП[168], 8.48) с парой-тройкой его стихов, тщательно отделенных, благодаря алфавитному порядку, от Роуклиффа. В один прекрасный день все поняли, что «Аврора Ли» – величайшая после Шекспира вещь, а Хопкинс[169] просто истеричный иезуит. Все зависит от потомков. Один поцелуй, два поцелуя. И он понял, что имя ее не имеет значения.
Вздохнул, но не безнадежно. Утром в довольно полном баре вернулся к оде Горация.
Так пускай огонь и время,
Боль, процесс, тяжкое бремя
Сгинут, а история
Вечности поклонится.
Как специалисту, Хоггу из Поросятника (когда просят джин, Хогг знает, что в виду имеется «Йомен Уордер»; фальшивая улыбка некой глянцевой рекламой сияет над шейкером) пришлось пойти за стойку, чтобы смешать «Манхэттен» кислому канзасцу, убежденному, будто коктейль назвали в честь университетского городка в его собственном штате. Молодой, но архаичный – что-что, как-как – англичанин в открытой рубашке с висячим шарфом привел двух девушек, одну звали Банти, и объявил, что в этом городе никто не умеет готовить «Кровь висельника». Однако оказалось, что Эндерби, Хогг, умеет, и клиент расстроился. Сидели три старика, четвертый, тот самый, с кожей вроде среза под микроскопом, не совсем хорошо себя чувствовал, запертый в своей комнате. Сомнительно, увидит ли он следующую весну. Выиграл соревнование в Бизли[170], дайте припомнить, когда это было? «Военный крест», планка, только никогда об этом особенно не распространялся.
Эндерби чувствовал зарождение длинной поэмы с действующими лицами из «Гамлета». Горациева ода для короля, типа абсолютного монарха, ограждающего безвременную Данию от потока истории. Эпиталама для него и Гертруды, зрелой страсти. Многое было написано на Глостер-роуд, когда Веста, сука, шла днем на работу.
Что-то вроде того. Со временем вернется. Рискнет ли он, Эндерби, мелкий поэт, выдавить длинный монолог для Гамлета, Марсия? Ну, не важно. Лучше делать свое распроклятое дело.
Она вошла, когда он приготовился хлебать похлебку, запивать чаем перед сиестой. Довольно скромно одетая, не без сходства с мисс Боланд: бежевый костюмчик с юбкой до колен, чулки металлического ружейного цвета, удобные Начищенные туфли. Под глазами синие круги, фактически полукруги. Шляпа викторианского моряка.
– Меня ждет машина на улице, – сказала она, имея в виду над песками, над лестницей, за железнодорожной линией, за мощеным тротуаром, у обочины с пальмами, сильно качавшимися. Дул крепкий ветер. – Ни о чем особенно не жалейте, – сказала она. – Делайте что можете. Не пытайтесь дрессировать собак, уходить в призрачный мир без синтаксиса. – Речь сивиллы.
– Пишу длинную поэму с персонажами «Гамлета». Общую тему пока не совсем понимаю, но, осмелюсь заметить, со временем сформируется. Разрешите вам налить чашку чаю? У Антонио выходной. Он поехал в Рабат повидаться с каким-то мужчиной.
– Хорошо. Нет, спасибо. Я вернусь еще вас навестить. Может быть, через год. Надо было, наверно, пораньше зайти, да у меня столько дел. – Теперь Эндерби знал о бессмысленности дальнейших расспросов: изучали английскую литературу, да? Пишете диссертацию о современной поэзии, нет? Неуместно, просто любопытство, которого он уже не испытывал, насчет ее личности, происхождения, возраста. Каждому поэту свое, а этому, может быть, меньше, чем некоторым другим. Он не завидует. Потомки разберутся. Хотя, конечно, потомки – сопливые школьники.
– Я вам очень признателен, – сказал он, впрочем непривычно ворчливо. – Знаете, правда.
– Вас не в чем винить, – сказала она, – если предпочитаете жить без любви. Что-то рано пошло не в ту сторону. В ювенильные дни. – Эндерби слегка нахмурился. – Слушайте, – сказала она, – мне сейчас действительно надо лететь. Только попрощаться зашла. Не по-настоящему попрощаться, – сморщила она нос на свои часы. Эндерби встал, чуть скривившись. Судорога в правой икре, в полнейшем соответствии со средним возрастом. – Ну, – сказала она, сделала к нему три шага, наградила одним коротким поцелуем в губы. Его доля, квота, все, чего он стоит. Ее губы были очень теплые. Последний поцелуй и последнее… Как бы зная, она подсказала рефрен, оставила слова, схватила пишущие пальцы, на мгновенье пожала. Перчатки на ней были бежевые, из какой-то дорогой мягкой кожи. Крепкое рукопожатие. Стало быть, стих закончен. Сплошная ложь (предпочитает жить без любви) не будет ложью для всякого, кто ей сможет воспользоваться, для какого-нибудь молодого влюбленного, вынужденного сказать любимой прощай. Поэты, даже мелкие, дарят правильные слова, и маленькая гордость способна превзойти огромную зависть.
– Ну, ладно, – сказала она. Они вместе двинулись к двери, почти официально: почетная гостья и кланявшийся patron[171]. Он смотрел, как она садится в такси, почувствовав краткий спазм безнадежного гнева, короче борборыгма, при последнем взгляде на аккуратно качнувшиеся ягодицы. Впрочем, на это чувство он прав не имел, и чувство быстро улеглось, как укладывается крапивный ожог в теплоту (голоногие легионеры сохраняли в британские зимы тепло, нахлестывая себя крапивой: нельзя ли на этой основе стих написать?), в нечто вроде той самой маленькой гордости. Прежде чем сесть, махнула рукой, крикнула что-то похожее на во всех антологиях, в любом случае, но слова заглушил проезжавший автобус, полный собранных со скалы любителей живописных пейзажей. Скрежет машины, несомой самим временем, хотя это просто-напросто марокканское такси-инвалид. Сильно дунул ветер. Она исчезла; все кончено, как подкожная инъекция. Он прикинул, не будет ли благочестивым долгом разузнать побольше о маленьком стойком шедевре Роуклиффа, издав и переиздав его за счет матраса. Может быть, в заведении хранятся вещи, даже ювенильные, может быть, даже в тех самых томах порнографии. Но умней воздержаться. Ему хватит собственных дел; надо стать, как минимум, лучше Т.Э. Брауна, Хенли, Ли Ханта, сэра Джорджа Гудбая, Шема Макнамары. Каким бы ни стало грядущее будущее, все должно быть хорошо, то есть не чересчур хорошо, предусматривая достаточное пространство для чувства вины, настоящей динамо-машины творца. Может быть, надо из вежливости ответить на письмо мисс Боланд. Если ей захочется к нему приехать с его разрешения, всегда можно ей отказать. А теперь он отправится к жирной похлебке и крепкому чаю, потом немного поспит. До-мажорная жизнь. Браунинг мелкий? Он повернулся лицом к Атлантике, но, брррр, с радостью заспешил прочь.
6
Дети, это Марокко. Разве вы не с благоговейным волнением видите то, о чем так часто слышали и читали? Паши, Бени-Кварейн, верблюды. Мулей Хафид, Абд аль-Кадыр. Светлокожие благородные арабы, считающие себя потомками Пророка. Пальмы и сандарак, арган, тизра. Сондра, ты говоришь, без всякого волнения? Что ж, детка, ты сроду не отличалась сильным воображением, правда? Не хочу даже слышать этих глупых шуток про то, что вас волнует. Некоторые девчонки совсем пустоголовые. Да, Андреа, я тебя тоже имею в виду. Джеффри, если вон тот старый бербер ковыряет в носу, подражать ему вовсе не обязательно. Львы, Бертран? Львы гораздо дальше к югу. Здесь леопарды, медведи, гиены и дикие свиньи. Дрофы, куропатки и водоплавающие. Дромадеры, берберские скакуны.
Это Танжер, который, как вам, может быть, неизвестно, фактически некогда принадлежал Британии. Часть приданого Екатерины Браганца, португальской королевы веселого короля. Вполне приятный город, ничем более не примечательный, с несколькими прискорбными архитектурными сооружениями. Пляж пустой. Сезон не туристический, вдобавок сейчас время сиесты. Яркие кафе на пляже, на многих облуплена краска, но попадаются замечательные названия. «Уинстон Черчилль», «Силки для солнца», «Чашка чаю», «Добропожаловать». Ивритские буквы вон там означают «кошер» (три согласных, семитские языки не особенно жалуют алфавитные гласные; да, Дональд, арабский язык тоже семитский и тоже избегает гласных. Почему евреи и арабы, зная об общем происхождении речи и алфавита, а также генов, табу, мифологии, не особенно ладят друг с другом? Перед нами, дети, вечная тайна братства. Как сказал бы Блейк, дайте мне ненавидеть его или быть его братом. Хорошо, Дональд, хороший вопрос, спасибо тебе за него, насчет не запрещенной религией пищи. Праздник, видите ли, не отменяет основных заповедей. Перестань ухмыляться, Андреа. Сейчас мое терпение лопнет.
Смотрите, вон название меняется. Новое пишется безвкусным ультрамарином. La Belle Мег. Очень мило. Должно быть, какой-то француз, предлагающий самую тонкую кухню, а сейчас крепко спящий. Слушайте, и услышите спящих. Урррррр. Хррррррр. Упс. Сон одолевает множество людей наилучшего сорта, и мы посещаем их как раз во сне, который по пробуждении раздробляется, превращается в фантазию, а возможно, и полностью забывается.
Зачем мы здесь? Честный вопрос, Памела. И при чем тут литература? Очень хорошо, что спросили. Ну, позвольте мне вот что сказать. Тут вы видите экспатриантов северного племени, перемешанных с маврами, берберами, испанцами. Многие покинули родную землю, спасаясь от сурового закона. Да, увы, преступления. Экспроприация капиталов, обычная кража, сексуальные извращения. Я так и думала, что ты спросишь, Сондра. Упоминание о сексуальности вызывает у тебя почти электрическое замыкание. Это понятие значит не более чем филопрогенитивный позыв, направленный в каналы, не имеющие производительного значения. Что это значит, когда совершается дома? Я от тебя ожидала подобного замечания, невежественная девчонка. И его невежливо игнорирую. Невежливость – единственный ответ невеждам. Подумай об этом, ты, непомерно разросшаяся кучка плоти.
Среди беглецов с севера есть художники, музыканты, писатели. Грешные, но талантливые. Они безнадежно используют здесь свой талант, мечтая о горьком пиве, о милых лужайках Государственного музея Гайд-парк, о публичной пивной на Хаммерсмит-Бродвее. Я имею в виду британцев. Американцы же по вечерам плачут в хайболлы, тоскуя об удачном вечернем шопинге в Дапермаркете, о заезжаловках с цветным стерео-видео, о ядерной пульсации полностью автоматизированных глобальных автострад. Но они занимаются своим искусством. Главным образом писатели. Выше, вон на том холме, живет человек, уже написавший автобиографию в двадцати пяти томах, расколупав каждый миг жизни до бегства, словно креветку. Другой на калле Лараче вгрызается в собственную бессознательную душу и нагромождает срыгнутые фрагменты на фрагменты старых газет. Еще один пишет насмешливую сатиру на уже умершую Англию куплетами Попа. Все они художники мелкие. Есть здесь rue Бетховен, avenida Леонардо да Винчи, plaza де Сад. Однако в честь здешних художников не будет называться ни площадь, ни переулок. Они ничтожны.
Только все же подумайте, что их с трех сторон окружает, хотя яростный Атлантический океан правильно оркестрирует мускулистость, растущую, к изумлению солнца, на поджаренной солнцем Африке и Иберии. Слава Лусиада (Джордж, прекрати, пожалуйста, зевать), стоическая отвага и разбитое сердце Сида, миф о Жуане, хроника тощего Дона на тощем коне. Звон гитар наверху, барабанная дробь каблуков, отбивающих танец, ниже бешеная лихорадка местных тимпанов. А с востока сказки жестокого султана Шахрияра, тонкое стихотворное кружево Омара, какого-то там Абдула (ладно, Бенедикт, нечего фыркать: исламская поэзия не мой предмет) и некоего Саида.
Йяуууууу. Ург. Уууууух.
Им очень больно при пробуждении, не всегда одиноком, и перед наступленьем танжерского вечера. Хорошо, все мы знаем, что танжерин – маленький, сильно сплюснутый мандарин. Очень смешно, Джордж. Только, может быть, ты подумаешь, почему он носит такое название. Горит неоновая каллиграфия – фа, каф, каф, нун, ток, – заведения возобновляют работу при масляных лампах. Женщины в паранджах и длинных рубахах начинают разгуливать по rues и calles, парни станут подшучивать и хихикать над немногочисленными туристами мужского пола, тыкать пальцем в своих младших братьев, как в тушку нежного агнца. Писатели застонут над собственными словами о полуночи и отчаянии.
Ну, вперед! Наши верблюды радостно чуют вечер. Это цитата, если тебе надо знать, Бенедикт. Оставим их, пусть покорятся судьбе. Каждый должен по мере возможности стремиться к счастью. Каждый. Джеффри и Бенедикт, Джордж и Дональд, Андреа и Памела, невыносимая Сонд-ра и… Ох, ну-ка, стройтесь вон там. Отбываем с атлантическим ветром. Встает луна, исламский полумесяц. Сияют планеты Марих, и Зухра, и Зухаль. Звезды в американских армейских ботинках молча расходятся по извечным постам. Слова падают в предписанные синтаксисом щелки, испуская атмосферную пыль, прах, именуемый нами смыслом. В путь, дети! Оставим их.
Пока последний ледник не скует
Каждый остров, где парус в мечте живет…
И и и и так далее. Все придет, нужно лишь время и прилежание. В тоске можно сплести лавровый венок – laurus nobilis[172]. Он тут произрастает. Никому не рвать! Ароматные листья применяются в кулинарии, а ягодами можно вылечить заболевшую кошку.
Приложение
Несколько ранних, не вошедших в собрание стихотворений Ф.З. Эндерби
Нижеследующие стихотворения по неизвестной причине никогда не входили ни в одно издание произведений Эндерби, а последний совсем не печатался. Стихи с начальными строками «В прошлом выступившего против отца…», «Страх и ненависть, как к заплечному палачу…», «Под стеной плача семитские скрипки…», предположительно юношеские, не обнаружены ни в напечатанном, ни в рукописном виде. Пожалуй, интересно отметить, что в каталоге злосчастного издательства «Гордон-пресс», которое специализировалось на стихах, изданных за авторский счет, упоминается сборник некоего А. Роуклиффа «Чепуха и болтовня», стихи, 1936. Ни один экземпляр этого сборника до сих пор в свет не вышел.
Э. Б.
СЕНТЯБРЬ 1938
Между войнами процветает победная жизнь,
Порожденная первой, злосчастная пища второй,
С нескончаемым рокотом крови в ушах.
Не ленивцы, но и не бойцы
Обратили всю злобу на камень, давно выбитый из
Умов, покорившихся новизне:
За респиратором нечего в очереди стоять.
А потом возвращенье в ужаснейший хаос.
Дом, руки-ноги, отяжелевшие от труда
и от грязи, сон,
Сметающий повседневность в глубокую канаву.
Наконец, человеческое лицо разбивается
И стирается напрочь; заменившие его моторы
С грохотом ринутся к концу света, дети войны,
Fonctionnant d’une maniere automatique
[173]
.
ЛЕТО 1940
Лето залило землю, солнце нас пленило,
Ручка скользит на экзамене в пальцах,
Мечутся потные губы влюбленных
В слепом освоенье тактильного мира.
Очки потеют, вены на кистях синеют,
желанье раздеться
Рождает страсть в неподобающем месте.
Барражируют дирижабли,
Парят серебром в серебряном эфире.
Полеживая на травке,
Мы следим за послушными монстрами, которых
не тянет к зениту.
Капли французского ливня, запачканные
Грязным трудом, трамвайной тряской,
жадно высосанной сигаретой,
Марают фланелевые костюмы и летние платья.
Лето портят охотники, желающие лишить нас покоя.
ВЕСНА В ЛАГЕРЕ, 1941
Война претворилась во время и долгую логику
Похороненных ожиданий. Пришла весна
С круглой кокардой. Долгота ее, глубина, ширина,
Прямолинейно разумны, однако
Она кружится в маленьком круге.
Круг есть круг, ничего не доказывает, ничего не дает
Поглощает процесс, прекращает все споры,
Создавая новую картину времен.
В бараки набились птенцы-новобранцы,
Солнце рано является в канцелярию.
Бледного ротного писаря беспокоят весенние запахи
Шофер грузовика поет, позабыв о дороге.
Груз зимы и войны разбрасывается,
Как сам ты в юности разбрасывался.
Слова распадаются; война заключена в словах.
ПРОГУЛКА
Голубое утро летом
Манит нас покинуть дом,
Солнце золотистым светом
Красит яйца с мармеладом,
Чек смеется на столе.
Вспомнишь запах на дорожке,
Чуда жаждешь на земле,
Снова бьет ручей сторожкий.
Там пивная, а тут храм,
Солнце миль на тридцать пять,
Речка, удочка, сазан,
Уже можно выпивать.
Целый день давай пить пиво
Под соседним деревом,
Лук хрустел, сыр молчаливо
Сочный день отмеривал.
Помню вспыхнувший огонь,
Черное ржаное поле,
Серый пыльный ряд погон,
Мертвые шаги на склоне.
Вечер вернувшийся розой расцвел,
Созревшими гранатами;
Фонарь над мостовой размел
Дым моей трубки на атомы.
ЭДЕМ
История не только то, что ты учил в тот жаркий день
Чернил, и дерева, и пота в классе, где упоминанье
Герцога Бургундского несло тебя
в пространные мечты
О жажде, Рождестве, но и те самые часы – момент
истории.
Бывало, ты, превратно понятый родней,
В пятнадцать, летом, вечером в постели
Верил в существованье древних городов, где побывал,
Отправившись с какой-нибудь заброшенной
платформы,
С билетом, купленным при заболтавшихся часах.
О, прошлое кому удастся расчленить?
Ложится мальчик в дружелюбную постель
На мать непознанную, входит в лоно
Истории, овладевает ею, наконец. Наверно, слезы
Все так же жаждут той вонючей и нестираной
подушки,
Замаранной всей грязью прошлого постели,
Со вшами, дрянью, глупостью и бредом
Золотого Века,
Но любящего, материнского последнего Эдема.
Ищи Эдем в истории, но не желай туда попасть,
Ведь первородный грех всегда сиюминутный,
Даже речной поток не смоет кровь с худой руки.
И в этот самый миг Эдемом станет само слово,
И мальчик был, а может, и сейчас находится
в Эдеме,
Полощет и полощет руку в тонкой липкой пленке,
Хотя река по-прежнему чиста и чистотой своей рвет
сердце.
notes
Примечания
1
Пока подожди, постой.
Звериная суть, торжествуя,
Бесчестит род людской,
Поэзию ненавидя святую (исп.). (Здесь и далее примеч. пер.)
2
«Пиммз» – джин с особым разбавителем.
3
Шотландский писатель и поэт Джеймс Хогг (1770–1835) был пастухом и до тридцати лет не знал грамоты; Хогг уподобляет его поэту-сатирику Александру Попу (1688–1744), о котором клиент очевидно не слышал.
4
Хог (hog) по-английски «боров»; прозвище Хогга – Пигги (piggy) – «поросенок».
5
Уэссскс-сэдлбэк – порода свиней.
6
Ротарианцы – члены международного «Ротари-клуба» для бизнесменов и представителей свободных профессий.
7
Рен Кристофер (1632–1723) – крупнейший английский архитектор, построивший лондонский собор Св. Павла, восстановив его и еще 51 храм после Великого пожара 1666 г.
8
«Банксия», «макартни», «викурайана» – сорта роз.
9
Свинья (исп.).
10
Нравы (лат.).
11
Здесь: провокаторша (фр.).
12
Питчер – в крикете игрок в центре поля между калитками соперничающих команд, которые надо разрушить бросками мяча.
13
На Харли-стрит в Лондоне находятся приемные известнейших частных врачей-консультантов.
14
В период Английской республики Мильтон был секретарем Кромвеля по латинской переписке.
15
Фэрфакс Томас (1612–1671) – главнокомандующий парламентскими войсками во время Английской революции XVII в.
16
Здесь: жару (исп.).
17
Здесь: приятель (исп.).
18
Здесь: сильный жар (исп.).
19
В 1588 г. испанский военный флот – «Непобедимая армада» – понес невосполнимые потери при столкновении в Ла-Манше с английским флотом.
20
Брандер – судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, которое поджигали и направляли на вражеские корабли.
21
Кипер – в крикете игрок, который ловит за калиткой мяч, отскочивший от биты.
22
Всеобщее дерьмо (фр.).
23
Духа времени (нем.).
24
Ливис Фрэнк Реймонд (1895–1978) – английский литературный критик, впервые опубликовавший запрещенные произведения Д.Г. Лоренса и Джеймса Джойса.
25
Томас Дилан (1914–1963) – уэльский поэт.
26
Пирс Питер (1918–1986) – английский тенор, музыковед, близкий друг Бриттена, написавшего для него много оперных партий и вокальных циклов.
27
«Двусущный зверь» (ит.).
28
Хаусмен Альфред Эдвард (1859–1936) – английский поэт, специалист в области гуманитарных наук.
29
Паунд Эзра (1885–1972) – американский поэт и критик, один из крупнейших литераторов XX в.
30
Питч – в крикете центральная часть поля между двумя калитками.
31
«Уизден» – ежегодный справочник по крикету, издающийся с 1864 г.
32
Много (исп.).
33
Вы хорошо говорите по-испански (исп.).
34
Да-да-да (исп.).
35
Очень религиозные (ит.).
36
Вы хорошо говорите по-итальянски (ит.)
37
Момент истины (исп.).
38
Кость (исп.).
39
Да, понятно, не может отбрасывать тени (исп.).








