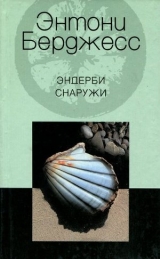
Текст книги "Эндерби снаружи"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
– Я не встречал ее имя в газетах…
– Она вновь вышла замуж. По-настоящему. За мужчину с настоящими деньгами, с настоящим талантом, моложе вас, кроме того, симпатичней.
– …Но ведь это только подтверждает всегдашнее мое мнение, я имею в виду, то, что вы говорите. Она вовсе не тонкая. Настоящая сука. – «Kvadratnye kluchi» упали с колен, как бы сознательно не желая обращаться в иную веру.
Доктор Уопеншо хрипло бросил:
– Ладно. А теперь вот это посмотрите.
И в Хогга полетела третья за день порхающая бумажная птица. Он поймал ее не особенно ловко, уже утомившись; сразу узнал журнал под названием «Конфронтация», межатлантический ежеквартальник, финансируемый за океаном, и, по мнению Хогга, не слишком в целом популярный. Он кивнул без удивления. Значит, доктор Уопеншо все знает. Теперь ясно, в чем дело. Вот в чем. Открыл страницу с секстетом сонета, который йакальщики не захотели слушать, который, в отличие от октавы, не обращался ни к каким завсегдатаям дорогих баров:
Свернувшемуся в древесных корнях вдохновенно
уставшему змею
Вздумалось возвестить понедельник.
Объятье одежды на теле.
Благословенная боль воспламенила зуб.
Воротник чмокнул шею.
Написано в газетном разделе:
«Может быть, смерть его обрекает империю».
До этого и до будущего воскресенья долгая неделя.
И подписано прошлым отброшенным именем. Хогг, заикаясь, сказал:
– Я все могу объяснить. Я его раньше начал, понимаете, до того, как вы меня взяли. На лечение, я имею в виду. То есть от антиобщественного поведения. А закончить не мог. А потом, как-то вечером в баре работал, оно вдруг пришло. Как бы из-за спины само хлынуло. Замечательно, если вы извините меня за подобное выражение. Ну, я послал, а они напечатали. Как бы последний привет, если можно сказать. Может быть, даже можно сказать, посмертный. А потом никаких уж стихов, нет, больше никогда. – Последняя фраза, пожалуй, чересчур заискивающая, слишком нарочито старомодная барменская. Доктор Уопеншо на нее не клюнул. Вместо этого он гневно встал и крикнул:
– Правильно, правильно, повеселись за мой счет. – Прошагал к столику возле пустого камина, схватил с него человеческий череп, угрожающе замахнулся на Хогга. – Не можешь или не желаешь понять, предатель, что это твое предательское излияние видели, вот именно, видели. Шортхаус видел, для тебя – доктор Шортхаус. Ты, умышленно затевая предательство, не знал, кто такой доктор Шортхаус, тогда как доктор Шортхаус – автор «Поэтического синдрома», «Искусства и спирохеты» и прочих стандартных клинических трудов. Шортхаус видел, и Шортхаус мне показал. – Он двинулся к Хоггу с горящими упреком и гневом глазами, держа череп в обеих руках, точно пудинг. – И тогда, – вскричал доктор Уопеншо, – я вышел полным дураком, потому что с Шортхаусом говорил уже про твой случай.
– С доктором Шортхаусом, – вежливо поправил Хогг.
– Теперь видишь? Видишь? Я хвастался, будто ты излечился, а ты снова взялся за проклятые стихи. – Он гневно сунул пальцы в глазницы черепа, но сам череп выдержал.
– Если вы беспокоитесь насчет своей верстки, – по-прежнему вежливо сказал Хогг, – я вам с радостью помогу с корректурой. Я имею в виду, надо поправить, сказать, что, в конце концов, я не вылечился, случай мой неудачный. Если от этого будет какая-то польза, – смиренно оговорился он. – Понимаете, – объяснил Хогг, – я все знаю о правке, которая вносится в верстку. Знаете, вы же знаете, я был профессиональным писателем (я имею в виду, вы ведь меня от этого старались вылечить, правда?), а для вас, настоящего доктора, это, в конце концов, просто какое-то хобби. – Он попробовал улыбнуться доктору Уопеншо, потом черепу, но отреагировал только последний. – Я всем буду рассказывать, что действительно вылечился и что этот сонет – просто какой-то остаток от старых времен. Или что тот олух «К» фактически не я, а кто-то другой. Шортхаус в любом случае никому ничего не расскажет, правда? Я имею в виду, вы же, врачи, друг друга поддерживаете, должны поддерживать, правда? Могу даже написать в какой-нибудь ваш журнал, – шире размахнулся Хогг, – в «Ланцет», «Скальпель» и тому подобное.
Доктор Уопеншо впился в череп сильными волосатыми пальцами с крепкими ногтями, но череп, словно вспомнив промелькнувшую в голове Хогга строчку Хаусмена[28] о нерушимости человеческого костяка, только ухмылялся в бронированном благодушии. Потом доктор Уопеншо как бы всхлипнул, точно череп принадлежал Йорику. Потом вроде решил швырнуть его в Хогга, но тот наклонился за «Kvadratnymi kluchami», упавшими на пол. Доктор Уопеншо положил череп обратно на стол, глубоко вздохнул и крикнул:
– Вон! Вот из моего кабинета, черт побери!
– Я, – сдержанно сказал Хогг, еще стоя на коленях, – пришел только по вашему распоряжению.
– Убирайся прочь! Я потратил знания, время, терпение и любовь, – да, черт возьми, – на твой случай, и вот какую получил благодарность! Хочешь карьеру мою погубить, черт возьми, вот и все!
Хогг, позабыв, что стоит на коленях, столь же сдержанно сказал:
– Знаете, в книгу всегда может вкрасться так называемая опечатка. Со мной однажды было. Вместо «прихотливый» напечатали «похотливый». Я бы с большой радостью вам помог, правда. В любом случае, если дело окажется хуже некуда, всегда можно изъять всю главу, вставить что-то другое. Только, – серьезно добавил он, – надо проследить, чтоб объем точно такой же был. Нынче вечером можете сесть и чего-нибудь написать.
Доктор Уопеншо бросился к стоявшему на коленях Хоггу, рванул его за воротничок.
– Вон! – снова крикнул он. – Проваливай, похотливый сукин сын! – Протопал к дверям, распахнул. Другой пациент тихо скулил у газового камина. – Что касается тебя, сачок, – крикнул ему доктор Уопеншо, – я с тобой за минуту разделаюсь. Знаю вас, симулянтов.
Хогг со скорбным достоинством, которое, он предчувствовал, выльется в приступ ярости, как только он окажется в неком славном спокойном местечке, подошел к двери и сказал:
– Вы на себя слишком много берете, если не возражаете против подобного замечания. – И взмахнул «Kvadratnymi kluchami», как бы предостерегая. – Я бы сказал, что такие люди, как вы, должны подавать всем нам, прочим, хороший пример. Это ведь вы хотите, чтоб все шло хорошо, а не этот бедняга.
– Вон!
– Уже ухожу, – сказал Хогг, уже уходя, медленно качая головой. – И, – сказал он, опять повернувшись к доктору Уопеншо, хоть и на безопасной дистанции, – я буду писать стихи какие захочу, большое спасибо; ни вы, никто другой меня не остановит. – Он думал прибавить «вот так вот», но, пока решался, доктор Уопеншо грохнул дверью кабинета; пациент у газового камина вскрикнул «ой», будто мать дала ему затрещину. В конечном счете доктор Уопеншо не совсем хороший человек, думал Хогг, уходя. Надо было с самого начала с подозрением отнестись к его добросердечности. Он чувствовал, что в ней всегда была определенная капля неискренности.
3
Немного времени спустя Хогг, дрожа, сидел в общественной уборной, фактически видя, как плоть между ляжками студнем трясется от ярости. Над ним отправлялись на запад дизельные поезда, ибо было это на вокзале Пэддингтон, куда он пришел мимо мадам Тюссо, планетария, по Эджвар-роуд и так далее. Бросил в щелку пенни, получив возможность излить гнев существенно более, чем на пенни. Весь ненавидящий стихи мир обрел лицо доктора Уопеншо, но Хогг, звучно и справедливо заваливая в воображении это лицо дерьмом, а также мочась в него, знал, что мир довольствуется простой ненавистью, тогда как доктор Уопеншо идет дальше, целенаправленно уничтожая поэта. Или пробуя уничтожить. Он, Хогг, зол на мир. Мир очень плох, однако доктор Уопеншо еще хуже. Впрочем, опять же, разве не дурна распроклятая Муза, которая все придерживала свои дары, а потом явилась с подарком в самый что ни на есть неподходящий момент? Вопрос в том, каково положенье вещей. Чего ей от него надо, черт побери? Он издал чрезвычайно смертельный и пахучий взрыв, как некогда, сидя точно так же в рабочей мастерской квартиры на морском берегу, царапая голые ноги, пестревшие у электрокамина, упорно работая над стихом вместе с Музой, в тихом, в высшей степени профессиональном сотрудничестве. Может быть, она, смягчившись (для чего, между прочим, не следует обзывать ее дурной, распроклятой, как только что), хочет вернуться на постоянной основе? Тот самый острый спазм, из-за которого вспыхнул скандал, фактически, кроме вреда, никому ничего не принес.
Только, конечно, в те времена, прежде чем эта чертова женщина вышла за него замуж и заставила промотать капитал, он имел возможность быть профессиональным (т. е. ничего или очень мало зарабатывающим) поэтом. Теперь необходима зарплата. Даже если дар вернется в полной мере, его придется проявлять в виде так называемого милого хобби. Разумеется, удалось кое-что приберечь. Есть спаленка в отеле, питание, редкие чаевые. В спущенных брюках можно сосчитать накопленное. Наличные Хогг держал в губчатой сумке, прикрученной шнурком к пуговице на ширинке, не доверяя ни банкам, ни коллегам в отеле. Ключи – просто насмешка, так как есть служебные. Он однажды вошел в свою спаленку и застал там Джона-испанца с рубашкой Хогга в одной руке и с бритвенными лезвиями Хогга в другой, хотя был совершенно уверен в запертой двери. Джон с фальшивой улыбкой сказал, будто дверь не была заперта, он зашел позаимствовать лезвия, которые у него кончились, и в то же время его обуяло желание полюбоваться рубашками Хогга, очень уж, на его взгляд, хорошими. Хогг ему не поверил. В любом случае, деньги он держит в сумке в штанах. Сумка как бы прикрывает мошонку, ибо среди официантов, мальтийцев и киприотов, попадаются безобразные драчуны. Он вытащил из сумки рулончик пятифунтовых бумажек, серьезно пересчитал. Коряво нацарапанный человечек, некий голый бог плодородия, смотрел сверху без зависти.
Двадцать пять нарисованных львов преданно стерегут довольно слабоумную малолетку Британию. Неплохо. Сто двадцать пять фунтов. В брючном кармане около тридцати шиллингов серебром – весьма скудная благодарность. Хогг не потрудился подсчитывать стоимость других знаков благодарности в иностранной валюте. Дирхемы, лиры, новые франки, дойчмарки и прочее он держал в своем паспорте, который хранился во внутреннем кармане спортивного пиджака, висевшего сейчас на крючке на дверце. Хогг усвоил, что каждый служащий отеля должен хорошенько присматривать за паспортом в связи с кражами и подпольной торговлей, которую вели чернорабочие, мойщики посуды, островные подонки темного этнического происхождения, ловкие, порочные, не щепетильные. Несмотря на новый презренный статус Британии в мире, британский паспорт еще ценится. Вот, значит, какие дела. Хватит купить время на написание, скажем, каких-нибудь по-настоящему старательно отделанных секстетов или бессвязных песен поэмы в стиле Паунда[29], если Муза пожелает сотрудничать. Хогг испустил совсем слабенький ветер. Это вовсе не глупый поступок, объяснил он ей на случай, если она где-то рядом, нет тут даже тени сарказма или нетерпения: вполне справедливый, авансом испущенный ветер.
Он уже более или менее успокоился. С симпатией полюбовался граффити на стенах и дверце. Подумал, что кое-что можно признать неким видом искусства на основании очевидной попытки выразить сильные чувства в стилизованной форме. Встречались страстные послания, мольбы о встрече в условленном месте, хотя даты давно миновали; слишком экстравагантная для исполнения похвальба; краткие обращения к сексуальным партнерам, чересчур изысканные для этого мира. Ну, он, Хогг, пытался в рамках реабилитационной программы, навязанной отныне проклятым доктором Уопеншо, заняться общепринятым сексом, но не добился большого успеха. Теперь, в любом случае, надо быть молодым для подобающих занятий сексом: это ему отчетливо разъяснила молодежь – горничные-итальянки и прочее, – с которой он сталкивался, а также кое-какие образцы современного искусства, которое он, опять же следуя программе проклятого Уопеншо, мрачно пытался постигнуть. Вот, значит, какие дела. Пора прекратить без конца повторять эту фразу.
Были также на стенах краткие стихи, изложенные в основном в прозе, вроде произведений Крепости Веры. Стихи традиционные, главным образом на сортирный сюжет, но как-то грела мысль, что это все-таки стихи, заслуживающие уважения за гномическую мнемонику. То есть для нормальных людей. Невозможно представить, чтобы проклятый Уопеншо что-нибудь написал или нарисовал в уборной. Хогг заметил по правую руку симпатичное пятнышко голой стены. Для того, что он собирался сейчас написать шариковой ручкой, Музы не требовалось. Он написал:
Когда облегчаешь кишечную схватку в экстазе,
Или высишься с членом в руке, и тебе хорошо,
Представь себе лицо в унитазе —
Лицо Уопеншо.
Может, кто-нибудь выучит наизусть, еще где-нибудь под землей перепишет, в ненадежной памяти размоется блистательное изящество, но, возможно, фамилия не до конца сотрется, сохранится в какой-нибудь алломорфной форме. Эндерби, народный поэт. Эндерби, а не Хогг. И Уопеншо обретает заслуженное бессмертие.
Теперь Хоггерби чувствовал голод. Подпоясался, дернул цепочку, надел пиджак, вышел. Благосклонно кивнул уборщику, читавшему «Ивнинг стандард» в своем кафельном закутке, и поднялся на свет. Выйдя с вокзала, нашел в переулке достаточно грязный с виду ад для голодных, почти полный чавкающего народу. Он знал, какая еда ему требуется, – бунтарская. И заказал у цыкавшего зубом мужчины в очках за стойкой кружку очень крепкого чаю, яичницу с жирным беконом, пристроившись у лестницы. Он намерен устроить себе несварение. Показать распроклятому Уопеншо.
Глава 2
1
– Большая честь, йя, – сказал мистер Холден из-за охапок цветов применительно к времени года. В смежной комнате клацали машинистки. Перед мистером Холденом стояли Хогг и Джон-испанец, сверкая соответственно кариесом и золотом, строго реагируя на замечание о большой чести. – Самый маленький для избранных, тогда как «Сэдлбэк» – просто питч[30] приблизительно правильного размера, йя. Поэтому в «Поросятнике» будут коктейли, и вот тут тебе, братец Хогг, придется показать силу бэтсмена. Мы приглашаем нескольких официантов из бара «Тихо Течет Милая Темза», как бы в запасные защитники. Начинайте-ка лучше зубрить рецепты коктейлей, ребята, почитайте какой-нибудь барменский «Уизден»[31]. «Лошадиные шеи», «прицепы», «манхэттены», «снежки», все, что можно. Как, удержите биту?
– Я все знаю, – сказал Хогг, – в том числе те, что еще не придуманы.
– Я ему покажу, – посулил Джон, – если не знает.
– Поп-группа, вы говорите? – спросил Хогг.
– Такие вещи надо знать, – заметил мистер Холден. – У тебя полно времени, чтоб газеты читать. Как бы запоздалое чествование, вроде последнего удара на правую сторону поля. Они кино снимали на Багамах, как вам должно быть известно, и только теперь удосужились организовать это мероприятие. Есть чего отмечать. Новый золотой диск, награды к дню рождения, а теперь Йод Крузи стал ЧКЛО. Йя, много поводов для торжества. Mucho[32], – добавил он для Джона.
– Usted habla bien español[33].
– ЧКЛО? – переспросил Хогг. – Член Королевского литературного общества?
– Неплохо, неплохо, приятель. Так и дальше держи, глаз с мяча не спускай. Йя, он получил премию Хая Немана за какую-то книжку стихов, а ЧК следует как бы автоматически.
– Премию Хайнемана? – насупился Хогг. – И как, говорите вы, это все называется?
– Ох, Иисусе, никогда тебе не выбраться из запасного состава, – заключил мистер Холден. – «Грузи-друзи». Хочешь сказать, никогда не слышал про «Грузи-друзи»? Их называют лучшими дипломатическими представителями Англии, маленькая экспериментальная группа, абсолютно самостоятельная, йя, всеми силами прикрывает пошатнувшуюся калитку вашей экономики. То есть зарабатывает за границей валюту, на экспорт идет, ее величество королева, – мистер Холден склонил голову, – несомненно довольна. Отсюда, приятель, медали. Значит, тебе теперь все известно, только, догадываюсь, было известно и раньше.
– Sí sí sí[34], – подтвердил Джон. – Он уже раньше знал.
– Я бы назвал название весьма богохульным, – холодно заявил Хогг. И поспешно добавил: – Не то чтобы я вообще был религиозным, понимаете ли. Я имею в виду, это кажется мне весьма дурным вкусом.
– Кто сам чист, – изрек мистер Холден, – для того и все прочее чисто. Йод Крузи с друзьями и есть «Грузи-друзи». Правильно? Если тебе кажется, будто это как-то иначе звучит, значит, у тебя у самого калитка сильно шатается, парень, что касается вкуса. А они очень-очень религиозные парни, о чем ты опять же знать должен. Molto religioso[35], – добавил он для Джона.
– Lei parla bene italiano[36].
– Могу поспорить, – побожился Хогг, – он сам взял себе имя Крузи, только чтоб богохульное название вышло. И Йод, по-моему, не христианское имя. «Йод», – сообщил он мистеру Холдену, – буква еврейского алфавита.
– Ну-ка, поосторожней теперь, – очень строго предупредил мистер Холден. – Потому что все это мне кажется очень похожим на расовый предрассудок. А один принцип политики наших отелей гласит: никаких никаких никаких расовых предрассудков. Поэтому посматривай за собой.
– Он еще говорит, – доверительно поведал Джон, – что испанский народ нехороший.
– Ну ладно, – сказал мистер Холден. – У нас тут согласие, высокая производительность, дух коллективизма. Совершенно особый обед для совершенно особых людей. Кондитеры по такому случаю готовят совершенно особенный мороженый пудинг. И совершенно экзотическое блюдо, которое никогда еще раньше не подавалось. Называется, – он сверился с наброском меню на столе, – омарбиф. По-моему, что-то арабское. Этих парней высоко ценят в Саудовской Аравии.
Хогг стоял, прикованный к месту.
– Мороженый пудинг, – сказал он. – В Саудовской Аравии. Тает при изготовлении. Знаете, как время.
– Ты себя хорошо чувствуешь, Хогг? – нахмурился мистер Холден, а Джон-испанец покрутил у своего правого виска коричневым пальцем, с печальной ухмылкой тряхнул головой. – Уверен, что со всем этим справишься, парень? Если нет, вот этот вот Хуанито всегда тебя может сменить. По-моему, он не спасует перед броском, если ты не сумеешь.
– Должен быть Хогг, – рассеянно сказал Хогг. – Пусть он боров, однако не Хогг. Приближается, – добавил он. – Что-то тут точно есть. Возвращается дар. Совершенно особенный. Надо пойти записать на бумаге. – В кабинете как бы присутствовал кто-то еще. Неужели она?
– А, коктейль, – облегченно кивнул мистер Холден. – Тогда ладно. Совершенно особенный? Прямо иди записывай, парень. Не забудь, авторские права наши. И еще одно. Парики. Надо быть в париках. Пускай плохо сидят, только надо, чтобы в париках. О’кей. Возвращайтесь в раздевалку.
Хогг вышел в легком угаре.
– Бесполезно надеяться удержать, – бормотал он, – неизбежность. – Что за чертовщина? Она точно тут; ведет глупую игру в прятки, сунув в рот палец, шмыгает туда-сюда по коридорам. В очень коротком платье.
Джон-испанец сказал:
– Что ты хотел сказать, hombre? Назвал меня боровом.
– Здоров, я сказал, здоров, – рассеянно отвечал Хогг. – Слушай, бар открывается через час. Мне надо к себе в номер.
– Ты сказал – здоровый боров? Я слышу. Не глухой, черт возьми.
Хогг рванулся к служебному лифту, который, он видел, вот-вот должен был приземлиться. Из открывшейся двери вышел очень аккуратный, несмотря на пухлость, молодой человек, неся что-то похожее на распечатку, извергнутую каким-нибудь отельным компьютером. Казалось, он смотрит прямо на Хогга, словно запрограммировал именно эту личность. Хогг вошел, хмурясь, голова полна слов, которые пытались под маршальские команды сами собой выстроиться в упорядоченное, хотя и загадочное утверждение. Джон-испанец хотел последовать за ним, но пухлый молодой человек преграждал ему дорогу. Хогг нажал нужную кнопку, посмотрел, как скользнувшая дверь срезает в латеральной проекции грозившего кулаком Джона, от которого, наконец, ничего не осталось, кроме остаточного изображения, засветившегося на роговице. Кабина лифта как бы оставалась на месте, только загоравшиеся цифры свидетельствовали о подъеме на этаж 34А, недоступный для гостей отеля. Мощная машина стремительно несла тебя к нему, хочешь ты того или нет. Хогг чуть в обморок не упал.
Он слепо вышел в автоматически открывшуюся дверь, нашарил ключ, почти ввалился в свою безрадостную клетушку. Бумага. Есть блокнот в линеечку, соответственно новому имиджу. Задыхаясь, он сел на кровать, начал писать. Она тяжело дышала ему в левое ухо, а голос ее почему-то стал по-детски шепелявым. Он писал:
Бесполезно надеяться удержать неизбежное,
Под рукой растекается ненадежная баррикада
Из недели, дня, часа, минуты, секунды,
Само время стремительно понесет тебя
в мощной машине,
Хочешь ты того или нет.
Потом вдруг тишина. О чем вообще идет речь? В чем смысл? Слишком много смысла в вашей поэзии, Эндерби. Кто-то это когда-то сказал. Вы, мой милый Эндерби, чересчур заботитесь о смысле. Роуклифф, один из особой троицы врагов. И Уопеншо, старавшийся раздавить череп. Хогг видел сильные волосатые пальцы, а череп только ухмылялся. Утешение уступающей кости. Но что должно произойти, чему придется подчиниться? Последнее рукопожатие, приглашение на целые поля пустого времени. Нет-нет, не совсем. И тут хлынул поток, словно кровь:
Так поэтому протяни ему руку,
Вступи в убедительный ворчливый спор,
Утешься утешением уступившей событию кости,
Подружись, и в приливе любви
Оно распахнет тебе голые акры,
Широкие и золотые.
Пророческий звоночек, словно что-то приятное грозит прийти, потом исчезнуть, причем исчезнуть без сожалений. Он чуть не плакал. Муза стояла у раковины. Ну и что? Какой завет заключен? Придется обождать, пока во сне все откроется полностью. Заколотили в дверь. Она спряталась, скользнув в дверцу крошечного платяного и посудного шкафа.
– Пуэрко, пуэрко! – кричал Джон-испанец. – Тоник неси в бар, черт возьми, старина!
– Отвали! – крикнул Хогг. – Убирайся, сволочь чесночная! – И тут, излучаясь из платяного и посудного шкафа, объявился последний станс:
Конечная граница ухода
Закрыта от крепкой безудержной хватки ветров.
– Ты, гад! Пудинг там жрешь! Я знаю, черт возьми!
Хогг писал, как предсмертное послание:
Ибо миг расставания – точка во времени,
Которая лишена протяженности
И не способна отбрасывать тени
Последнего
Стук Джона поглотил последнее, чем бы оно ни было. Спрятавшаяся в шкафу Муза печально качнула детской головкой. Хогг-Эндерби вскочил в ярости, отпер, потом распахнул рывком дверь. Джон едва не упал.
– Ладно, – выдавил сквозь зубы Хогг-Эндерби. – Давно ты этого дожидался, чертов hombre. Вместе со своим чертовым Франко и захватом проклятого Гибралтара. Ладно. – Что ж, Уопеншо и все прочие желают, чтобы он жил и действовал в реальном мире, не так ли, низком, вульгарном, где обыкновенные граждане не подчиняются цивилизованным ограничениям? Джон оскалил в ухмылке грязное золото, злобно выпустил когти. Низкий бармен Хогг сразу пнул его в голень. Джон бешено запрыгал, Хогг толкнул его на кровать. Джон сел утешать боль и одновременно пробовал пинаться, произнося без утонченной шепелявости самые грязные выражения провинциальной испанской бодеги. Хогг посмотрел, чем можно ударить, схватил дешевый стул, стоявший рядом со шкафом, а когда замахнулся, Джон снова встал на ноги. Устрашающе усмехнулся и молвил:
– Momento de verdad[37]. – Хоггу показалось, что под дешевой одеждой официанта проступает крестьянская мускулатура; сердце у него упало; он слишком стар; нечего было затевать все это. Он осторожно поставил стул на пол. И сказал:
– Ладно. Вот моя грудь, черт возьми. – И подставил ее. Джон этого не ожидал. И сказал:
– Ты пнул меня по воспаленной ноге, hombre. Нехорошо.
– Слушай, – сказал Хогг, – слушай. – Почему-то ему, учившему в школе латынь, а в Катании говорившему на итальянском солдатском и одновременно читавшему Данте с подстрочником, не хотелось демонстрировать свои романские запасы, и он буквально из крох создал не просто понятный испанцу язык, но и литературное произведение. – La consolatión del osso, – предложил Хогг.
Джон, склонив ухо набок, поправил:
– Hueso[38].
– Правильно, – согласился Хогг. – La consolatión del hueso resignado al evento. – Он не знал, правильно или нет, но чувствовал, что оно должно поместиться в строке исковерканной колониальной латыни. Так или иначе, Джон побледнел. Бог свидетель, это Орфей с лютней, который (по убеждению Хогга, усвоенному школьником Эндерби, впервые составил строку песни в виде семантического целого) сотворил деревья. – И, – очень храбро теперь сказал Хогг, – adiós, no è que un punto temporal.
– Sí sí.
– Y un punto, проклятье, нет ombra.
– No puede tener sombra, sí, claro[39].
– И не способна отбрасывать sombras чего-то final. (Рифма, да? Он действительно рифмует по-испански.)
– А. – И как будто они оба попросту старались припомнить фактически существующий испанский стих, Джон закончил: – El beso.
Beso, baiser, bacio. Поцелуй.
И не способна отбрасывать тени
Последнего поцелуя
Слезы навернулись Хоггу на глаза. Он себя чувствовал безутешно несчастным. И со слезами сказал Джону:
– Можешь получить мое место, когда пожелаешь. Оно мне не нужно. Я снова хочу быть поэтом, и все.
Джон кивнул. Каким бы начесноченным гадом он ни был, он понял.
– Поэзия не деньги, – сказал он. – Иди в Управление по оказанию государственного вспомоществования. – Подобно практически всем иммигрантам, он все знал о структуре Британского Государства Всеобщего Благоденствия. А потом поправился: – Нет, не стоит. Лучше обождать. Жди! – Будучи иностранцем, знал он и о неизбежной судьбе. – Жди, – сказал он, – el acaso inevitable[40].
Хогг изумленно взглянул на него. Неизбежного.
2
После этого они ладили гораздо лучше, хотя Джон преувеличенно хромал на ногу, которую Хогг пнул в голень. Когда пришел день торжественного обеда, оба работали в полном согласии, к удовлетворению мистера Холдена.
– Йя, – сказал он, – все, что нам тут нужно, – гармония. Прямо настоящая славная открывающая игру пара. Хоббс с Пи-Джи Грейсом, или еще кто-нибудь.
Впрочем, в середине дня мистер Холден нервно засуетился. Все надо сделать как следует. Стереофонические динамики испражняли (Хогг не мог выдумать другого слова) псевдомузыку, сочиненную и исполняемую почетными гостями, мистер Холден старался отрегулировать громкость, которая обеспечила бы надлежащий баланс подсознательной инсинуации и откровенной наглости. «Мебельная музыка» в стиле Эрика Сати[41], однако довольно хитроумно написанная, чтобы лаять в ушах, добиваясь поставленной цели. Хогг думал, что никогда в жизни не слышал подобного смешанного коктейля, непристойного, шумного и безвкусного одновременно. Он смешивал в огромных кувшинах коктейли, подбирая составляющие наугад. В конце концов, поэзия составляется из случайных деталей, а искусство готовки коктейлей гораздо ниже. В данный момент Хогг решился составить особенный личный коктейль, специально для тех, кого уже не любил, включая шайку богохульников, коллектив почетных гостей, и для тех, кого он, увидав, не полюбит. Смешал шотландское виски с британским вином типа портвейна, добавил горького бочкового пива, гренадин, ангостуру и чуточку очень кислого апельсинового сока в банках, дешево закупленных менеджментом несколько месяцев назад. Поскольку окончательный цвет вышел несколько тускловатым для праздничной выпивки, вбил туда три яйца, взбил электричеством в желтоватую розоватую пену. Осторожно чуточку попробовал из мерного стаканчика, обнаружив полное безвкусие. Хотя тошнотворное послевкусие оставалось, очень хорошо. Кивнув, он поставил кувшин в холодильник к другим охлаждаться.
– Лучше надень-ка парик, приятель, – посоветовал мистер Холден. Хогг оглянулся на Джона-испанца и трех официантов-албанцев из нижнего бара «Тихо Течет Милая Темза». Все они жутко смахивали на пугала в грубых бараньих тупеях, задуманных, как понял Хогг, в качестве определенного знака почтения к завидному атрибуту молодости, олицетворяемому богохульными хулиганами, а именно к буйному омерзительному изобилию волос на голове. Хогг вытащил свой парик и напялил. Ему не понравилось отраженье в зеркальной стене. Оно сильно напоминало мачеху, которая пробуждалась от послепивного туманного сна, надевая очки, вставляя зубы, с головой, покрытой очень неаппетитными лохмами Медузы.
Видно, первого прибывшего разнообразные заинтересованные лица откомандировали на устройство обеда. Хогг нахмурился: лицо казалось знакомым. Ирландское грозовое лицо, как бы борющееся со своим лондонским лоском. Пиджак без лацканов, зауженные брюки здорового цвета каши.
– Вы увидите, что все в полном порядке, – заверил мистер Паркин, гораздо более значительный, чем мистер Холден; британец, не американец, в полосатых брюках, коротком черном пиджаке, вроде члена парламента, встречающегося с избирателями в вестибюле. Явно, по мнению Хогга, избранный, а не продвинувшийся. Благородная седина, речь британского дворецкого, вполне способны означать, рассуждал Хогг, что это бывший жулик, который переквалифицировался из страха перед очередной отсидкой. Мистер Паркин отвечал за банкеты и завтраки для избранных и прочих. Высокое положение не позволяло ему знать фамилию Хогга. – Бармен, – велел он, – налейте мистеру Макнамаре.
Значит, вот это кто. Шем Макнамара, сам когда-то поэт, ныне переквалифицировавшийся вместе с мистером Паркином.
– Уиски зо лдом, – заказал Шем Макнамара на американский манер. Хогга он не узнал. Открыв мясистые губы, чтоб выпить, дыхнул каким-то зубным полосканием. Хогг вспомнил давний обед, устроенный для него самого, когда он в качестве Эндерби получал за стихи Золотую медаль Гудбая. Тогда Шем Макнамара был очень беден, всегда готов поесть на дармовщину, тихонько посмеиваясь над успехом собрата-поэта. Вместо дорогого полоскания он тогда ошеломляюще (ибо ни на одном банкете из-за известного лукового аромата не подается лук) дышал на Хогга-Эндерби луком.
– Лук, – молвил Хогг. На него изумленно нахмурились. – Луковый коктейль, – предложил он. Хорошо, только что выдумал. Шем Макнамара сильнее нахмурился. Что такое там в голосе, сказавшем «лук»? Он никакого лука не ест.
Начали прибывать гости. Безобразных, очень худых и долговязых девушек с костлявыми коленками напоказ Хогг счел фотомоделями или чем-то еще. Нагрузил для них подносы специальным коктейлем, наказав официантам называть его «Крусифайер»[42]. Кажется, он не причинял никакого вреда девушкам; они и есть богохульные сучки. Некоторые из молодых людей, литераторов с виду, заказывали очень сложные напитки, которые заново надо было готовить. Хогг чертыхался под своим париком, пока один молодой человек стоял у него над душой у стойки, тогда как некий экзотический нонсенс, именуемый Папой Доком, тягостно смешивал ром, лимонный сок, вермут, табаско (две капли), размешивая петушиным пером.








