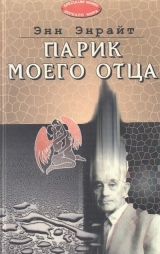
Текст книги "Парик моего отца"
Автор книги: Энн Энрайт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
ПОСЛЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ
Стивен переутомился. У него жар, я укладываю его в постель. Тепло, которое он излучает – вполне материально. Простыня зависла в нескольких миллиметрах от его тела; давлю на нее – безуспешно. Я решаю, что виновата столовская еда – а Стивен не утруждает себя возражениями. Пот у него вонючий. Он просит меня вынести из комнаты лилии.
Он просит меня вынести из комнаты зеркало. Спрашивает, приглядывалась ли я когда-нибудь к стене, с которой сняли зеркало – какой слепой она кажется, какой всеведущей.
Бедный мой больной ангелочек. Непривычное это дело – заботиться о нем вместо того, чтобы он – обо мне. Я держу его за руку – это ведь принято делать, когда кто-то болен. Или нет? Я вижу лишь радужное безумие его кожи: он все потеет и потеет, а ведь уже стемнело. Похоже, я не наделена даром исцелять болезни. В детстве я тренировалась на зверюшках – и они все перемерли.
Отец терпеть не мог домашних животных, поэтому мы копили на хомячков и приносили их домой как бы случайно; хомячков, мышей, любое создание, если оно было маленькое или пушистое или счастливое. Хотя, надо сказать, в нашем доме они никогда не выглядели особенно счастливыми. Не только из-за меня. Фил, не питавший к зверькам нежных чувств, относился к ним с неуемным любопытством ученого. Когда умерла наша первая кошка, оставив нам полную корзинку котят, Фил заявил, что она умерла от ямы. По-моему, он сам ее туда швырнул.
Был еще воробей со сломанным крылом, который обделал нам все руки. Не обижаясь, мы посадили его в картонную коробку.
– Эй, ты что, – говорили мы, – а ну не трожь его, – сажая его на ладонь, – он болеет.
Потом воробей сдох.
Некоторые хомячки начали сходить с ума, совсем как люди. Чтобы их успокоить, мы подливали им в воду шерри, но хомячки преспокойно продолжали влезать верхом на своих братьев и сестер, дочек и племянников, бабушек и кузенов и кусать их почем зря – они даже собственные передние лапы грызли – и питье было тут совершенно ни при чем. А что дело в сексе, я вообще не подозревала. Маленьких я для смеха запускала к себе за пазуху. Они двигались там, как могли бы двигаться мои будущие груди или как руки, которые будут их щупать. Я и не подозревала, что хомячки сумасшедшие. Каждое утро – кучка свежих трупиков; а потом внезапно исчезла вся компания. Мы как-то даже привыкли к таким исходам.
Потом мама легла в больницу – как если бы собралась рожать, но на этот раз речь шла не о родах. Кто за нами присматривал? Хоть убей, не помню. Наверняка отец: завязывал шнурки, расчесывал волосы, покупал всякую всячину с инструкцией на пакетике. Наверняка покупал нам лимонад. Как это я могла не запомнить лимонад и рыбные палочки, и как пришлось всю неделю ходить в одной и той же одежде? Как это я могла не запомнить, как он плюхал нас в ванну – всех троих сразу, а потом вытирал не тем полотенцем, тоже двоих или троих детей сразу, растирал нас до крика большущим наждачным полотенцем.
Это был не ребенок. Это была доброкачественная.
Мать была убеждена, что девочек не следует пугать – а то, когда они войдут в возраст, у них будут болезненные месячные. Но мы все равно узнали о нехорошей твари в ее животе. Наверное, соседки перешептывались над чайными чашками за закрытой дверью. С пинг-понговый шарик. С яблоко. С кулак. Да там целая лавка, с фрукт. Да там целый собор, с твою голову. Панорама, крупный план, панорама, крупняк.
Сильнее всего мне запомнился не размер – запомнились волосы. Вот о чем они перешептывались. Разрастаясь, оно потело и покрывалось волосами. Ну, эти сами в руки даются. Если у него растут волосы и, может быть, зуб (и, может быть, улыбка): знай, оно безобидное. Разумеется, все это было вполне логично.
Я знала, с чего оно у нее. Я знала, кто посадил в ее живот волосатую тварь. Нет, вовсе не отец – а зверюшка у него на голове. Вот почему тварь сделала ей больно. Вот почему тварь не была ребенком. Правильно мы боимся.
Стивен говорит:
– Расскажи мне для разнообразия что-нибудь хорошее. Устал я от всего этого.
– Ну, что тебе рассказать?
– Чтоб душа отдохнула.
– Верни мне мое тело. Тогда на нем и отдохнешь.
– Устал я от всего, – говорит он. – Я ведь не сам напросился.
По-видимому, мне суждено его потерять – так или иначе. Меня переполняет стыд. Так бывает, когда общаешься с чужими людьми – что-нибудь им показываешь, а они и внимания не обратят. Точно я ему что-то показала – а ему параллельно. Видали мы таких ангелов…
– Или я – совсем из рук вон? – говорю я.
– Или я – совсем из рук вон? – говорит он.
– Перестань, – говорю я.
– Перестань, – и он поворачивается ко мне спиной. Простыня тянется за ним, задирается, обнажая полоску обиженного, вдавленного в матрас тела.
Сижу себе. И солнце тоже садится. Проскальзывает в дырку на облаке – и от самых корней мебели протягиваются длинные кнуты теней, и все вокруг начинает казаться дряхлым, но живучим. Волосы Стивена на свету сверкают, как золотые, слегка-слегка подкрашивая его тень на подушке. Его нимб мне вообще-то не мешает. Но больно уж противно, что он то исчезает, то появляется.
Расскажи что-нибудь хорошее, говорит он. В голову мне ничего не лезет, и я рассказываю о дне, когда узнала, что такое облака. Мы с отцом сидели на холме в лесу, где тебе видно далеко, а тебя – совсем не видно, и смотрели, как свет и тьма гоняются друг за дружкой по лугам и лесам. Отец поднял глаза к небу, и я тоже задрала голову и увидела, как высоко над землей облака, а солнце – еще выше. Поглядев на землю, а потом – опять на облака, я сразу вдруг все поняла: и про углы отражения, и про свет, и про ветер, и про расстояние. Я осознала, что отбрасывать тень можно, и не касаясь земли.
Указав на темные пятна, бегущие по земле, я сказала: «Гляди, облака», – и засмеялась. Я помню ответный взгляд отца – грустно-изумленный. Так смотрят родители, осознав дистанцию между миром и своим ребенком.
– Разве ты этого раньше никогда не видела? – спросил он. Словно тот факт, что я это видела, имел решающее значение.
– Хм-м-гм, – говорит Стивен.
– Что, недостаточно хорошая история?
– Отличная, – говорит он.
Крылья Стивена шевелятся под простыней, как культи. Я так расстроена, что не могу ни слова сказать, ни отойти. Я сижу у кровати, меж тем как сумерки сгущаются и вновь разжижаются, превращаясь в ночь. Когда же к окну подходит луна, я смотрю на отражение стекла на стене, пока луна не заходит.
НА СЕБЯ ПОСМОТРИ
Я узнаю ее с порога – ту девушку, которая может предъявить права на моего ангела, ту девушку, которая из чистого каприза может обернуться мной. Она тихо сидит и улыбается. Глаза у нее сияют, ноги скрещены. Лицо у нее знакомое, но не это меня смущает. Собственно, мы их по такому принципу и отбираем. Говорим: «Есть одна Джулия Робертс, только губы подкачали». Она похожа на девушку из соседнего дома, ибо ей положено походить на девушку из соседнего дома. Она похожа на всех героинь наших передач, но на сей раз это меня не утешает.
Пока ее снимают для проб, я придумываю новые состязания для самой грандиозной, самой лучшей, самой последней передачи и время от времени поднимаю глаза – пусть думают, что я внимательно слежу за происходящим. Люди телевизор не смотрят – они ссорятся, кормят детей, читают газеты, пока что-нибудь не притягивает их взгляд.
Девушка очень даже притягивает мой взгляд. Приятный голос – средний класс – секретарь-телефонистка – баскетбол – посещение ночных клубов – анекдот – уволилась с работы, чтобы попутешествовать – смешной анекдот – хочет работать в фонде борьбы с нуждой. Дамьен: «С какой именно НУЖДОЙ вы собираетесь бороться?» Не хлопает дверью. Смеется смехом «скверный мальчишка» с капелькой «смотри, достукаешься». Отличный экземпляр. Только глаза чересчур уж сверкают.
Подхожу к ней и представляюсь. Она думает, что ее забраковали, потому что Дамьен на том конце комнаты. Говорю, что тут главная – я. Заулыбавшись, она на ходу перестраивается. Моя не первой свежести одежда ее как-то успокаивает.
– Нервное занятие, – говорю я, а она косится на свои ноги в месте, где их пересекает юбка. Колготки у нее какие-то чересчур оранжевые – а может, ноги слишком оранжевые. Хитрый фальшивый загар, нанесенный на кожу со страху, потому что камера не лжет.
– Верно сказано, – говорит она.
– У вас отлично получилось.
– Вот здорово.
– А теперь скажите мне, пожалуйста, чем вам нравится наша программа?
Да-да-да, и все это казалось бы вполне целесообразным, не будь она женщиной, которая собирается украсть у меня моего ангела. Поэтому я задаю вопрос, которого мы всегда избегаем, хоть и читаем им всем маленькую проповедь о добрых шутках и добрых намерениях. Я спрашиваю:
– У вас ведь нет друга? – и она говорит «Нет» таким голосом, что я сразу понимаю: врет. Правда, при описании большинства известных мне романов и связей соврать пришлось бы далеко не единожды. Но фиг с ней, с ее историей любви – одного лживого «нет» мне достаточно.
– Ну что ж, Эдель, – говорю я, – мы вас берем, – и она ужасно радуется.
Я задерживаюсь еще на минутку – обговорить просмотр костюмов.
– Принесите какую-нибудь одежду, и мы посмотрим.
– Вы хотите, чтобы я снималась в своей одежде? – спрашивает она, и в ее голосе звучит нечто большее, чем обычная паника, большее, чем обычное кокетство – «Ой, как можно», – которое, если хочешь попасть на экран, следует оставить за дверью.
Она поднимает на меня глаза. Не знаю, что она видит. Ничего своего у меня не осталось. Возможно, она видит себя. Возможно, она видит жалость, которую я чувствую безо всякой на то причины. И лишь вспомнив свое собственное тело: печальное, нежное, никакое, я понимаю, о чем мне хочется ее спросить.
– Вы когда-нибудь?.. Вы раньше не участвовали в нашей передаче?
– Простите? – говорит она.
– Я убеждена, что уже видела вас на передаче.
– В зале?
– Нет, – говорю, замявшись буквально на секунду.
– На передаче? – переспрашивает она.
– Да.
– Это была не я.
– Ну хорошо. Вас случайно не Мойрэ Кой зовут? – я повела себя по-хамски. Но, хоть я и зашла слишком далеко, мне и во сне привидеться не могло, что она спросит:
– Значит, так ее зовут?
Оказывается, Эдель не только на меня производит такое впечатление. Она сама как-то вечером сидела у телевизора и вдруг увидела свою точную копию в зале «Шоу полуночников».
– Значит, это была другая девушка.
Но то было лишь начало. Еще она видела себя отвечающей на вопрос об Европейском Союзе в опросе прохожих на Генри-Стрит.
– Может, она просто очень на вас похожа.
– Да.
– А что еще?..
– Она носит мою одежду.
– Она носит вашу одежду, – говорю я.
– Но не так, как я.
– Не так.
– По-другому комбинирует.
– Ага.
– Это не я, – говорит она. – Серьезно. Спросите моего друга. Он видел меня в «Вопросах и ответах», когда я ездила на две недели в Испанию. Я говорила о «Мясном комитете». Ну, что я знаю о «Мясном комитете», а? Мало того, я была незагорелая.
– Я думала, что у вас нет друга?
– Ну, больше нет, – говорит она. – Ясное дело.
Затем она увидела себя в «Рулетке Любви».
По-настоящему ее взбесило, что хотя они носят одни и те же вещи, эта женщина одевается лучше. И Эдель серьезно занялась аксессуарами.
– Все время шарфы покупаю, – говорит она. – Но, хоть тресни – не умею я их носить как надо.
Тогда она коротко постриглась, осветлила волосы и села писать нам письмо. И вот теперь она здесь. Она достает водительские права. «Эдель Лэмб», – значится там.
– По рукам, – говорю я, потому что ручей не сложишь и в ящик не положишь. Кроме того, на беременную она не похожа – а моя мать в таких делах никогда не ошибается.
ВООБРАЖАЛА-ХВОСТ-ПОДЖАЛА
– Мети, мети, мети, моя ложка, по тихим водам Сни, – когда я прихожу домой, отец поет. Я даже не знала, что он это умеет.
– Ну конечно же, он умеет петь, – говорит мать.
– Это надо написать на стене большими свекольными буквами, – говорю я, а она говорит:
– Грайн, мне одного из вас вот так хватает.
– Когда он бросил петь?
– Что значит «бросил»?
– Ну, я его раньше никогда не слышала.
– Я не виновата, – говорит она, – что ты забываешь все хорошее.
А из гостиной доносится заунывный баритон, который я даже не могу вообразить исходящим из губ моего отца.
– Кажется, он в отличной форме.
– Да, – говорит она с легкой опаской. («С опаской, с опаской, с опаской, с опаской сливки отцеживай давай»).
– Ну, какие последние известия?
– Да чего здесь может быть нового?
– Ну, он по крайней мере поет.
– Да.
– Какие чудеса и приключения?
– Нет, Грайн. Никаких приключений, – и она смеется, как ей и положено.
– Есть улучшения?
– Ну, он, по-моему, стал больше на себя похож. Кажется…
В стене молчания, огораживающей их супружескую жизнь и одр больного, внезапно появляется брешь.
Я наглею:
– Хорошо, раз так.
– В каком смысле хорошо? На что ты намекаешь?
Я заглядываю в гостиную поздороваться. Отец сидит в кресле в простенке между дверью и окном. Он одет в пиджак и шляпу. Один шелковый платок моей матери у него на шее, другой обвязан вокруг запястья.
– В нем что-то изменилось.
– Говоришь, изменилось? – произносит мать, и я чувствую себя шестилетней девочкой, которая пытается заделать провал между материнскими словами и улыбкой на ее лице.
Когда приезжает мой брат Фил, мы все сидим в гостиной и разговариваем, перекрикивая телевизор – совсем как в детстве. Вот только в детстве отец не сидел в углу и не мурлыкал, что мне людская молва не указ.
Несколько лет назад, сделавшись взрослыми, мы стали при разговорах смотреть друг на друга – и начали делать довольно-таки удивительные открытия. Началось это с Фила. Когда Фил обзавелся работой и квартирой, он взял привычку подходить к телевизору и выключать его – чтобы придать себе весу, решили мы. Но сегодня все иначе. Как и остальные, Фил весьма охотно сидит перед ящиком и встречает рекламу гоготом, а новости – руганью, а также сообщает мне, что художники опять схалтурили. Последнее меня весьма утешает – значит, лажа заметна не только мне.
Понимаете, если выбирать, на что смотреть – на экран телевизора или на парик отца, – телевизор выигрывает всухую. Выбор облегчается еще одним обстоятельством: с последнего раза, когда мы видели парик, он подрос. Этим наблюдением мы не хотим делиться друг с другом, даже если показывают что-то очень шумное или занимательное. Мы не хотим присматриваться к отцовскому парику, проверяя, как он там растет; дайте нам тридцатиминутку с рекламной паузой. Мы не хотим разбираться с париком – начал ли он расти минуту назад или, наоборот, минуту назад перестал. Точнее, мы хотим разобраться в проблеме парика немедленно, и это желание бьется во всех наших натянутых, как тросы, зрительных нервах; во всех зрительных мускулах, тканях и волокнах, которые, как доказывает практика, чрезвычайно крепко удерживают глазные яблоки в наших глазницах.
Смотрим новости. Я рассказываю матери, что репортерша однажды швырнула со второго этажа пишущей машинкой в своего любовника, который как раз выходил из здания. Потом смотрим рекламу, и мать спрашивает: «Сколько ему за это заплатят?», а я говорю: «Не знаю. Вагон с маленькой тележкой».
Потом смотрим ток-шоу, и Фил говорит, что на прошлое Рождество видел ведущего – тот входил в двери «Браун-Томаса»; это сигнал, чтобы я начала описывать личную жизнь этого самого ведущего, а мать сказала бы: «Не верю, что он ходит по бабам, очень уж он чистенький», а я бы вставила: «Может, он это под душем делает».
Разговоры сплошь старые, но трудно быть оригинальными, когда в углу комнаты растет парик, а человек под ним надрывается от смеха.
– Почему это ты не работаешь в ДЕЛЬНЫХ передачах? – спрашивает Фил, когда ток-шоу перескакивает с жертв ампутаций на чемпионов по диско-танцам. – На их лицах еще не высох, – заявляет ведущий, – пот недавней триумфальной победы.
– РАЗ-ДВА-МАШЕМ! – кричит отец. – Помнишь Джози?
– Это классная передача, – говорю я.
– Гадость первостатейная, – говорит Фил.
– Сперва вышла за того парня из Иордании, потом он ее бросил, – говорит отец.
– Гадость, – говорит Фил. – Гляди, какая у этой тетки задница. Кто за это отвечает? Кто выпустил эту задницу на экран? Ишь, розовую лайкру напялила!
– А тебе красота нужна? – говорю я. – Глянь в зеркало. Тебе нужно дельное телевидение? Это же тетка с нашей улицы решила перед всей страной покрасоваться.
– Бедная Джози, – говорит отец. – Cad а dheanfamid feasta gan Ahmed?[18]18
Cad a dheanfamid feasta gan Ahmed? – Что бы мы делали на празднике без Аймед? (ирл.)
[Закрыть] – a мать смеется. – Помню Джози, помню, – говорит она.
– Молодец, что поняла, – говорит отец, и она опять смеется.
Мы с Филом начинаем паниковать. Прибавляем громкость.
– Кошка драная, – говорит Фил. – Ишь, выпендривается. Задавака.
– Чем тебе не нравятся задаваки? На себя погляди. В трусах от Армани, потому что на костюм тебе не хватает.
– Под чем? – говорит отец.
– Да вот оно, – говорит мать, имея в виду невесть что, и кладет руку ему на плечо.
– Телевизор-воображала людям ни к чему, – говорю я. – Он им нужен так, для компании: парочка сплетен, немножко красивых переживаний и общая песня, когда все облокачиваются на рояль, – уголком глаза я вижу, что отцовский парик исподтишка спускается по его шее.
– Только не говори, что сама в это веришь. Ты погляди, чушь какая, – говорит Фил, заметивший, куда соскользнул мой взгляд, и решивший вернуть его назад, на экран.
– Ну и что? Работа у меня такая – верить, – говорю я.
– Ага, как же.
Наверху мать застигает меня в тот момент, когда я рассматриваю новое фото на стене. Там изображена она с младенцем на руках. Младенец – это я. Она сидит на траве и держит меня стоймя, демонстрируя фотоаппарату. Ее лицо исполнено материнской любви, а глаза полны любовью к человеку, который ее снимает.
– Зачем ты это вывесила? – говорю я.
– Грайн, когда же ты вырастешь? – говорит она, пробегая в ванную.
– Тут сфотографирована я.
– Вот именно потому, – говорит она, – и повесила. А ты как думала?
– Кто это снимал? – спрашиваю я. – Это папа снимал?
– А ты, как думаешь, кто? – говорит она, захлопывая дверь.
В ванной она застревает что-то надолго, покамест внизу отец поет, а Фил молча сидит на диване. Моя мать плачет вдали от людских очей, но безо всякого стыда. Слезы легко подступают к ее глазам, потому что у матери есть право плакать – в своей собственной ванной, в своей собственной жизни. Она плачет негромко и безудержно, потому что слезы – как и дети – принадлежат ей.
Внизу ток-шоу сменилось тридцатиминуткой о Шэнноне. Полный зал местных жителей, которые вскакивают с мест, чтобы попасть в кадр и быть сосчитанными.
– Гидроэлектростанция, – говорит телевизор. Отец начинает заунывно мурлыкать.
– Аэропорт, – говорит телевизор. Отец запевает песню.
– Центр спутниковой связи, – говорит телевизор (была у отца одна мечта – висишь себе в космосе, а земля где-то внизу вертится).
– Вставала бледная луна, – поет отец, – над млечным родником.
И внезапно ему на три голоса начинает подпевать хор девочек: серьезные альты в бархатных платьицах, бойкие меццо с глазами стюардесс и бедная, знаменитая сопрано, чьи губы хватают высокие ноты, как лошадь – мятный леденец с травы. Они поют, чтобы разбить вам сердце, эти Цветы Ирландской Женственности. Их глаза правдивы, руки потны, а девственность реальна, как кофе по-ирландски (на мой вкус, вполне удачное сравнение).
Уголком глаза я вижу, что ошиблась. Парик перестал расти. Парик больше не растет. Еще одно усилие над собой – и мы, неровен час, сообразим, что он всегда был такого размера, даже когда мы были детьми. И тогда парик опять начнет расти.
И все это время на диване между мной и Филом то растягивается, то сворачивается в тройной канат наше детство.
МЕСТЬ
Началом мести становится тело моего детства, молочно-белый пробор в его волосах. Маркус и я сидим в разных концах офиса. У нас двоих есть два детства – по одному на нос. Похоже, это справедливое распределение.
Мне почти нравится мое новое девчоночье тело, потеющее без запаха. Почему бы, собственно, им не попользоваться? Я тащу его с собой в кабинет Люб-Вагонетки и сажаю на стул. Подсовываю руки под бедра, чтоб не ерзать; не позволяю себе ни пускать губами пузыри, ни задирать юбку на голову, ни просить у Люб-Вагонетки денег. Она стучит по столу телепультом. Если она укажет пультом на меня, я запросто могу растаять в воздухе.
Телевизор шумно оживает. Она просматривала пробы. На нас с экрана пялится замороженный Стивен. Рамка кадра рывками ползет вверх по лицу, каждый раз перерисовывая его.
– Ну, что скажешь? – говорит Люб-Вагонетка. Хороший вопрос. То, что я скажу, огромно, как эта комната. То, что я скажу, окружает меня со всех сторон. То, что я скажу, можно произнести лишь по кусочкам.
– Это нечестно! – вот что я говорю. Она смотрит на меня.
– Честно, – говорит она мягко, с ностальгией по самому этому понятию. – Честно, – выговаривает она, точно слово, которого сто лет не слышала (типа «какашка» или «пи-пи», хотя вокруг нее все разговаривают исключительно по-матерному).
– Вот что я скажу: я умею играть по правилам. Договорились?
Та-ак, что это я только что ляпнула?
– Ничто не вечно, Грейс.
– Ничто не вечно, и когда дело – труба, я сумею сыграть по правилам.
– Что дело – труба, до тебя доходит, лишь когда все опять в порядке.
Ее руки отменно воспитаны и очень осторожны. Она ведет программу новостей для глухих в замедленной съемке. Позади ее рук Стивен – и в самый неуместный момент – начинает хохотать.
– Оу-го-гогх, – говорит он. – Ты могла бы меня предупредить.
– Я тебя предупреждала: они – люди серьезные. Вся аж посинела, предупреждаючи.
– Но такими словами, что я вообще не понимала, о чем ты.
– Ау, – говорит Стивен, вновь замирает и опять повторяет: – Ау. Ау-у. А-у-у. Ха-у-у-у.
– Я дала передаче имя, – говорю я. – Без меня все было бы иначе. Назови мне хоть одну деталь, которой передача обязана не мне, а Маркусу.
– Никто в тебе не сомневается.
– Ау-ух. У. Хау-у, – слова выползают из его губ, как изгоняемые бесы.
– Что ты имеешь в виду? – спрашивает она. – Чего ты хочешь?
Как мне сформулировать, чего я хочу? Я просто не хочу остаться в хвосте, покамест Маркус покупает рубашки полудюжинами, а она взлетает по перилам служебной лестницы на своей неподвластной трению заднице, как Мэри Поппинс.
– Худжхауаррр, – говорит Стивен.
– Это всего лишь слухи, – говорит она.
– Маркусу ты сказала, что все решено.
– Они решили, что такой исход возможен.
– Охм. Хм, – говорит Стивен на экране.
– Все зависит от нас. От тебя.
– Хуаургх. Охм.
– Ну, чего тебе надо? Здесь ты можешь добиться всего, чего пожелаешь. Только не позволяй себе психовать из-за нашего подвешенного положения. Серьезно. Пользуйся хаосом. Не борись с ним.
– Все, – сказали ее руки, – все, что ты захочешь.
Она не знает, чего я хочу. Она не знает значения слова «хаос». Со всеми ее «так-либо-иначе», со всеми ее «или-или-либо-то-и-другое-вместе». В детстве я хотела, чтобы лысые-и-волосатые отцы других девочек стали моими. Но их я тоже не получила.
– Я хочу «Шоу встреч».
– Ну и? Есть идеи?
Зачем это я буду подбрасывать ей свои идеи? Она лучше умеет использовать чужое, чем придумывать свое. Тем не менее я перегибаюсь к видаку и заставляю его работать, как ребенок наугад нажимая кнопки.
– Для начала – вот мой ведущий.
– О, – говорит Люб-Вагонетка, когда выпущенный на волю Стивен разражается своим райски-безмятежным смехом.
Я оставляю ее наедине с пленкой. Она останавливает запись, перематывает назад, вновь прокручивает смех. Стоп. Перемотка. Смех. Стоп. Перемотка. Смех. Стоп.
Уже в дверях я напоминаю ей, что в унижениях Маркус, возможно, и разбирается, но секс ему не по плечу.
– В играх он собаку съел, – говорю я, и мы обе улыбаемся, хотя кто может знать, что смешного она находит в моих словах? Иду в туалет и изливаю ее из себя вместе с мочой. Изливаю из себя Стивеновы «стоп-поехали». Работая своим новеньким детским мочевым пузырем, изливаю саму себя торопливо, без труда – назад в реку времени.








