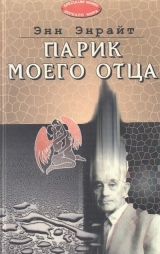
Текст книги "Парик моего отца"
Автор книги: Энн Энрайт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
ДОЛГОНОЖКА
– И чего тебе, собственно, сдался этот телевизор? – спрашиваю я, когда он приходит наверх в спальню.
– Хочу в него попасть.
– Не стоит, – говорю я. – Им надо, чтоб ты производил дерьмо и вкалывал, как семь лошадей. И вообще, ангелу там не место.
– Зато мертвецу там самое место.
Тут я сказала ему, что не такой уж он мертвец. Мертвецов много – чуть ли не каждый встречный. Спереди член, сзади бумажник. Конечно, таких легко кадрить – кто спорит? Зато они опасны. Заражаешься их снежной слепотой. Короче, мы начали трепаться – до зари пережевывали старую жвачку, наговорили сорок бочек арестантов. Я рассказывала ему то про одного мужика, то про другого, про типа, который надевал два гондона, про типа со шпагатом в кармане и про этого самого, у которого подмышки пахли колючей проволокой. Я рассказала ему, как оглядываешься. Как теряешь из виду то, что у тебя прямо перед глазами. Как обращаешься в соль.
Как же сладко вдруг что-то понять в четыре утра, в час, когда весь мир раскрывается на новой странице, а кровать тихо-тихо отплывает во тьму. Итак, я опять влюблена, а Стивен опять приуныл. Он твердил: «До чего же мне хочется умереть. Хоть еще разок. Хоть раз в жизни взаправду», а я его слушала и обнимала, чтобы согреть и успокоить. Он был легкий и рвался из рук – совсем воздушный шарик, только мягкий, не упругий.
– Мой надувной мужчина, – сказала я, потому что в потемках глупости не казались глупостями. – Мой волшебный резиновый ангел, – и Стивен слегка, как-то даже по-людски, развеселился.
Я объявила, что влюблена в него и единственное средство покончить с этой любовью – секс. Он со мной не согласился, но, охваченный ностальгией по собственному телу, рассказал мне о себе – о Стивене до моста.
В Риджине он познакомился с одной девушкой. Дело было еще в те времена, когда полагалось надевать белые перчатки и «заниматься этим» за живой изгородью, поскольку больше было негде. Между прочим, живых изгородей в Риджине остро не хватало. Итак, она была в белых перчатках, а небо было плоское, и земля – тоже плоская. Они брели вдоль горизонта – там ведь ничегошеньки не было, один горизонт – а небо и земля, как «молния», расстегивались на их пути.
Стивен сказал, что она была совсем девочка, что белые перчатки и запах ее летнего платья были точь-в-точь, как грязная гостиная, где сидела с вязаньем ее тетка. Груз за его ширинкой казался тяжелым и гадостным, словно какашка, когда возвращаешься из школы домой. Ему казалось, что он тащит набитую невесть чем сумку, которую нельзя ни на землю поставить, ни открыть; а когда они сели под изгородью, он не знал, куда девать руки, не говоря уже о своем остальном теле, а она сидела себе и говорила о своей тетке, и оглаживала свои белые перчатки, вверх-вниз, раз за разом.
Он хотел на ней жениться. Она казалась ему чистой, хорошей и оскверненной жизнью. Он хотел очистить ее от кожуры и выбросить, очистить и выбросить. Он чувствовал, как она подрастает на солнцепеке, прямо здесь, сидя у него под боком. Если бы не перчатки, она запросто могла бы треснуть по швам. Ее звали Линн.
Она говорила о справедливости. Говорила, что жизнь к ней несправедлива. Потянувшись на солнышке, он спросил:
– Ну, а ты чего ожидала?
– Да просто чтоб было нормально, – сказала она, и он начал ее презирать. Голосок у нее был слабенький, скулящий. Она набухала, как растение. Где уж тут ее целовать.
Он почувствовал спиной землю и припомнил вальс прошлой недели. Поглядел на белые перчатки, которые дряблой кожей болтались на ее руках. От перчаток ее пальцы казались квадратными, коротенькими.
– Ты хорошая, я тебя не стою, – сказал он искренне.
– Как это «не стоишь»? Это я-то хорошая? – сказала она.
Она была красивая. Перекатившись на живот, он положил голову ей на колени. Ткань ее белых перчаток коснулась его волос. Он сказал:
– Я ненадолго съезжу на север, заработаю кучу денег.
И будет коттедж с розовым кустом у дверей.
Извернувшись, он подставил лицо солнцу. Небо было плоское, горячее, близкое-близкое. В уголке его глаза пестрой горой маячил кусочек ее платья. Взмахнув рукой, она поймала своей белой забинтованной, перчаточной ладонью долгоножку. Подержала добычу между его глазами и небом, оторвала ей пару ног и отпустила.
Он вспомнил, для чего ему член и для чего служат губы. Он вспомнил, что их двое и сидят они под живой изгородью. И когда они занимались любовью, она раздвинула ему ягодицы своими руками в белых перчатках.
Вот как Стивен, по его словам, лишился девственности – нет, это не был первый половой акт в его жизни, но со враньем – самый первый. Потому что девушка была некрасивая. И в их будущем не было никакого коттеджа, никаких роз.
Я сказала, что в делах сердечных мужики ужас как привередливы. Все волнуются насчет искренности. Их послушать, так Искренность – маленький городок на самом конце железнодорожной ветки, со свежепокрашенной вывеской на вокзале.
Тут уж ничего не оставалось, кроме как завалиться спать. Мне приснилось, что Стивен, как всегда, парит над кроватью, а его слезы проникают в меня (обыкновенное дело для сна) и что это изнасилование в том смысле, что изнасилование – не шок, но эрозия, после него кажется, что ты старше гор и изношена до дыр (во всяком случае, так меня уверяла одна женщина).
Утром я обнаруживаю, что его слезы небесной скорби оставили на подушке россыпь еле заметных бурых следов. – Что это с твоими слезами, Стивен? – спросила я. – Раньше они были лучше «Тайда». Не слезы, а жидкий свет.
ЛЮБОВЬ
Кажется, нам есть что праздновать. Мы слепили сто пятьдесят конфеток из дерьма и теперь обязаны съесть ужин и выпить вина, что нынче не так уж опасно, поскольку мы перебесились. Люб-Вагонетка освободила нас от обета нравиться друг другу, и ее паранойя не путается у нас под ногами. Свои недостатки – если не считать паранойи, – она знает и напивается до онемения, а не до речей о том, что мы бы пролетели, аки фанера над Парижем, если б не Гэри-звуковик.
Я сажусь рядом с Джо, так как у нее инстинкт порядка, и напротив Маркуса с Фрэнком, ибо на стадии сантиментов хорошая свара – самое оно.
Фрэнк заявляет, что у нас на передаче еще ни разу не было девственницы – а он их с пятиста шагов чует.
– А как же Мойрэ из Донникарни, – спрашиваю я, скосив один глаз на Маркуса, – этот взращенный в монастыре цветок ирландской женственности?
– Ноль шансов, – говорит Фрэнк. – Монастырские – самые секс-бомбы.
Фрэнк любит молоденьких, но девственницы оскорбляют его изысканный вкус. Фрэнку нужна малолетка, которая все уже умеет. В этом он похож на большинство моих знакомых – просто, в отличие от них, не боится сознаваться в своих склонностях.
– Я никогда не была девственницей, – говорю я. Эту весть Фрэнк пропускает мимо ушей благодаря своему абсолютному психическому здоровью. Свою нормальность Фрэнк создавал, не покладая рук. У него есть жена и дом. Он совершенно не умеет держать рот на замке. Раньше он рассказывал мне, как Шейла больше не хочет заниматься сексом дома, но всякий раз, когда они ужинают у друзей, тащит его за ремень в ванную. Теперь он толкует о молоденьких попках. Я всего этого знать не хочу. Женатым и замужним надо бы держать язык за зубами. Молчаливые страдания – цена, которую они платят за счастье. Они себе счастье купили. А я – нет. У меня всего-то и есть, что парочка одноразовых партнеров, да ангел на кухне, ломающий мою бытовую технику и не желающий освобождать помещение. Мне ясна разница между сексом и любовью, между любовью и всей оставшейся жизнью. Так что пусть женатики мне не рассказывают, что у них выходит хорошо, а заходит плохо. И жен их тоже ко мне не подпускайте – хотя бы на вечеринках.
– Ангел? – переспрашивает Джо.
– Да так, ерунда, – говорю я.
– Стоп, – говорит Маркус. – Мы все были целками. У тебя – и то было детство, и ты его потеряла. А может, ты родилась со встроенной спиралью, здесь, в четвертом округе города Дублина, – и через его глаза, точно нитка обшарпанных бус, продергивается коротенькая издевка.
* * *
Мать думает, что инсульт отца стал расплатой за мою утраченную девственность – и я с ней согласна. К черту факты. Факт номер один, так его и так, состоит в том, что я никогда не была девственницей, никогда не имела плевы, никогда не знала разницы между потерей и приобретением.
Факт номер два состоит в том, что я прошлялась всю ночь в ту самую ночь, когда голова моего отца дала течь, и мать со зла на меня не спала и сидела на кухне, а отец тем временем опорожнил полмочевого пузыря и полкишечника на свою половину кровати.
И тут вовсе неважно, что я всю ночь провела за разговорами, вполне одетая, пока моя мать сидела и слушала, как приоткрывается, вновь и вновь, входная дверь – только не в нашей реальной прихожей, а у нее в голове.
Так что моя девственность – если бы она у меня вообще была – являлась просто неким представлением, существовавшим в сознании моих родителей. Но главный удар принял на себя отец – это его мозг разорвался, облился кровью, преобразился. Неудивительно, что мать почувствовала себя ханжой. Неудивительно, что я себя возненавидела.
Я вернулась в семь утра – в пустой дом. Позвонила соседям, то есть одновременно обнародовала две новости: что я шлюха и что отец в больнице. С тех пор единогласно решено, что больной отец меня совершенно не волнует.
Несколько недель спустя я все-таки впервые переспала с Бренданом (большим, крепко укорененным в земле и искренним). Да, у меня был траур – только не по моей девственности. Я оплакивала свою мать, сидевшую на кухне, и отца, лежавшего в постели. Секс меня ошеломил. А еще меня ошеломило, что ритм любви, когда мы из него не выбивались, оказался тем жутким скрипом входной двери в голове моей матери: двери, которая беспрерывно приоткрывалась, но так ни разу и не захлопнулась.
Все это страшно расстроило Брендана. Мы лежали на его грязных перекрученных простынях. Я сказала: – Это я в первый раз. Сказала: – У отца совсем недавно был удар.
* * *
– В любом случае, – говорит Фрэнк, – никакая она не девочка – тем более, что Маркус ей засадил в ночь с пятницы на субботу.
– Не в этом дело, – говорит Маркус, у которого ум педантичный, зато в штанах ничего выдающегося, – неважно, девочка она или кто – ведь на экране, на время программы, для всех лохов на диванах эта молодая особа выполняла функции девственницы. Это и есть брехня, за которую нам деньги платят.
– Функции девки она выполняла, – говорит Фрэнк.
– Проститутка, – говорю я тарелке.
– Выпьем за говорящих: «Дам!» – заявляет Маркус. – Вот что, когда кто-нибудь критикует программу – согласен, она дерьмовая, согласен, с ней не так все просто; и хоть она дерьмовая и простая, как дважды два, но все равно непростая: это как снять девчонку на ночь, оплатить минет или влюбиться. Так вот, когда люди критикуют свои впечатления – все, что САМИ увидели на экране, а черт их разберет, что они там увидели – их слова описывают не программу, а их самих.
– Это ты лихо! – говорит Фрэнк.
– Я знаю, что вижу, – говорит Джо.
– Вот именно, – говорит Маркус. – А я что говорю.
Маркус всегда побеждает, а) потому что он все время меняет свое мнение и это ему дозволено, б) потому что он где-то вычитал, что истина – это здание, сложенное из противоречий. Так что теперь он и рыбку съел и на кое-что сел, и дерьмо из него выходит марципанчиками в сахарной глазури.
– Маркус, – сказала я. – Проституткой я назвала не Мойрэ Кой – вне зависимости от того, спал ли ты с ней. Не знаю, как уж тебе это втолковать, но она просто безалаберная молодая женщина, которую мы на днях сняли для телевидения. Проституткой я назвала тебя. Могла бы и Фрэнка так назвать, но мы все знаем, что он каждой бочке затычка, Фрэнком никого не удивишь. А тебя я назвала проституткой, потому что в эфире у тебя встает и потому что материшься ты, как дышишь.
– А ты работаешь в конторе матери Терезы, – сказал Маркус. – Как же, знаем-знаем.
– Я знаю, кто я такая, – сказала я. – Я знаю, что шляюсь по панели на шпильках, на хлебушек зарабатываю. А вы просто тусуетесь, потому что любите хрены нюхать.
– Чего это ты вдруг такими словами заговорила? – спрашивает Маркус.
– Я только говорю. А вот ты им с колокольни машешь.
– Ага. Думаешь, я с ней спал?
– Я думаю, что тебе без разницы – в эфире ее трахать или вне эфира.
– А что, разница есть? – говорит Маркус, ибо он жаждет «драматизма» и не согласен отступать.
– Туфли новые? – спрашивает Фрэнк.
Едва подняв с пола вилку, он ныряет обратно под стол, а вслед за ним – Маркус и Джо. Их локти, едва не сталкиваясь с плывущими по воздуху кофейными чашками, встают торчком, как акульи плавники. Поскольку объектом всеобщего внимания стали мои туфли, я тоже засовываю голову под скатерть.
Подстольный мир огромен. Старинные звуки оглашают его. Там, приложив к губам палец, сидят наши детские годы.
Мы разглядываем лица друг друга, такие маленькие на фоне бедер – широких, уютно развалившихся на стульях, рассевшихся, как бог на душу положит, развязно подбоченясь. Тут же и наши ноги – разлучившись с торсами, они сделались раскованными и нежными. Прикидывают, как бы им перезнакомиться и затусоваться – можно, к примеру, разбрестись разномастными парами, а наши задницы и причиндалы пускай себе висят в воздухе.
Мы захохотали. Я приподняла свои конечности, чтоб казались потоньше, потом опять опустила и, ломая шею, вытащила голову наверх – пусть ноги беседуют на том тайном языке, который обязательно должен у них быть. Всплыв до уровня стола, я потеряла из виду коленки и ширинки Маркуса с Фрэнком, зато обрела их спины, слепо шевелящиеся на линии столешницы.
Возвращение на поверхность. Звуки банкетного зала сталкиваются лбами, как два поезда, пробивающиеся сквозь друг друга. Я хохотала, хохотала, никак не могла уняться. Вынырнули на поверхность Маркус, Фрэнк и Джо. Улыбнулись.
Я поняла, что поезда сошли с рельсов и все мы погибли. Вот только никто пока этого не заметил.
– Эти старые калоши? – сказала я. – Сто лет ношу.
– Симпатичные, – сказала Джо.
– Кстати, я с ним познакомился, – сказал Фрэнк.
– С кем – с «ним»?
– С твоим. Со Стивеном. Разговорились у букмекера.
– Он вовсе не «мой».
– Чего вылупилась на меня? – сказал Маркус. – Мне по фигу.
– Подсказал мне победителя «Золотого Кубка», а я его пивком угостил. И тут оказывается, он знает мое имя по титрам. «Фрэнк Фингал, – спрашивает, – из «Рулетки Любви?». «Ну, – говорю, – неужто это долгожданная слава?». А он: «Нет, я только что к Грейс переехал».
– Он у меня комнату снимает.
– Выпьем кофейку? – спрашивает Маркус.
– Заткнись, – говорит Фрэнк. – Ну ладно, снимает так снимает. Я не хотел тебя обидеть, Грейс. Просто…
– Я не обиделась.
– Я знаю, что нет. Просто так решил сказать. И вообще, я ведь ни хрена в женщинах не понимаю!
– Я не «женщина».
– Два кофе? – спрашивает Маркус.
– Грейс, – произносит Фрэнк. – Не упускай его. Я серьезно. Он – то, что надо. Ну, хорошо, вообрази, что ты отбираешь людей для передачи – он из тех, кто выпрыгивает из кинескопа и плюхается прямо к тебе на колени. Кроме того, он везучий. ВЕЗУЧИЙ.
– Что здесь такое творится? – спрашивает Маркус. – Это не Фрэнк, которого мы все знаем и любим.
– Фрэнк отстранил себя от власти над собой, – говорю я. – Наверно, на спор.
– Ох, да иди ты на хрен, – говорит Фрэнк. – Иди ты на хрен, милая моя Грейс.
– Кто это? – окликнула с того конца стола Люб-Вагонетка. Как по заказу. Тут-то я и поняла, что в этом их загадочном спектакле мне роли не выделено.
– Да так, один парень просил, чтоб я его посмотрел, – сказал Фрэнк.
– Ну так приводи.
– Что? – спросила я. – Нет. Нет, он не годится. Он слишком… слишком естественный.
– Естественный? – вмешивается Маркус. – Что такое «естественный»? Йеллоустоунский парк, скажешь, не естественный? А швырни пакетик «Дейз» со Скалы Старой Веры – вот тебе и съемка.
– Бог свидетель, нам нужна капелька нормы, – сказала она, – после прошлой-то недели. Двое тихих психов и один буйный, плюс поп – любимчик прихода. Еще одна такая программа, и нам придется съесть юнгу.
– Может, соломинки будем тянуть? – вмешался Фрэнк.
– Тогда уж давайте тянуть контракты, – сказала с улыбкой Люб-Вагонетка, – посмотрим, у кого самый короткий.
– Блин, – пробурчал под нос Маркус. – Шлюпки на воду.
– Прыгай, не упади, – сказал Фрэнк.
– Прыгай, не упади, – сказала Джо.
– А как определить-то? – сказал Маркус. – Как определить, падаешь ты или нет.
* * *
После отцовского инсульта ничего не изменилось. Он по-прежнему утверждал, что голубой цвет ничем не отличается от зеленого. Он вытирал тарелки и по-прежнему ставил их не туда. Он остался все тем же человеком-не-на-своем-месте, только теперь он ожидал, что подлинная действительность придет и тронет его за плечо со словами: «ПОЙДЕМ, МИЛОК. УМИРАТЬ ПОРА».
И потому второй инсульт, как ни странно, принес облегчение. Теперь он живет с неправильной стороны зеркала и называет стул столом. Он не удивляется – мы тоже. Может, он и вправду хочет обедать за стулом, сидя на столе.
Его смерть была бы для нас еще большим облегчением. Наше семейство живет наособицу. Мы бы похоронили его парик вместе с ним и разошлись в разные стороны.
Мать перенесла вниз кровать и забрала его из больницы – хотела, чтобы он умер в пристойном месте. Нас всех, уже взрослых, созвали дожидаться. Потолки нависали слишком низко, унитаз удивительным образом просел до самого пола. Спали мы в наших прежних комнатах, Фил – осыпая вылезающими волосами свою детскую подушку, мы с Брендой, учтивые, как незнакомые – на наших парных кроватях.
Местом кончины была назначена гостиная, так что мы включили телевизор, чтобы раскрутить бедные, спутанные в клубок отцовские синапсы. Поочередно дежуря у его изголовья, мы дожидались того особого безмолвия, какое бывает после последнего вздоха. Сидя там, я думала: «Продержись, продержись, пока я не выйду из комнаты». Папа был без сознания. Пальцы у него раздулись. Половина лица и так уже омертвела. Показывали австралийский сериал. Я услышала его последний вздох и безмолвие. Затем – еще один последний вздох, еще одно безмолвие. В таком состоянии он продолжал жить день за днем. Мы выпили море шерри.
Я глядела на его лицо, которого все равно не могла ни минуты удержать в памяти. Парик сидел на макушке его иссохшей головы, непристойно бесшабашный и молодой. Дутый, как геройство. Я сидела и смотрела на парик, а он – на меня, и мы оба маялись в ожидании.
Дом был полон женщин – блаженствующих, твердо намеренных не отступаться до фатального конца. Они сидели в гостиной, отсчитывая на четках молитвы на сто лет вперед, так что выставить их за порог не представлялось возможным. Отец испустил сладко пахнущее неодобрительное шипение и попытался повернуться лицом к стене.
Ему удалось сообщить нам всем, что он еще жив:
Он начал произносить слово «канал».
Он разодрал атлас и съел все карты Америки.
Уяснив намек, мы начали вновь ругаться, как родня. Мать, стоя у раковины в санузле, обозвала Бренду шлюхой. Бренда наорала на нее в ответ. Сказала, почему это мать всегда затевает ссоры, когда она сидит на толчке. Сказала, что если она и шлюха, то не она одна – видимо, подразумевая меня, хотя теперь я могу прикрываться своей хорошей работой. Бренда работает с детьми. Мать считает, что с такой профессией порядочного жениха не встретишь.
Брендины случайные связи – наша величайшая семейная хохма. Ни у кого не хватает духу сказать вслух, что она спит с женщинами – даже у самой Бренды. Возможно, у нее уйма любовниц, но мне что-то не верится. А мать, вероятно, надеется, что у Бренды хватает ума иметь дело с профессионалками, а домохозяек на соцпособии избегать. И все же Брендина ориентация объясняется чисто идейными соображениями. Мне кажется, против мужчин она ничего не имеет – вот только боится, что от ее прикосновения у них выпадут волосы.
С кем спит Фил, никого не интересует. Когда отец умрет, Фил женится на миниатюрной дорогостоящей женщине с целой кучей обаятельных знакомых. Она будет очень милая, а мы все терпеть ее не будем. Фил абсолютно нормальный парень – то есть, как известно всякой женщине, у которой есть брат – законченный псих. Мы помним его в тринадцать лет – его страх перед менструациями, помешательство на мыле в форме зверюшек, увлечение религией, то, как после причастия он осторожно держал во рту яйцо – похоже, такую епитимью налагал сам на себя.
Фила наша мать любит как сына – и его, и все его слабости; зато Бренду – как себя: как среднего ребенка, как третьего лишнего. Они ссорятся из-за всего на свете и плачут в разных комнатах. Слоняются по кухне, выдумывая себе занятие. А вот меня, наоборот, не хватает даже на то, чтобы взять полотенце и вытереть за собой чашку.
Я дочь своего отца. Однако, когда он прикрутил свое обручальное кольцо к проводу от лампы и включил его в сеть, настала пора снова уйти из дома.
* * *
Люб-Вагонетку я ненавижу лишь до одиннадцати утра. После полудня мне уже все равно. Поздно вечером я ловлю себя на том, что сопереживаю ее застиранным маленьким синим глазкам, из которых дебильным ребенком выглядывает обида.
Сейчас она пародирует женщину на вечеринке – рассказывает истории о своих репортерских деньках. Пригнись и замаскируйся, и жди, пока тебя очаруют. «Пожалуйста, полюбите меня», – говорит она, навязывая тебе ощущение, что ты не очень-то чиста и кое-чего жаждешь. «Ладно», – говоришь ты.
Она рассказывает о кинозвезде с трансплантированными волосами, о священнике с зашитыми карманами, о министре здравоохранения, который отвел в сторонку звукорежиссера и спросил у него, что такое «отсосать».
– Она все-таки женщина, – говорит Маркус, – она и кокетничает, как женщина.
Потому что, насколько ему известно, женщина может предать тебя лишь в одном месте – в твоей постели.
Маркус убежден, что она с кем-то крутит. Говорит, что иначе и быть не может – программу давно бы сняли с эфира, когда бы от Люб-Вагонетки не пахло какой-то важной шишкой. Ну и кто это конкретно? – спрашиваю я. – Ну и когда они это успевают? Не такая уж она дура. – Но разве она умная? – возражает он.
Здорово она его одурачила. Маркус уверен, что однажды сияние его таланта прорвется сквозь тучи и он всем покажет, что такое власть и что такое телевидение. Я говорю, что у него лучше пошли бы дела, будь он чуть поглупее – это, кстати, он и сам мог бы понять, поскольку вырос в деревне. Нет, Маркусу еще долго придется дожидаться своего шанса. Для карьеры у него нет чутья – точнее, с чутьем все в порядке, вот только мозги мешают.
– Есть лишь один способ ее обойти, – говорю я. – Заставить ее бежать по ее же собственным следам.
– И как же это сделать? – спрашивает он.
– А я почем знаю, – говорю я. А он таращится на меня, словно на двухголовое чудище.
Люб-Вагонетка рассказывает байку о женщине из Белфаста, которой пришлось собирать мужа по кусочкам в собственном палисаднике. Интервью получилось блестящее – даже диван выглядел идеально. Когда женщина закончила свой рассказ, воцарилось молчание, и Люб-Вагонетка чуть повела плечами – закругляемся, дескать; так распорядитель похорон кивает могильщикам. И тут оператор, чье имя не стоит называть, обратившись напрямую к женщине, заявил: «Прошу прощения, у меня тут проблемы с техникой. Вам не трудно будет все это повторить?» – и коттедж-двухсемейка оцепенел от ужаса.
Весь сюжет отсняли по второму разу. Получилось нечто кошмарное, из рук вон. А потом, просматривая запись, она увидела, что в первый раз оператор просто нажал кнопку «Стоп»! За такие фокусы можно вылететь с работы – но это еще были цветочки по сравнению с тем, как в дверях оператор взял вдову за руку и похотливо заглянул ей в глаза.
– По-моему, он вел себя, как кобель, – говорит она, – я уж молчу, что антипрофессионально. Но что тут поделаешь?
– А может, это была любовь, – говорит Джо.
– Любовь? – переспрашивает Маркус.
– ЛЮБОВЬ! – вопит Джо, стукнув по столу вилкой. Мы все смотрим на нее, пытаясь вообразить ту разновидность любви, о которой она говорит. Любовь, от которой выключаешь камеру.
* * *
Я была влюблена. Когда у нас всех утряслась жизнь, между двумя инсультами.
Я ушла из дома. Как мне тогда казалось, вовсе не из-за отца. Мне казалось, я просто следую своим политическим убеждениям: наша сестра должна использовать все возможности для роста. И я двинула в Англию – в страну, где женщины не хоронят своих младенцев в силосных ямах, в страну, где люди умеют ценить некрашеные сосновые панели. Контрацептивы и красивые стены – вот все, что дала мне чужбина.
Спустя полгода я проснулась с ощущением, что чья-то рука душит меня во тьме. В комнате никого, кроме меня, не было, я находилась в Стоук-Ньюингтоне и жизнь моя практически не имела смысла. Не влюбись я в англичанина, я бы уехала домой.
Любовь. Среди всех этих чужих пшеничных полей. Казалось, я так долго тренировалась – и все равно оказалась не готова: не готова к тому, как уютно устроился у окна стул, к краске – слишком яркой, к его коже. Он был блондин. Он был достаточно взрослый, чтобы хорошо разбираться в жизни. Он был сдержанный. Раздевать сдержанного человека – это нечто.
Как же трудно уяснить огромную разницу между «одна» и «двое». В конце концов я стала постоянно думать о смерти – так было проще. О его смерти, о моей смерти, о его похоронах, о моих похоронах, о холоде его лица, о том, как я упаду в обморок под звуки органа, ослепнув от горя.
Лицо у него и на самом деле было холодное, глаза добрые, холодные и синие, а руки – одновременно горячие и мягкие. После акта он обычно залезал в ванну и, лежа в ней, разговаривал со мной – а я, сидя на крышке унитаза, зачарованно разглядывала его свободно парящий в воде член. Его распаренное лицо – кроваво-красное, губы – узкие и бледные, корни волос – почти белые в местах, где они были вшиты в его стыдливо рдеющее темя, а глаза – небывалой синевы.
Лжецы всегда казались мне людьми тонкими и привлекательными – в чем виноват (конечно же) мой отец. Но в то же самое время отцовский парик казался мне талисманом против другой, не столь занимательной лжи. Я думала, у меня иммунитет. Так что же меня держит здесь, в Стоук-Ньюингтоне? Что меня заставляет смотреть, как некий тип смывает с себя мой запах?
Я вернулась домой, в страну, где всегда можно угадать, женат мужчина или нет, а если не получается догадаться, легко навести справки. Впрочем, мне было по барабану, потому что я любила (понимайте это слово, как знаете) мужчину, который как-то в субботу утром позвонил и попросил родить ему ребенка. Без проблем, сказала я. В Ирландии мы только так и рожаем. Без передыху. Итак, я села в самолет и, перелетев Ирландское море, оказалась в спальне гостиничного номера, а там разделась, легла на вышитое покрывало и сказала: «Я тебя люблю», а он сказал: «Я тебя люблю» и опустил на меня свою медлительную мошонку – вместилище чуда творения.
Ох, я его взаправду хотела; его исстрадавшееся сердце, его ребра-ножи, его веки, из-под которых сочился ослепительно-синий свет… Я так сильно его хотела, что мне показалось: ЭТОГО никогда не будет, ничем не закончится эта любовь, звучавшая в номере вслух, как песня. И я жутко удивилась, обнаружив, что тело мое в свой звездный час дезертировало – хлопнуло дверью и в бешенстве сбежало домой. То, что было простором, скрутилось в канат – а канат сплелся с моими кишками и зачалился за мое сердце, прочно зачалился, намертво. Я выплевывала даже мысли о своем англичанине – с такой яростью, что боялась вывернуться наизнанку, там, на вышитом покрывале, в тесном уголке заграничного отеля, который навечно остался Ирландией.
И после этих бескровных родов мои клетки научили меня забывать его, каждый день понемножку, а глаза мои отказывали мне в слезах, а моя матка оставалась спокойной и тактичной. – Сука, – сказала я и послала к черту политические принципы вместе с воспоминаниями о его голосе и о его абсолютной и непреодолимой правильности, которой я по сути вообще не была нужна.
* * *
Фрэнк что-то притих. Ноль шуток, Фрэнк? Ноль шуток.
Раз такое дело, мы начинаем трепаться о фильмах, которые когда-нибудь сделаем. Маркус думает снять комедию о Северной Ирландии – комедию, потому что это единственный способ не облажаться с этой темой – а может, фальшивый документально-садистский фильм с одной подлинной документальной сценой: чтобы уесть снобов. Я собираюсь снять кантри-ирландский триллер. О любви. О любви?
– Гомосексуальный «фильм-дорога», в стиле «кантри-энд-вестерн». Место действия – Киннегэд.
– С гомиками в Киннегэде туго.
– С дорогами в Киннегэде туго.
– Это вы плохо смотрели. Начинается фильм с трупа в автомобильном багажнике.
– Это и есть любовь? – спрашивает Фрэнк.
– Если тебя такая любовь устраивает – да. Начинается с трупа в автомобильном багажнике. Титры. Нет, ретроспекция. Один певец, работающий в стиле «кантри-энд-вестерн», снимает в баре парнишку совершенно заурядной внешности, этакого волчонка. Секса – немерено. Психопатический такой секс. Он селит его в своей квартире в Дублине, рояль там белый, ковбойская шляпа-ведро – тоже белая, спальня белая с овчинами вместо ковров, а однажды приходит домой – такой распаленный, взволнованный, слегка страдающий, в рассуждении заняться сексом – а на постели тело. И ладно бы просто неизвестное тело – а оно вдобавок мертвое. Ну, он садится на кровать и сидит, как пень. Потом протягивает руку и развязывает покойнику шнурок на ботинке, а тот его молодой дружок сидит в соседней комнате и подбирает мелодию на белом рояле.
– Не оставь своего мужчину в беде.
– Затемнение – и шоссе. Белый «бимер». Нет, красный «тандерберд». Нет, машина должна быть белая, и едут они под песню, которая звучит по радио.
– Не оставь своего мужчину в беде.
– Затемнение. Вид на машину сзади. Из багажника что-то капает. Из багажника капает кровь, потому что в багажнике труп, и кровь льется в багажник.
– И?
– И этот самый труп у них в багажнике.
– И?
– Ну, и они не знают, что делать. Просто едут, куда глаза глядят, под радиомузыку. Из багажника течет.
– Не тяни резину, – говорит Маркус.
– Тогда ты мне расскажи, – говорю я. Говорю вполне серьезно.
– Ладно, – говорит Маркус. – Они останавливаются пообедать.
– По-обе-дать?
– Это кино. Они останавливаются пообедать.
– Нет!
– Да, – говорит Маркус. – Останавливаются пообедать. В такой гостинице на главной улице, которая вообще-то всего лишь пропахший капустой жилой дом, и на раздаче работает надломленная жизнью женщина, похожая на его мать.
– А снаружи, – говорю я, – кровь все еще капает из багажника. Капает на пластиковый стаканчик в канаве.








