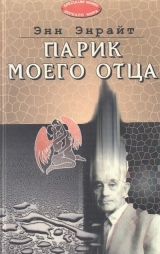
Текст книги "Парик моего отца"
Автор книги: Энн Энрайт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Энн Энрайт
Парик моего отца
СТИВЕН
К тому моменту я нуждалась во всем, что вообще можно раздобыть. Во всем, кроме денег, секса и власти (этими тремя вещами разжиться легко, но от них одна боль). Ангел с совершенно обычным лицом позвонил в мою дверь и попросил – по праву ангелов – налить ему чаю. Едва войдя, он открылся мне – и без обиняков высказался о моей способности к деторождению. Кому она на фиг нужна? Я хотела отобрать у него чашку – но как-то не получилось.
Я его выпихивала – а он сопротивлялся с таким видом, будто просто выполняет свою работу. Я-то думала, от начала Веков Вечных он парил в тех местах, где горе и радость – едины, где знание – бородатая шутка, а Время – всего лишь окно среди окон. Я-то думала, у него одно занятие – петь. Оказывается, ошибалась. Все ангелы, каких он знал, – простые люди, которые покончили с собой оттого, что им было плохо. И теперь их дело – бродить по земле, пресекать отчаяние, отращивать себе крылья.
Очень рада слышать, сказала я, мне всегда казалось, что к самоубийцам относятся слишком сурово. Словно самоубийство – это такое зазорное развлечение, добавила я. Он сказал, что ангелом быть – тоже не баклуши бить. Много чего приходится в себе давить, много о чем сожалеть. Кстати, он будет мне очень обязан, если я перестану пялиться на то, что у него между ног – островок тусклого мерцания на его ярко светящемся теле. Он спросил, как поживает мое отчаяние. Я улыбнулась. И сказала, что нечего на меня зря время тратить.
Стивен руководил бригадой строителей в Канаде, на него были возложены кое-какие бухгалтерские дела, а также большая ответственность за материалы и транспорт. Построил мост в Риджине – и дальше все само собой покатилось. Его женитьба была – выражаясь словами самого Стивена – из разряда тех неожиданностей, что подстерегают молодых парней, но дочки стали его спасением (они его приучили читать, между прочим), а мосты – вообще самое лучшее, что есть на свете. А вдобавок – это бескрайнее ясное небо и холодные зимы, когда пальцы запросто примерзают к балке; берешь в руку гаечный ключ – и ничего, кроме ожога, не чувствуешь. В 1934 году он работал в Онтарио. Почти достроил мост – пролеты с обеих сторон навесили, оставалось перекрыть середину. Однажды ночью он прошел по ездовому полотну до места, где оно обрывалось, и сделал шаг вперед. Надо сказать, что петля, которую он предварительно накинул себе на шею, его не удушила – веревка задубела от стужи. И прикончил его, в конце концов, только холод.
Вот и все, сказал он, и ничего не осталось, кроме неутихающей боли за человечество и обостренной чувствительности к погоде. Он улыбнулся мне сияющей, как рай, улыбкой, которая расплескалась почти по всему его телу – только отметин на шее не затронула.
– Ну и как там, с тех пор как Бог умер? – спросила я со смехом. Он поглядел на меня.
– А как поживает твоя мать? – спросил он. Удар ниже пояса, подумала я, ибо сейчас она в общем-то счастлива, несмотря на. Кроме того, между всякой матерью и ее детьми есть заморочки, о которых лучше забыть, когда жизнь вроде бы входит в русло и течет себе тихо-мирно.
Оказалось, вопрос был просто дежурный – под номером два в списке Стивена. Его собственная мать как-то раз, когда мыла посуду, вдруг скрючилась от горя. Со стороны казалось, она пытается засунуть голову в чайник – потому что ей надо было прижаться к чему-то лбом, а плакать она не могла.
Байка про мать и чайник меня не удовлетворила. Мысль о матери не была последней его мыслью перед смертью. Я сказала, чтобы он не стеснялся и продолжал – и он выдал весь список.
СПИСОК
Рыдала ли ваша мать, умер ли ваш отец, совпали ли эти два события во времени и которое из них было причиной, а которое – следствием.
Не обрекали ли вы лампочки на горение в одиночестве, задергивали ли вы шторы на ночь, вставляли ли вы хоть раз в жизни вилку в розетку просто так, чтобы ее порадовать.
Обмочились ли вы хоть раз в жизни прилюдно, и доставило ли это вам приятные ощущения.
Преследовало ли вас чувство, будто вы что-то забыли в поезде. Может, потому вы и курите – чтобы хлопать себя по карманам якобы в поисках сигарет?
Подслушивали ли ваши личные разговоры. Брызнули ли вы хоть раз в жизни кровью на зеркало. Во время полового акта – сожалели ли вы о том, что делаете.
Чувствовали ли вы отвращение при виде чего-то красивого.
Умер ли за вас Иисус Христос.
Хранили ли вы кусочки чужих тел – например, локоны.
Видели ли вы хоть раз в жизни беременную женщину, которая плыла бы на спине.
Я вся издергалась оттого, что ужасно хотела Стивена. Тем более, что он – на всякий случай – улегся на ночь со мной. Понимаете, мы оба пытались сообразить, какого еще вопроса недостает в списке, и хотели использовать время по максимуму.
А тут еще и на работе проблемы. Я думала о нем, меж тем как он лежал рядом, не приминая постели. Везет мне на таких, сказала я, холодные руки и ожог от веревки, но он что-то шептал во сне – и в итоге даже простыни раскинулись с довольным видом.
Оно конечно – его несказанной, невероятной красоты улыбка. А еще – тот факт, что он был благословлен, что в нем, казалось, пребывали все произнесенные и удержанные при себе благословения, например, благословение, в котором отказала мне моя мать, и то, в котором я отказала ей, хотя мы обе очень суеверны в подобных делах.
А еще благоговейный страх и прочий ужас-ужас-ужас – что под одеялом всегда ценно. Не говоря уже о непроизносимом, негласном и невыразимом – и все прямо у меня под боком, только руку протяни.
– Ты забываешь о целомудрии, мудрости и милосердии, – сказал он. – Эти свойства может иметь даже человек.
– Не-а, – ответила я и принялась к нему приставать с воплями: «А это, скажешь, целомудренно? Это, скажешь, мудро?» – и вообще вела себя отвратительно, как случается в таких ситуациях.
Он сказал, что нынче, насколько ему известно, нимфомания вышла из моды, но в его время она доставляла много забот родителям. Применялись различные методы, как с использованием обезболивающих, так и без, сказал он, и самым щадящим средством было повесить женщине на шею мешочек с порошковым нафталином. Так что он встал с постели и пошел искать «Антимоль».
Всю ночь он парил в шести футах над кроватью и плакал, и до списка мы так и не добрались.
К завтраку я уже знала, что хочу ему сказать. Я хотела сказать: «Делаешь вид, будто сам про это не думаешь, сукин ты сын, будто тебе не хочется согреть свои холодные руки в моем теплом паху. А насчет твоего последнего деяния перед смертью я вообще молчу».
– Я отпустил хлеб свой по водам[1]1
Перефразированная цитата из Библии («Отпускай хлеб свой по водам, ибо по прошествии многих дней опять найдешь его». Книга Экклезиаста, гл. 11: 1) – примеч. перев.
[Закрыть], – сказал он.
Моя мать позвонила сообщить, что меня нет на работе.
– Ты не на работе, – сказала она. – У тебя все в порядке?
– Сегодня суббота, – сказала я. – А как ты?
– Замечательно, – ответила она, потому что мы обе врем одинаково. – Какие новости?
– Да в общем никаких, – ответила я (на кухне у меня ангел, тостер ломает), – а у тебя?
– Да здесь ничего нового. (Твой отец умирает, как, впрочем, и все мы).
И мы повесили трубки.
Стивен смотрел телевизор. Сидел на диване и смеялся. Когда начался прогноз погоды, он глянул на вид Земли со спутника и заявил: «Опять все наврали! Ха-ха-ха». Он рассказал мне про одного своего знакомого ангела, который покончил с собой тремя разными способами сразу. Когда смерть наступила, она была столь насильственной, что этот ангел до сих пор рассыпается в прах и, вместо того чтобы ходить, проливается дождем.
А один парень, сказал Стивен, умер, слушая, как в соседней комнате милуются любовники. Довольно приятная, на его взгляд, кончина.
– Он специализируется по звукам поцелуев и их цвету.
– Надо же, – сказала я, думая о красном.
И так мы просидели весь день, вырывая друг у друга пульт, и каждый надеялся дождаться, что другому станет невмоготу. От новостей он плакал, а иногда заливался беспричинным смехом. Я точно так же среагировала на «Домик в прериях». Стивен довел меня до ручки тем, что указал на одного актера:
– Я его знаю. Цианистый калий. Шестьдесят четвертый год. Хороший парень. Специализируется на матерях гомосексуалистов и обуви.
Потом началась программа, которую делаю я. Она называется «Рулетка Любви». Я сказала:
– Ты небось сроду ничего кошмарнее не видел?
А Стивен отозвался:
– Это о Любви, да?
И я ушла на работу – заставлять людей временно возлюбить друг друга.
В следующие выходные я повела его в город. Надеялась, в толпе попадется кто-то, кому он нужнее, и подцепит его своим горем, как крючком.
Чтобы провести Стивена через всю боль между Главпочтамтом и мостом О’Коннела, мне пришлось держать его за руку. Перед «Клериз» он встал на колени и, как ребенок, зачерпнул с мостовой пригоршню пыли. Тогда я завела его внутрь, аж в отдел электротоваров, и объяснила ему в подробностях насчет тостеров – авось подействует. Он так засиял, что я догадалась: по текучему времени и своему телу он тоскует еще сильнее, чем по телу своей жены.
Пока мы шли к реке, я в него влюбилась. Он спел мне «Песню канадских лодочников». Дождь не мочил его, ветер пролетал сквозь него беспрепятственно.
Мы смотрели вниз, на воду, и я сказала, что в принципе можно и попробовать. Если он захочет, я перестану гоняться за деньгами, а если он ретроград, то и с похотью завяжу. Я сказала, что между нами что-то есть – что-то подлинное и странное. И никуда оно не денется – сколько бы Стивен ни прикидывался, будто ничего такого нет. У него побелел кончик носа. Он сказал:
– Оказалось, мне мало было умереть. Неужели ты думаешь, что секс поможет?
– Ты совсем как тот мой, последний, с которым я встречалась, – сказала я. – Но он хотя бы делал над собой усилие.
Он начал петь.
Он все еще пел, когда в дом заявилась моя мать с какой-то едой в герметичной кастрюльке. Похоже, они поладили.
– Никто на свете так для меня не пел, – сказала она.
– Нравится? Забирай его, разрешаю, – сказала я.
– Спасибо за курицу, – сказала она. – Приятно видеть, что тебе еще не на все наплевать.
– Иди ты знаешь куда со своим сарказмом, – сказала я и оставила их вдвоем на кухне – беседовать о Боге.
Пошла в гостиную и включила телевизор, чтобы заглушить их разговор. Для застенчивой женщины моя мать на редкость громогласна. Она сказала: «Жаль мне нынешних молодых девушек, жизнь им во всем отказывает». Она сказала: «Какая досада, что она петь не умеет. Я всегда думала: голос – лучший дар на свете. Рядом с голосом все остальное – ничто». Я сделала телевизор погромче и начала биться головой о стену.
– Знаешь, что я думаю, – сказала она, когда я ее провожала до двери, – насчет твоих отношений с мужчинами?
– Да, – сказала я. – Ладно, мам, катись на фиг и оставь меня в покое.
В коридор вышел Стивен. Она обернулась к нему:
– Что я не так сделала? – спросила она. – В лето, когда я ждала эту барышню, я каждый день купалась в море – и под солнцем, и в дождь. И говорила Богу: пускай это будет моей молитвой за ребенка – кем бы он ни был, что бы из него ни выросло. А теперь, – сказала она, – теперь только поглядите на нее.
Той ночью я вытолкала Стивена из постели. Потом встала сходить в туалет и обнаружила, что он голый качается на душе – обвил шлангом шею и повис. Сказал, так ему лучше думается – но его куцые крылья слегка поникли. К утру он снова раздухарился. Объявил, что нашел, как минимум, половинку ответа. Не его это дело, сказал он, переживать.
Я позвонила матери и сказала ей, что мы не виноваты.
ЧТОБ БЫЛА КЛУБНИЧКА
– Не жалейте клубнички, – повторяет Фрэнк, режиссер «Рулетки Любви», ибо он думает, будто мы работаем в бардаке. Я отвечаю: – Спасибо, Фрэнк, но я лично работаю в солидной конторе.
Ладно. Это факт, что я работаю в «Рулетке Любви». Передайте пакетик для блевотины. Я работаю в «Рулетке Любви». Я верю в идею «Рулетки Любви» – в разумных пределах. По пьяни я начинаю оправдывать «Рулетку Любви», оправдывать то, что проделывают люди перед нашими камерами, и то, что мы их заставляем делать: все равно свободу воли никто не отменял.
Насчет свободы воли у Стивена свое мнение – но он ведь, подлюга, ангел.
«Рулетка Любви» – вся из себя розовая. «Рулетка Любви» – это хит. Хищный обаяшка-ведущий, липовые состязания, неподдельный секс, а уж смеху-то, смеху. Это гениальная и гнусная программа. Иногда она просто гнусная, но тут уж ничего не поделаешь – по пятницам мы обычно пьем.
В офисе сам черт ногу сломит: треск-гром-вой-аварийных-сирен на всех частотах. Люди мечутся во все стороны, словно в родильной палате для слепых. Кричат, чтобы их правильно поняли, шепчут, что младенчик-то без глазок. Телефоны звонят, вазы стоят пустые, на дверце шкафа болтается плакат с голым красавчиком, у которого выдрано причинное место. В углу посвистывает пустой – в сеть включен, но ничего не показывает – телевизор. В общем, сурово.
На стене – доска, на доске написано:

Спасибо за баптиста-фанатика, сукины детки. Я-то думала, мы не в силах осветить существо выше шести футов трех дюймов…
Раньше мы друг друга подсиживали почем зря, теперь даже не напрягаемся. Все равно толку от этого не было и нет.
Почти все на свете само собой смывается и забывается. Мы с Маркусом позабыли, что между нами было нечто интимное, а может, ничего интимного и не было, или это самое интимное чуть не стряслось в золотые прежние, жуткие прежние денечки, когда все пили лишнее, болтали лишнее, ну, и попадали от всего этого в больницу либо на «Четвертый канал»; в те денечки, когда мы буквально жили в офисе, чтобы выпихивать программу в эфир – нет, не выпихивать, опрокидывать, как грузовик с полным кузовом почтовых голубей. Мы брали ящик пива и, не жалея глоток, ругали еду, грязь, воду, деньги. Потом, пока все мы ругались между собой, я шла воровать виски из кабинета Люб-Вагонетки и пыталась уговорить либо Маркуса, либо Фрэнка нассать в ее нижний ящик, поскольку сама это сделать не могла.
Ну а теперь мы просто вместе работаем и иногда развлекаемся. Программа выкатывается в эфир сама, ей без разницы. Мы виним во всем Люб-Вагонетку – она ведь главная. Не сказать, что она гадит специально – но ведь должен хоть кто-то наживаться на наших страданиях?
Люб-Вагонетка стоит посреди комнаты на антресолях, где обитают Маркус с Фрэнком. Они вечно взбегают к ней по идущему вниз эскалатору, или проскакивают мимо, спеша ошибиться этажом. Они сплетничают о ней, как о живом человеке: о ее одежде, о ее решениях, о ее груди, о ее вранье, суровая она или кроткая, и существует ли вообще. Тем временем эскалаторы то разгоняются, то замедляют ход, или перестают ползти вверх и начинают ползти вниз, а она все стоит себе и смотрит, с телефоном в руке.
Я ее влиянию не поддаюсь. Она – женщина. На своем веку она побывала и внизу, и наверху. Теперь она наверху. И пьет.
Когда она пьяна, она говорит о Телевидении. Ее послушать, так «Удача» и «Провал» – все равно, что запахи человеческого тела; нечто возбуждающее и банальное, и сколько ни три, все равно не смоешь.
Когда она трезва, она говорит о риске, о том, что мы должны стараться, чтобы наша программа оставалась рискованной. Она заключает, что телекомпания утратила свою «миндалинку», что от одного из участников «попахивает керосином», что из студий нам присылают «мухобель», что наш ведущий – «приз из черного ящика». Когда она пьяна, то говорит, что мы закладываем фундамент новой Ирландии.
Когда она трезва, она говорит: «Классная программа, ребятки», ибо, по ее убеждению, благодарность начальства – лучшее украшение титров.
ТИТРЫ
Консультанты
Элейна Как-Ее-Там
и
Ассистент продю…
Проплывает Джо в компании
Администратор
Боже праведный
Операторы
Проехали
Звук
КТО-КТО??
Свет
Погодите-ка
Грим
Во несется
Художник-постановщик
О-ох
Спецэффекты
Натурная съемка
Озвучивание
?
Продюсеры
ага
Маркус О’Нил
Грейс… мамочки
Режиссер
Фрэнк
Главный продюсер программы
Люб-Вагонетка
Короче – пятнадцать секунд до Заставки. В студии объявлена боеготовность. Затем – четвертая (четвертая камера, то есть) берет общий план сверху, третья – общий, и вторая – жирного паршивца. Так, этого я не говорила. Врубить вэтээр[2]2
Вэтээр – видеомагнитофон.
[Закрыть]. (Извините, я только сигаретку…). И-и-и-и-и – мотор! (Трампам-Трампам-Трампам-Трам)… К эфиру Грэмс…. Выводим третью. ГРЭМС, ВАЛЯЙТЕ! И ты, Питер, ДУЙ! Нормально.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Леди и Джентльмены, это… Рулетка Любви! А вот и ваш Крупье Любви… ДАМЬЕН ХУРЛИ!
Овация-овация-овация. Сигнал Дамьену и второй.
СТОП! СТОП!
Продолжаем. Первой – парней.
Хватит-молодцы-давайте-по-новой. А ну-ка, еще разок!
Третья камера – публику. Публику. Публику бери. А теперь вторая.
Ну вы даете, ребята. У-ф-ф. ВАУ-ВАУ, сегодня у всех нас просто-таки дрожат коленки. Правду сказать, мы внутренне оху… внутренне охаем от волнения.
Хватит отсебятины.
Кто же обретет ЛЮБОВЬ на РУЛЕТКЕ ЛЮБВИ этой недели? ВЫ даже не поверите, какой сегодня мы приготовили сюрприз. И кому – ВАМ! Даю головку на отсечение, во всем зале не останется ни одной… сухой… ШТАНИНЫ.
Отснять заново.
Кстати о НОЖКАХ, вот она – прекрасная леди этой недели. Вот девчонка, которая выберет своего везунчика! Очаро-помрачительная, очаровательная МОЙРЭ из Донни-КАРНИ!
Четвертая, эй! Третья камера – гони мне Мойрэ. Наезжай на Мойрэ. На Мойрэ наезжай, третья.
Ура-ура. Погоди, Мойрэ. Погодите, все. Это я, знаете ли, так, для тренировочки. Верно, верно, правильно подсказываете! Вперед мы пропускаем … ПАРНЕЙ!
Опять первая. Овацию в фокус. Отъезжай. Отъезжай. Валяйте. Как-нибудь потом смонтируем, потихонечку-полегонечку. А теперь вторая. Мыкаемся дальше.
Не знаю уж, чего тут волноваться. На «Рулетке Любви» в жизни не случалось ничего по-настоящему ужасного – невзирая на тот факт, что вся ее судьба в руках одной безвестной девицы. Геморрой ста сорока планерок, агония семидесяти съемочных уикэндов, мука шестисот двадцати трех телефонных разговоров с реквизиторами – все это сбивается в кучу и замирает, затаив дыхание, в ожидании одного ее слова, одного ее наития. «Я выбираю номер три». Она могла бы выбрать номер два или номер один, но статистика гласит, что она выберет третий – потому-то мы и ставим на дальний фланг самого симпатичного.
Ни одна еще не сказала, к примеру, «Я выбираю номер пятнадцать». Ни одна еще не отказалась выбирать. Ни один мужчина ни разу не вскочил со своего кресла в зале с воплем: «Протестую, она помолвлена с другим». Еще ни одна женщина не завизжала: «Лесба!». Еще ни один судебный пристав торжественным или каким-либо иным жестом не развернул перед камерой свидетельство о рождении, доказывающее, что наша героиня несовершеннолетняя. Еще ни один субъект в помятом костюме не вышел на подиум и, извинившись по-немецки, не задрал девушке платье, дабы продемонстрировать сокрытый под ним пенис.
Она просто говорит: «Я выбрала номер три» и с музыкой, слезами и улыбкой, пока на титрах раскручивается свиток со скромной благодарностью дамам, украсившим зал такими прелестными композициями из цветов, она целуется со своим Номером Три и уходит с ним. Стены студии рушатся, открывая натурную площадку с готовым к вылету самолетом. Под звуки оркестра он воспаряет в небо. Восторженная стюардесса размахивает окровавленной простыней, а затем швыряет ее вниз, прямо на объектив оставшейся на земле камеры.
– Нет, – говорит Дамьен, расцветая до степени полного радушия. Этот кругленький карапуз – один из величайших диктаторов на свете. Когда он на тебя смотрит, кажется, будто ты с ним наедине и заодно; стоит ему отвести взгляд, и начинаешь презирать его всей душой. Мы с ним очень даже неплохо ладим.
Фрэнк, всю программу командовавший из своего бокса, сутулится в углу. У Фрэнка в руках полный бокал джина, а на лице ровно никакого выражения – точно ветром все сдуло. Он и Дамьен друг друга в упор не видят. Вместо того, чтобы направиться к Фрэнку, Дамьен подходит ко мне – не потому, что на этой неделе за передачу отвечаю я, а потому, что я к нему хорошо отношусь.
– Нет, – говорит он.
– С чего вдруг «нет»? – говорю я. – Прошло отлично.
– Хватит с меня сопляков из Данлири.
– Он стал гвоздем программы.
– Это я – гвоздь программы.
– Иди на хер и выпей. Прошло отлично.
– Где были мои сигналы? – он говорит, что стоял, как хрен на лесбийском пикнике, дожидаясь сигнала – тут-то ему и залепили по морде кремовым тортом. А я говорю, что это был лучший момент передачи – и фиг с ней, с камерой, которая не пережила этого угощения. Плевать, что по цене такая камера эквивалентна особняку с пятью спальнями в Южном Дублине – правда, за его заднюю стену пришлось бы доплачивать. Дамьен спрашивает:
– Как тебе моя реакция?
Значит, гэг с тортом он подстроил сам – на все готов ради капельки внимания. Он знает, что я знаю, и валит вину на Фрэнка. В хладнокровии ему не откажешь.
– Ноль сигналов. Сноб долбаный. Мою лучшую фразу вырезал. Пришлось переснимать зачин без моей лучшей фразы.
– Это не Фрэнк решил вырезать. Это была моя инициатива. Иди теперь наябедничай Люб-Вагонетке. А то ей, похоже, одиноко.
– И еще как пойду, бля. Блядские продюсеры.
Спустя десять минут публика удаляется по коридору, отплясывая конгу и измываясь над охранником. Дамьен присаживается на диван, чтобы впасть в короткометражный ступор, после чего вскакивает и начинает хлопать по всем попавшимся спинам, как спинохлопательная машинка. Люб-Вагонетка кружит по комнате. На нее ворчат сквозь зубы: ворчит Дамьен, ворчат операторы, ворчат звукорежи, ворчит тип из фирмы подушек-пукалок. Она кивает направо и налево, особенно Фрэнку.
Фрэнк – хороший режиссер. И вдобавок мой друг. Возможно, поэтому он не мешает своей ладони, вконец запутавшейся, где чья нога, опуститься на мое бедро.
Каждую неделю он говорит мне, что месть – процесс многоступенчатый, что пришибить Дамьена было бы приятно, но гораздо эффективнее просто выпустить его на экран. Когда Фрэнк, наклонив голову, тянется губами к бокалу, кажется, что он опускает в джин хоботок – как бабочка в бутон.
Подходит Маркус в драчливом настроении.
– Извини за «Свиданку»: у оператора был понос.
– Угу. Качели-карусели.
– Вот и поехали, – говорит Фрэнк, хотя я лично даже рта не раскрывала.
Дело в том, что у Маркуса глаза зеленые или карие – в зависимости от освещения. Карие глаза против меня ничего не имеют, зато зеленые именуют меня дрянью ушастой. В старые времена Маркус любил говорить: «А насчет тебя я вообще сомневаюсь. Сомневаюсь, что ты вообще женщина». Сегодня вечером он просто заявляет:
– Торт был классный.
– Спасибо.
– А как Твоя Женщина? – спрашивает Фрэнк.
– Мрак, – говорит Маркус. – Блеск.
– Я влюбился, – сообщает Фрэнк.
Я говорю:
– По-моему, она в своей гримерке.
– Ага.
– По-моему, она там ревет.
В этот момент входит Мойрэ из Донникарни, с красными и сияющими глазами. Мы говорим ей, что она была великолепна, после чего офис в последний раз вздымается волной, разбивается брызгами и разъезжается по домам. Люб-Вагонетка удаляется, как Королева-Мать, поскользнувшись в дверях. Маркус остывает. С Фрэнка соскакивает влюбленность. Спустя полчаса мы втроем опять изнываем от скуки, стоя посреди мостовой и пытаясь заарканить такси до города.
В ночном клубе мы расходимся. Я замечаю мужика, с которым спала раз или два. Я окликаю его, перекрикивая музыку. Я говорю: «Ты считаешь меня женщиной. Ты считаешь меня женщиной. Ты считаешь меня женщиной». И он зовет меня к себе. Уже уходя, я замечаю, что Мойрэ из Донникарни пытается – тщетно – закадрить Маркуса. Ее Избранник-Любви дуется в углу. Их обоих пора уложить баиньки, но не могу же я работать круглосуточно. Надеюсь, Маркус с ней переспит, и в ближайший понедельник я смогу ему за это врезать, но шансов мало. Такие поступки не в его духе.
Следующий день – суббота, «утро-после-вчерашней-ночки-ноченьки», барахтаться в передаче, которая все еще барахтается во мне, заворачивать за углы, ожидая засады; в сердце у меня плавает капелька дохлого адреналина.
Я опаздываю. Джо тихо сидит за своим столом, уставившись на телефон. Группа в аэропорту – ждет Мойрэ, которая как сквозь землю провалилась.
Джо ищет другой рейс, а я – Мойрэ. Ключ в отеле она еще не сдала. Когда я приезжаю, ее одежда разбросана как попало по пустому номеру. Звонит телефон. Это Джо с тремя почти подходящими вариантами – подходящими, да не слишком. Мы решаем двинуть в другое место – в Киллэрни. Я обдумываю, не позвонить ли Люб-Вагонетке, решаю, что не стоит, обдумываю, не уволиться ли, умываю физиономию и усаживаюсь ждать.
На кровати – пара туфель. На полу – брошенные колготки. Мне хочется поменять их местами. Пусть туфли будут на полу. Пусть колготки будут на кровати. Но я не могу к ним прикоснуться. Это чужие вещи, да еще и ношеные.
Я вся в поту. Будь здесь Стивен, он подобрал бы колготки и свернул. Будь здесь Фрэнк, он обнял бы меня за плечи и прочел бы лекцию о грехах женатого мужчины. Маркус, не обращая на колготки внимания, лег бы на кровать и спросил бы, из-за чего сыр-бор. Мелочь, но приятно.
Я чувствую запах этого, вчерашнего. Легкий и теплый. Улыбаюсь. Все утро я пыталась его идентифицировать. И тут до меня доходит. Запах детских волос. И похмелье дает мне по мозгам.
В номер входит Мойрэ. Нагибается, подбирает с пола колготки, без удивления оборачивается ко мне.
– Семь пятьдесят отдала, – говорит она, – а как только надела, сразу поехали.
Она присаживается на кровать и, нажав кнопку на пульте, включает телевизор.
– Гостиничные спальни, – говорит она мне, – это же курам на смех.
На экране Опра беседует с людьми, пережившими удар молнии.
– Знаете, я где-то слышала одну подробность, – говорит Опра. – Скажите, исходя из вашего опыта: это правда, что человек, в которого – или в которую – ударила молния, будет до конца жизни мучиться ОТ ЖАЖДЫ? Это правда так?
– Ладно, сойдут, – говорит Мойрэ. – Извините, что припоздала.
И начинает натягивать колготки со спущенными петлями.








